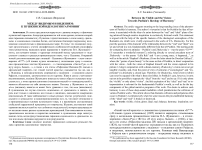Между видимым и видением: к пушкинской идеологии гармонии
Автор: Савинков Сергей Владимирович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (51), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье предлагается вернуться к давнему вопросу о феномене пушкинской гармонии. Автор придерживается той точки зрения, согласно которой идея гармонии связывается у Пушкина с представлением о союзе между «реальным» и «идеальным» планами бытия, достигаемом благодаря творческому вдохновению исключительно в фикциональном мире. В статье это положение получает аргументацию с учетом специфических особенностей идейной семиосферы эпохи романтизма, нашедших яркое выражение в творчестве В.А. Жуковского - поэта, для которого вопрос о характере отношений между «реальным» и «идеальным» ставился и решался принципиально иначе, чем у Пушкина. Отправной точкой для сопоставления двух позиций - Пушкина и Жуковского - стало стихотворение «К***» («Я помню чудное мгновенье»), отсылающее сразу к нескольким прецедентным текстам Жуковского - к стихотворениям «Лалла Рук» и «Я музу юную, бывало…», а также к его статье «Рафаэлева Мадонна (Из письма о дрезденской галерее)», где «гений чистой красоты» оказывается так же, как и у Пушкина, в непосредственном сопряжении с виде́ нием - и видением самого Рафаэля, и видением, запечатленном на его картине. Живя в союзе с мечтаниемвоспоминанием, виде́ ние Жуковского никогда не может обрести осязаемую визуальность и, с точки зрения семиотики («космологической» и «имперсональной»), является абсолютно на себя замкнутым знаком. Поэтому у Жуковского то, что здесь (видимое), никогда не может быть уравнено с тем, что там (невидимое). В пушкинском же случае отделить «идеальное» от «реального» и сказать, что речь идет только о «видимом» или только о «виде́ нии», оказывается совершенно невозможным. И такое наблюдаемое в самых разных текстах устремление «идеального» и «реального» к взаимопроникновению есть то, что имеет отношение и к принципиальным основам пушкинского мира, и к важнейшим составляющим глобальной нарративной программы его творчества. Желание достижения такой гармонии является одной из тех глубинных модальностей, которые предопределяют коллизии самых разных пушкинских произведений. Как показывается в статье, драматические коллизии и перипетии возникают в пушкинском мире зачастую именно тогда, когда предустановленная гармония «идеального» и «реального» по тем или иным причинам нарушается или разрушается.
Видимое, видение, привидение, идеальное, реальное, баланс, гармония, вдохновение, творчество
Короткий адрес: https://sciup.org/149127206
IDR: 149127206 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00096
Текст научной статьи Между видимым и видением: к пушкинской идеологии гармонии
«Гений чистой красоты» в знаменитом пушкинском послании «К***» («Я помню чудное мгновенье») (1825) является маркером, отсылающим сразу к нескольким прецедентным текстам В.А. Жуковского - к стихотворениям «Лалла Рук» (1821) и «Я музу юную, бывало...» (1824), а также к его статье «Рафаэлева мадонна. (Из письма о дрезденской галерее)» (1824), где «гений чистой красоты» оказывается так же, как и у Пушкина в непосредственном сопряжении с видением - и видением самого Рафаэля, и видением, запечатленном на его картине. Развивая миф Вакенродера о Рафаэле как о романтическом творце - посреднике между видимым и невидимым, выразимым и невыразимым, - Жуковский говорит о картине Рафаэля не как о картине, а как о видении - «гении чистой красоты» [Янушкевич 2012, 498].
Картина Рафаэля - если перевести ее интерпретацию Жуковским на язык семиотики - становясь иконическим знаком не реальной женщины, а видения, утрачивает статус материального визуального объекта, обращаясь не к внешнему зрению, дающему возможность ясно видеть, а к душе, дающей возможность ясно чувствовать происходящие с ней трансформации и телепортации при «соприкосновении» с потусторонним: «...Ясно начал чувствовать, что душа распространялась; какое-то трогательное чувство величия в нее входило; неизобразимое было для нее изображено, и она была там, где только в лучшие минуты жизни быть может. Гений чистой красоты был с нею» (Жуковский 2012, XII, 343). Так или иначе, все происходит по ту сторону предметно-вещественного измерения бытия -там, где «невидимое дышит» [Жуковский 2000, II, 24].
«Гений чистой красоты» в пушкинском стихотворении - это еще, как было замечено, и отсылка к стихотворению «Лалла Рук», по сути дела, в поэтической форме выражающему замысел статьи. В переложении Жуковского присутствие чудной девы Томаса Мура в здешнем мире означивается, как и в случае с мадонной Рафаэля, призрачным видением «милого сна». Свидание с ним, даря благотворное откровение сердцу лирического субъекта, вызывает в нем и неизбывное сожаление о том, что «...не с нами обитает Гений чистый красоты».
Живя в мечтании-воспоминании, видение Жуковского никогда не может обрести осязаемую визуальность и, с точки зрения семиотики («космологический» и «имперсональный» характер которой подробно освещается в монографии С. Сендеровича), является «абсолютно на себя замкнутым, самодовлеющим, не отделимым от своего значения знаком» [Сендерович 1982,239].
Он поспешен, как мечтанье, Как воздушный утра сон; Но в святом воспоминанье Неразлучен с сердцем он! [Жуковский 2000, II, 222]
Романтическая эпоха, по словам Г. Флоровского, «видений, провидений и привидений» [Флоровский 2009, 169] создала такую семиосферу, в которой «означаемое» расщепилось на профанное и сакральное, а «означающее» оказалось в положении между: между тем, что оно означивать не хочет (профанное, видимое), и тем, что она означивать хочет, но не может (сакральное, невидимое) и потому довольствуется установлением с ним контакта с помощью специально созданных для этой цели образов-посредников - теней, призраков, гениев [Фаустов 2018, 104-117] и т.д. Поэтому у Жуковского то, что здесь (видимое), никогда не может быть уравнено с тем, что там (невидимое).
У Жуковского - да. А как у Пушкина? Можно ли, например, предположить, что Жуковский, говоря о Лалле Рук, имеет в виду конкретную женщину и конкретные отношения с ней? Нет, конечно. Нет, даже если представить Лаллу Рук в образе Маши Протасовой: возлюбленная Жуковского в его поэтическом мире имеет такое же, как и Лалла Рук, призрачное меч-тательно-воспоминательное бытие.
В отношении же «К***» («Я помню чудное мгновенье») (с очень, разумеется, богатой историей интерпретаций [Чумаков 1998, 3-8]) всегда возникал соблазн увязывать это стихотворение с конкретным эпизодом пушкинской биографии, чему, конечно, поспособствовал и сам Пушкин, поделившийся своими предельно осязаемыми отношениями с А.П. Керн в известном письме к Соболевскому. А столь разительная полярность между стихотворной и эпистолярной А.П. Керн - между «гением чистой красоты» и «вавилонской блудницей» - дало повод к не прекращающимся до настоящего времени попыткам его объяснения: как одно и другое могло оказаться в положении метонимически замещаемых величин? Как А.П. Керн смогла одновременно совместить в себе недоступность мадонны и доступность блудницы? Ответы на эти вопросы, имея обширную историографию, так или иначе, распределяются по двум полюсам, условно говоря, биографическому и творческому. Спор между ними, по сути, сводится к тому, следует ли рассматривать это стихотворение как такое, которое имеет отношение к реальности и, соответственно, имеет признаки фактуального текста (т.е. указывающего на находящуюся за его пределами реальность), или как такое, которое имеет исключительно фикциональный характер. Но и те, кто отрицает биографический аспект пушкинского шедевра, вынуждены с ним, пусть и негативно, считаться.
Однако более важно другое. Дело в том, что такая двуплановость обнаруживается и во внутреннем пространстве пушкинского текста и уже «оттуда» наводит на провоцирующий вопрос, с кем же все-таки было суждено встретиться лирическому субъекту: с реальной (в этом случае уже - с фик-ционально реальной) женщиной или только с видением (в этом случае уже тоже фикциональным)? Двусмысленное «как» дает возможность предполагать, что лирический субъект встретился не с призраком, а с реально видимой женщиной, которую он и уподобил «видению» и «гению чистой красоты», а через них - мадонне Рафаэля. Кстати говоря, соединение «идеального» и «реального» аспектов в пушкинском «чудном видении» согласуется с некоторыми - отличными от Жуковского - трактовками картины Рафаэля в романтическую эпоху. Согласно этим трактовкам, в образе Девы Марии божеская ипостась сопрягается с «просто человеческой» и «слишком земной» [Михайлов 1997, 655-683].
Итак, в пушкинском случае не получается отделить «идеальное» от «реального» и сказать, что речь идет только о видимом или только о видении. Они сопрягаются между собой так, что образуют нерасторжимое единство. Их «совместное» отсутствие обрекает лирического субъек- та на безотрадное существование «в глуши, во мраке заточенья». Когда же в момент пробуждения души перед ним вновь являются нерасторжимые видёние-видимое, то душа вновь постигает гармонию бытия: «и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы и любовь» [Пушкин 1994, II (I), 358]. И эту гармонию нельзя обрести с чем-то одним - или с видением, или с видимым. Если же иметь в виду, что «Я помню чудное мгновенье...» говорит по одной уже давней версии [Белецкий 1964, 3 86-402] не столько о стадиях любовного переживания, сколько о стадиях творческого состояния, то раскроется еще одна имманентная идея этого стихотворения: обретение гармонического единства видёния-видимого возможно только благодаря творческому вдохновению.
Идея соединения «поэзии» и «жизни» посредством творческого вдохновения была, как известно, близка и Жуковскому. Одно из своих «программных» манифестаций она получила в элегии «Я музу юную, бывало...», с которым пушкинское «Я помню...» перекликается даже и на уровне фразеологии: «гений чистой красоты» могло быть заимствовано Пушкиным и из этого текста. Главное событие «Я музу юную, бывало...» -распад гармоничного союза «жизни» и «поэзии». Союз этот образовался в исполненном очарованием былом благодаря «подлунной музе» и дарованному ею «животворящему лучу» вдохновения. В утратившем вдохновение настоящем осталось мечтание-воспоминание, «цветы» которого лирический субъект и кладет на алтарь «Гения чистой красоты» с надеждой на возвращение былого.
Никакой двусмысленности у Жуковского нет: его поднебесная муза находится только там, и ее никогда нельзя встретить здесь, она всегда только видёние и никогда не видимое. У Пушкина же по-прежнему не ясно, кого же все же нужно благодарить за снизошедшее вдохновение: видёние или конкретно-осязаемое «ты». У Жуковского «жизнь» и «поэзия» перестали быть одним потому, что поэт утратил связь с видёнием, а у Пушкина - потому что поэт утратил связь с видёнием-видимым. Представить себе, что с музой Жуковского можно встретиться tete-a-tete, совершенно невозможно. А у Пушкина возможно. В «Евгении Онегине», к примеру, автор о своих отношениях с музой говорит как об отношениях с реальной подругой, подверженной таким же изменениям, как и он сам. При первом знакомстве муза предстает перед ним в образе ветреной своевольницы, потом в образе героини романтической поэмы («Как часто по скалам Кавказа / Она Ленорой, при луне, / Со мной скакала на коне!); затем в образе уездной барышни («И вот она в саду моем / Явилась барышней уездной, / С печальной думою в очах, / С французской книжкою в руках» [Пушкин 1995, VI, 167]) и, наконец, в образе светской царицы.
Подобный tete-a-tete можно наблюдать и в стихотворении «Красавица». Красавица, хотя и наделена надмирными чертами мадонны («В ней все гармония, все диво, / Все выше мира и страстей»), тем не менее не вовсе отделена от мирской жизни, и это «не вовсе» позволяет ей все же к ней иногда приближаться: «Она кругом себя взирает: / Ей нет соперниц, нет подруг; / Красавиц наших бледный круг / В ее сияньи исчезает». Это же «не вовсе» обеспечивает и возможность неожиданной с ней встречи «в тревогах мирской суеты»:
Куда бы ты ни поспешал, Хоть на любовное свиданье, Какое б в сердце ни питал Ты сокровенное мечтанье, -Но, встретясь с ней, смущенный, ты Вдруг остановишься невольно, Благоговея богомольно Перед святыней красоты.
[Пушкин 1995, III (I), 287]
И, конечно, наблюдаемое в самых разных текстах устремление «идеального» и «реального» к равноправному сосуществованию есть то, что имеет отношение к принципиальным основам пушкинского мира. Поиск гармонии (достигаемой взаимопроникновением до неразличения «видимого» и «невидимого», «реального» и «идеального»), по всей видимости, можно считать и важной составляющей глобальной нарративной программы творчества Пушкина в целом.
Желание достижения такой гармонии является одной из тех глубинных модальностей, которые предопределяют коллизии самых разных пушкинских произведений, в том числе, к примеру, и баллады «Жил на свете рыцарь бедный» (1829). Встреча с «непостижным уму» видением Девы Марии предопределила судьбу бедного рыцаря до конца дней своей аскетической жизни быть верным «набожной мечте» и истово, как и положено рыцарям, служить своему идеалу, и служить так, как не смог бы служить ни один паладин своей реальной прекрасной даме. И такая верность бедного рыцаря набожной мечте вознаградилась (мысль о самоотвержении как условии достижения «окончательной гармонии жизни» [Достоевский 1979, XIX, 173] особым образом будет воспринята Достоевским и наиболее очевидно преломлена в романе «Идиот»), После всех испытанных им лишений и мытарств его встреча с Пречистой состоялась: «Но Пречистая сердечно / Заступилась за него / И впустила в царство вечно / Паладина своего» [Пушкин 1995, III (I), 161]. Вознагражден и автор: чаемое им единение «идеального» и «реального» свершилось. Правда, такой исход бывает у Пушкина далеко не всегда. А иногда его поиск может обрести и извращенную форму, как, к примеру, в «Моцарте и Сальери». Сальери ведь тоже одержим желанием гармонии, но такой, которая, по глубочайшему его убеждению, при наличии Моцарта (кстати говоря, гармонично сочетающего в себе «идеальное» и «реальное» - «божество» и «гуляку праздного») невозможна. Избавление от Моцарта (этого спустившегося с небес «херувима) и должно, по понятиям Сальери, вернуть миру присущую ему реально видимую основу.
Все эти аспекты - и указанный вектор нарративной программы, и модальность, запускающая осуществляющий ее «механизм» - нашли свое разноплановое выражение и в пушкинском романе. В самом деле, баланс между «идеальным» и «реальным» (и такими его эквивалентами, как «поэзия» и «проза», «правда» и «вымысел», «искусство» и «действительность», «роман» и «жизнь», сон и явь) является доминирующим принципом построения пушкинского романа на всех его уровнях. Как нет в романе Пушкина резкой грани «между словом глубоко серьезным и словом шутливым» [Михайлов 1997, 493], так нет ее, к примеру, и между автором и персонажами: автор - и автор, и персонаж, персонажи - и персонажи, и реальные фигуры изображенного мира, и ипостаси авторского сознания [Зусева 2007, 37-38]. Имея отношение ко всем планам и измерениям пушкинского романа, такая взаимопроницаемость открывает простор для самых неожиданных интерпретаций. Во многом именно на ней базируется предположение о том, что восьмая глава представляет не реальные события, а события, которые происходят во сне Онегина [Эмерсон 1995, 31-47].
Драматические коллизии и перипетии возникают в пушкинском мире зачастую именно тогда, когда предустановленная гармония «идеального» и «реального» по тем или иным причинам нарушается или разрушается: когда сон утрачивает взаимопроникновение с явью, роман - с жизнью, искусство - с действительностью, видение - с видимым и т.д. В таком случае все усилия направляются на поиск утраченного соответствия. В ситуации такого поиска пребывает и Татьяна Ларина.
Кстати говоря, можно заметить, что в определенном смысле Татьяна у Пушкина включается в ту же историю, что и его лирический субъект в «Я помню...». Сначала она встречается с мимолетным видением (ее узнавание Онегина «вмиг» перекликается с «мгновением» из «Я помню...»), затем - после отъезда Онегина - она вынуждена оставаться в деревенской глуши («во мраке заточенья»), и, наконец, запоздалое появление ее героя приводит к воскрешению в душе героини былого. Для Онегина же VIII главы (едва не ставшего поэтом) «здесь и сейчас» присутствующая Татьяна превращается в такое же недоступно-идеальное видение, как муза для лирического субъекта Жуковского [Чумаков 1996, 101-114]. В перспективе же Татьяны коллизия между «видимым» Онегиным и Онегиным «видением» развертывается иначе.
Сновидения знакомят Татьяну с ее героем еще до встречи с ним наяву: «Ты в сновиденьях мне являлся, / Незримый ты мне был уж мил. / Твой чудный взгляд меня томил, / В душе твой голос раздавался». В этом случае видение Онегина оказывается в таком же семиотическом положении, как и видение рафаэлевой мадонны Жуковского - знаком, неотделимым от своего значения. Но и при встрече с «реальным» Онегиным Татьяна видит не Онегина, а по-прежнему свое, во многом спровоцированное «опасными» романами, видение: «Кто ты, мой ангел ли хранитель, / Или коварный искуситель: / Мои сомненья разреши...» [Пушкин 1995,

VI, 66.]. Однако сомнения не разрешаются. В сцене объяснения Татьяна опять-таки видит не «настоящего» Онегина, а преподносящую ей урок его «грозную тень»: «Блистая взорами, Евгений / Стоит подобно грозной тени...» [Пушкин 1995, VI, 72]. В том же ключе развертываются и дальнейшие события. Пребывая в смущении на своих именинах («и утренней луны бледней и трепетней гонимой лани»), Татьяна «темнеющих очей не подымает» [Пушкин 1995, VI, 400], а это значит, что Онегина она не видит. Последовавший за именинами святочный сон предлагает Татьяне увидеть Онегина в образе еще одного видения - атамана разбойничьей шайки. Затем дуэль и расставание. Татьяна посещает покинутый хозяином дом и, ища подсказки в оставленных карандашом пометах, силится понять по его литературным пристрастиям, с каким из романных видений ее герой находится в соответствии. При этом, однако, «видимый» Онегин по-прежнему остается для нее невидимым. И в заключительной главе романа Татьяна не видит Онегина хотя бы уже потому, что, следуя долгу, видеть не должна: «Она его не замечает, / Как он ни бейся, хоть умри. / Свободно дома принимает, / В гостях с ним молвит слова три, / Порой одним поклоном встретит, / Порою вовсе не заметит: / Кокетства в ней ни капли нет - / Его не терпит высший свет» [Пушкин 1995, VI, 179].
Таким образом, на протяжении всего романа Онегин остается для Татьяны невидимым. И только в финальной сцене свидания «видение» и «видимое» соединяются между собой.
К ее ногам упал Евгений;
Она вздрогнула и молчит;
И на Онегина глядит
Без удивления, без гнева...
Его больной, угасший взор, Молящий вид, немой укор, Ей внятно все. Простая дева, С мечтами, сердцем прежних дней, Теперь опять воскресла в ней.
[Пушкин 1995, VI, 186]
Между Онегиным и Татьяной, между видимым и видением образуется желаемый кондоминиум, и это несмотря на то, что тот Онегин, которого видит Татьяна у своих ног, не соответствует ни одному из ее видений. При этом, однако, он парадоксально соответствует им всем сразу, поскольку и теперь, и тогда Татьяна испытывала любовь не к своим видениям, а пусть и к невидимому, но при этом всегда осязаемо близко присутствующему Онегину. И надо полагать, в таком предначертанном единстве «видимого» и «видения» для Пушкина не меньше значения и смысла, чем в предначертанной Онегину и Татьяне несоединимости: при осуществленной возможности счастья место остается только видимому.

Список литературы Между видимым и видением: к пушкинской идеологии гармонии
- Белецкий А.И. Стихотворение "Я помню чудное мгновенье" // БелецкийА.И. Избранные труды по теории литературы. М., 1964. С. 386-402.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л., 1972-1990.
- Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М., 1999-.
- Зусева В.Б. Инвариантная структура и типология метаромана // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2007. № 7. С. 35-44.
- Михайлов А.В. Языки культуры. М., 1997.
- Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 17 т. М., 1994-1997.
- Сендерович С. Алетейя. Элегия Пушкина "Воспоминание" и проблемы его поэтики (Wiener Slavistisher almanach. Sonderband 8). Wien, 1982.
- Фаустов А.А. "Призраки" Тургенева в призракологической перспективе // И.С. Тургенев: текст и контекст: Коллективная монография. СПб., 2018. С. 104- 117.
- Флоровский Г. Пути русского богословия. М., 2009.
- Чумаков Ю.Н. Стихотворение Пушкина "К***" ("Я помню чудное мгновенье…"): Форма как содержание // Известия АН. Отделение литературы и языка. 1998. Т. 57. № 1. С. 3-8.
- Чумаков Ю.Н. Татьяна, княгиня N, Муза (из прочтений VIII главы "Евгения Онегина") // Концепция и смысл: cб. статей в честь 60-летия проф. В.М. Марковича. СПб., 1996. С. 101-114.
- Эмерсон К. Татьяна // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1995. № 6. С. 31- 47.
- Янушкевич А.С. Рафаэлева Мадонна (Из письма о Дрезденской галерее). Примечания // Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. Т. 12. М., 2012. С. 497-499.