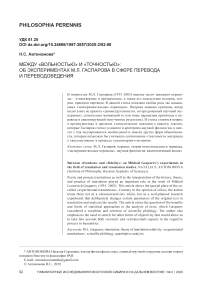Между "вольностью" и "точностью": об экспериментах М.Л. Гаспарова в сфере перевода и переводоведения
Автор: Автономова Наталия Сергеевна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 2 (52), 2020 года.
Бесплатный доступ
В творчестве М.Л. Гаспарова (1935-2005) важное место занимают переводы - стихотворные и прозаические, а также его осмысление истории, теории, практики перевода. В данной статье показана особая роль так называемых «экспериментальных переводов». Вопреки мнению критиков, автор видит в них не прихоть «деконструктивиста», но продуманный научный эксперимент, сознательно меняющий те или иные параметры оригинала в переводе и анализирующий полученные результаты. В статье ставится вопрос о преимуществах и пределах статистических подходов к анализу текстов, которые Гаспаров считал условием и критерием научной филологии, и вместе с тем подчеркивается необходимость поиска других форм объективности, которые позволяли бы учитывать соотношение «текстового» материала с «внетекстовым» в процессе гуманитарного познания.
М.Л. Гаспаров, перевод, теория относительности перевода, «экспериментальные переводы», научная филология, квантитативный анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/170175947
IDR: 170175947 | УДК: 81.25 | DOI: 10.24866/1997-2857/2020-2/92-98
Текст научной статьи Между "вольностью" и "точностью": об экспериментах М.Л. Гаспарова в сфере перевода и переводоведения
Масштаб и уникальность Михаила Леоновича Гаспарова (1935–2005) – крупнейшего российского филолога-классика, стиховеда, переводчика – до сих пор не оценены по достоинству; способы восприятия его работ сильно разнятся – от восторга и обожания до равнодушия и даже явного неприятия. По-видимому, есть несоответствие между тем, что предлагают нам его труды, и тем, что мы способны в них понять и освоить. Его не без почтения именовали «академиком-еретиком» (А. Дмитриев, И. Кукулин, М. Майофис) [12]1, его считают переводчиком-фокусником, который своими своевольными экзерсисами развращает молодежь, верящую в науку, и даже деконструктивистом (В. Живов, Н. Поселягин), скрытым или вполне явным, несмотря на всю гаспаровскую критику деконструкции. Среди работ Гаспарова важное место занимают переводы – прозаические и стихотворные, а также его осмысление переводческой истории, теории, практики. А среди его переводов из античных, средневековых, но также и более современных авторов особое место принадлежит тому, что сам Гаспаров называл «экспериментальными переводами» [11]2.
В целом Гаспаров – рыцарь продуманного подхода к переводу и противник переводов усредненных, претендующих соединить в равных пропорциях такие противоположные характеристики, как верность оригиналу и удобопонятность для читателя (я называю это «антиномией Шлейермахера»). В целом перевод никогда не переводит всего, и потому нам приходится решать, на чем сосредоточить внимание, а что оставить в тени, предупредив об этом читателя. Гаспаров полагал, что в культуре должны существовать различные переводы одного и того же произведения в расчете на разных читателей. Позвольте для начала привести одно высказывание, которое содержит общие принципы гаспаровского подхода к переводу, фактически – формулировку того, что мы можем назвать теорией культурно-исторической относительности перевода. Оно взято из совместной статьи Автономовой и Гаспарова о Шекспире и Маршаке3. «Нет переводов вообще хороших и вообще плохих, нет идеальных, нет канонических. Ни один перевод не передает подлинника полностью: каждый переводчик выбирает в оригинале только главное, подчиняет ему второстепенное, опускает или заменяет третьестепенное. Что именно он считает главным и что третьестепенным – это подсказывает ему его собственный вкус, вкус его литературной школы, вкус его исторической эпохи» (Цит. по: [5, с. 623–624]).
Спрашивается: не оправдывает ли эта объемная формулировка слишком многое в переводе и переводах? Можно ли, и в какой мере, объективировать и адекватно проанализировать «собственный вкус», вкус «литературной школы», «исторической эпохи»? Не приводит ли такой взгляд к неизбежной релятивизации в оценках перевода, да и гуманитарного знания в целом? Как связан принцип «относительности перевода» с той концепцией научной или точной филологии, которую, как известно, Гаспаров развивал – вслед за Б.И. Ярхо? Суть научной филологии, пишет Гаспаров, характеризуя Ярхо4, в «разработке системы литературного анализа, основанной на количественном учете объективных признаков текста» [10, с. 228], причем эта характеристика в значительной мере применима к самому пишущему и его исследовательским принципам5. Далее мы рассмотрим некоторые парадоксальные формы взаимодействия между разными сторонами концепции и практик Гаспарова – на материале его экспериментальных переводов поэзии и прозы.
Сначала о поэзии. Следуя принципу количественного учета объективных признаков текста как основы филологического анализа, Гаспаров сделал очень много. В первую очередь, это его уникальный и не имеющий аналогов в мире анализ тенденций эволюции русского и европейского стиха, а также отчасти его исследования соотношений метра и смысла на материале русского стиха. В области, касающейся переводов, то есть в переводоведении, Гаспаров нашел особый подход, который позволил ему применять количественные показатели к анализу «вольности» и «точности» переводов, причем речь идет уже не только о формальных параметрах стиха, как это было в его анализах эволюции русского и европейского стиха, но и о стихотворной семантике. Правда, он всегда предупреждал, что эти принципы не должны применяться оценочно по принципу «хорошо» или «плохо», но только в исследовательском смысле6. Гаспаров выработал методику, которая позволяет выявлять и соотносить «коэффициент точности» (число сохраненных в переводе слов в сравнении с общим числом слов в произведении) и «коэффициент вольности» (число замененных слов в процентном отношении к общему числу слов в переводе). При этом подсчитываются прежде всего значимые слова (существительные, причем преимущественно предметные, а не отвлеченные, но также прилагательные, глаголы, наречия).
Разумеется, лучше всего эта методика работает при сопоставлениях подстрочников с переводами. Переводы с подстрочника – это довольно частый случай в переводческой практике. Особенно интересны такие экспериментальные ситуации, когда переводы делаются с одного и того же подстрочника, т.е. исходным для всех переводчиков является одно и то же вербально выраженное понимание слов автора, и оно уже далее по-разному претворяется в формы языка перевода. Напомню, что уникальным поводом для такого анализа, некогда проведенного Гаспаровым вместе с его аспиранткой Виолеттой Настопкене, были материалы анонимного конкурса на лучший перевод стихов Саломеи Не-рис, проведенный в Литве; в нем приняли участие 75 переводчиков; премию в итоге никому не дали, а самые точные переводы (в соответствии с указанными выше критериями) оказались и самыми плохими7.
Однако, полагает Гаспаров, подсчитывать коэффициенты вольности и точности при из- учении стиха можно и без подстрочника, хотя это гораздо труднее. При этом понятие «точности» расплывается, однако «кое-что» о степени точности и вольности переводов такие сопоставления нам говорят. Например, при сопоставлении «Ночной песни странника» Гете с ее вольным переложением у Лермонтова («Горные вершины / спят во тьме ночной…») можно заключить, что собственно переводом являются лишь первая и последняя строчки, а все остальное выступает как свободные вариации на тему Гете. Гаспаров проводил многочисленные сопоставления на разном материале. Например, сравнивал переводы Анненского из Еврипида и Зелинского из Софокла, причем интересно то, что в конечном итоге выводы на основе количественного анализа нередко подтверждали выводы на основе обыденного восприятия: коль скоро первый больше поэт, чем филолог, а второй больше филолог, чем поэт, значит, первому точность важна меньше, а второму – больше. При этом достаточно любопытным оказывался и способ изменения оригиналов при переводе: так, Зелинский стремился сделать образы оригинала более зримыми, Анненский – более эмоциональными. В любом случае, расширяя сферу изучаемого материала, Гаспаров надеялся, что эти методики позволяют в той или иной мере прояснить неопределенные вкусовые понятия и сделать «шаг к превращению “переводове-дения” из импрессионистического искусства в точную науку» [9, с. 372].
Обратимся теперь к собственным гаспа-ровским «Экспериментальным переводам», а среди них – к Верхарну, Полю Фору, Мореасу, Анри де Ренье и др. Сразу нашлись критики, которые увидели в предложенных Гаспаровым переводах воплощение вольности в самом дурном смысле и, соответственно, разрушение гаспа-ровского имиджа поборника строгости анализа [13]. В наши дни эта критика Гаспарова расширяет свою сферу. Например, Н. Поселягин считает Гаспарова, крайне отрицательно относившегося к, условно говоря, постмодернистской и деконструктивистской мысли, «деконструктивистом», а его экспериментальные переводы – ярким тому примером [15]. По мнению критика, Гаспаров сражается с Деррида как с одним из собственных обличий, но сам при этом фактически занимается деконструкцией: неслучайно в его текстах слишком много «произвольного» – будь то реконструкция фигуры Лотмана, которого Гаспаров, дескать, сводит к его первой книге, «Лекции по структуральной поэтике» (1964), или же экспериментальные переводы: почему вольный стих показывает своеобразие поэта, а ритмический или рифмованный – принадлежность эпохе, как это получается у Гаспарова? Кстати, отметим, что этот последний вопрос и в самом деле указывает на нечто вовсе не самоочевидное8.
И все же – о чем речь? О какой деконструкции, о каких вольностях? Давайте посмотрим. Речь идет, во-первых, о переводе стихов, имеющих ритм, метр, а также рифму, – верлибром, то есть свободным стихом, а, во-вторых, о сокращении объема стихов при переводе, т.е. о некоей минимализации . Гаспаров считает минимализм и лаконизм одной из значимых черт поэтики ХХ в. и строит на этом свой эксперимент, иногда в известном смысле модернизируя оригиналы. Гаспаров напоминает читателю, что в «правильных» стихах неизбежно имеется немало слов и образов, которые добавляются только для метра и рифмы, и они ощущаются «как полезный балласт на хорошем корабле», но если переложить эти правильные стихи верлибром, то они сразу начинают ощущаться как «мертвая тяжесть, которую хочется выбросить за борт». В переводах, которые поначалу он делал только для себя, в стол (это переводы, включенные в сборник «Экспериментальные переводы»: Верхарн, Кавафис, Гейм и др.), Гаспаров допускает радикальные сокращения, урезание подробностей при сохранении основной структуры образности и др. Это, как он считает, приводит к интенсификации образной системы – в соответствии с современным вкусом. Так он переводил, например, стихотворение Верхарна «Труп» из сборника «Черные факелы», сократив знаменитый оригинал почти в четыре раза (с 60 строк до 15)9.
Применяя подобные приемы, Гаспаров искал исторические аналогии такому переводу в рус- ской культуре. Такой конспективный перевод, как ему представлялось, хорошо вписывался в творчество Пушкина, «потому что все творчество Пушкина было, так сказать, конспектом европейской культуры для России» [8, с. 12], и это касалось как стихов (и их перевода, ср. «Пир во время чумы» Вильсона, где из 400 стихов у него получилось 240), так и прозы (так «Борис Годунов» короче любой трагедии Шекспира, а «Капитанская дочка» – любого романа Вальтер-Скотта). Убеждают ли нас такие обоснования? С чем, собственно, мы имеем дело в этих экспериментах? Что это – литературное своеволие? Nachdichtung, как у Лермонтова в «Горных вершинах» по мотивам Гете? А быть может, все-таки это как раз то звено, которого так не хватает гуманитарной науке, стремящейся к естественнонаучной точности и строгости?
Когда-то Б.И. Ярхо в своих разработках научной филологии мучительно выдумывал аналог естественнонаучному эксперименту для области литературоведения, предлагая читателям поэкспериментировать, например, с порядком слов в уже известной стихотворной строке. Или, например, с подстановкой лишних слов (Мой дядя был самых честных правил...). Трудность, однако, в том, что в эти опыты вторгается необходимость учитывать впечатления слушателя или читателя – на уровне психологическом или даже психофизиологическом, а этот аспект анализа точному учету не поддается.
В отличие от Ярхо Гаспаров предлагает нам нечто гораздо большее: он осознанно задает развернутые параметры тех изменений, которым подвергает оригиналы своих экспериментальных переводов. У него развит рефлексивный аспект экспериментирования, описаны условия и направления эксперимента. Думаю, что это сродни опытам естественнонаучного толка, в которых исследователь экспериментирует с условиями задачи, чтобы получить приближение к ответу на поставленные вопросы. Незадолго до кончины Гаспарова я рассказывала ему о моем намерении – представить его экспериментальные переводы как форму научного эксперимента, и он радовался этой мысли, поддерживал ее. Однако мою книгу, ему посвященную [5], и другую, где он – один из главных героев (в ней дается именно такая трактовка «экспериментальных переводов) [4], он уже не увидел.
Наряду с экспериментами в области переводов поэзии у Гаспарова есть и эксперименты в переводах прозаических текстов. О них практически не говорят, они не привлекают внимания, и напрасно. В качестве экспериментального прозаического перевода возьмем гаспаровский перевод «Поэтики» Аристотеля (1978) [7]10. Если в стихах мы видели эксперименты с интенсификацией образности и обострением ее восприятия путем свертывания, конспектирования, то в данном случае мы, напротив, видим экспликацию, развертку мысли, прояснение некоторых связок – на месте Аристотелевой конспективности. Этот перевод был, по сути, уникальной попыткой одновременной передачи Аристотеля «темного», как он есть, «конспективного», слишком сжатого и потому местами невнятного, и Аристотеля «светлого», проясненного, достроенного, дораскрытого – в квадратных (или угловых, как в издании 1978 г.) скобках в пределах общей строки. Такой перевод – одновременно для разных категорий читателей – потребовал от автора, по его словам, огромного напряжения: «Поэтика» невелика по объему, так что опыт удалось довести до конца, а взяться, скажем, за «Метафизику» с позиций подобного переводческого задания он, по собственному признанию, никогда бы не решился.
Разумеется, при этом возникает много вопросов. Это что – уникальный случай? Насколько может быть продолжен эксперимент с «двойным» переводом философской прозы? Или он скорее остается индивидуальным казусом? В качестве «случая» для обсуждения упомяну о собственном переводе литературы, условно говоря, постмодернистской, а именно – книги под названием «О грамматологии» Деррида; он делался мною при участии Гаспарова, причем с оглядкой на его приемы перевода «Поэтики»11. Для лучшего восприятия читателем понятийного слоя «Грамматологии», пронизанного многочисленными случаями словесной игры, я употребляла разъясняющие вставки в квадратных скобках, так что строку можно было читать и в сжатом виде, более близком к концептуальной стилистике Деррида, и со скобками, в более внятном виде.
Перехожу к заключению. Гаспаров, как отмечалось выше, выступает против идеи «золо- той середины». А в целом, можно сказать с уверенностью, гаспаровские экспериментальные переводы – и прозаические, и поэтические – это не «хулиганство», но продуманный, дисциплинированный эксперимент. Причем если экспериментальные переводы стихов оказываются ближе к полюсу «вольности», то Аристотелева «Поэтика» находится ближе к полюсу «точности». Однако критические отклики на переводы и некоторые собственные тексты Гаспарова звучат настойчиво, что свидетельствует о неподдельном к ним интересе, а к тому же лишний раз подчеркивает, что точки над i не поставлены. В самом деле, можно назвать ряд исследовательских ситуаций, в которых Гаспаров, пожалуй, переоценивает интуицию – в оценках того, где возможна, а где невозможна «вольность» или «точность». А кроме того, коль скоро этот вопрос у нас уже неоднократно здесь затрагивался, спросим себя: правомерны ли такие критерии объективности исследования, которые в самых существенных своих аспектах ограничивались бы квантитативным анализом, даже самым кропотливым? В частности, формулировка переводческой относительности, приведенная выше, предполагает учет вкусовых восприятий разного уровня, однако квантифицировать вкусовые восприятия, объективно анализируя факторы, выходящие за рамки текста, Гаспаров, по сути, не считал возможным. Тем самым наш вопрос выводит к другому измерению анализа – к изучению разных типов и форм объективности, их возможных соотношений и взаимодействий и, в частности, к необходимости более тщательного анализа в концептуальном аппарате, в строе мысли Гаспарова тех планов, которые он противопоставлял как «научное» и «ненаучное», «научное» и «философское», «исследовательское» и «творческое». К этим противопоставлениям нам нужно будет добавить «текстовое» и «внетекстовое», выраженное и невыраженное (невыразимое) и др. (см. об этом: [1]).
Такое прояснение – дело будущего. Однако уже сейчас мы видим, что многообразные эксперименты Гаспарова (в частности, его эксперименты с переводами прозы и поэзии разных жанров и стилей) дают нам яркий материал для расширения и вместе с тем – уточнения позиций современной филологии среди других дисциплин и способов познания. Речь идет о такой филологии, которая добивается взаимодействия разных эпистемологических установок и не мыслит себя без «преемственности» и одновременно «полемичности» [8, с. 15] по отношению к собственному культурному наследию.
Список литературы Между "вольностью" и "точностью": об экспериментах М.Л. Гаспарова в сфере перевода и переводоведения
- Автономова Н.С. «Разговор из двух углов»: к истории несостоявшегося книжного проекта М.Л. Гаспарова // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2018. № 3. Ч. 2. С. 162-190.
- Автономова Н.С. Гаспаров и перевод: от Аристотеля к Деррида // Вольность и точность. Гаспаровские чтения - 2014. М.: РГГУ, 2015. С.70-87.
- Автономова Н.С. М.Л. Гаспаров: свой путь в науке // Стих, язык, поэзия. Памяти Михаила Леоновича Гаспарова. М.: РГГУ, 2006. С. 13-34.
- Автономова Н.С. Открытая структура: Якобсон - Бахтин - Лотман - Гаспаров. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014.
- Автономова Н.С. Познание и перевод. Опыты философии языка. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016.
- Автономова Н.С., Гаспаров М.Л. Сонеты Шекспира - переводы Маршака // Вопросы литературы. 1969. № 2. С. 100-112.
- Аристотель. Поэтика // Аристотель и античная литература. М.: Наука, 1978. С. 111-163.
- Гаспаров М.Л. Вместо предисловия. Верлибр и конспект // Экспериментальные переводы. СПб.: Гиперион, 2003. С. 8-15.
- Гаспаров М.Л. Подстрочник и мера точности // О русской поэзии. Анализы. Интерпретации. Характеристики. М.: Азбука, 2001. С. 361-372.
- Гаспаров М.Л. Предисловие к публикации Б.И. Ярхо «Рифмованная проза русских интермедий и интерлюдий» // Теория стиха. Л.: Наука, 1968. С. 227-228.
- Гаспаров М.Л. Экспериментальные переводы. СПб.: Гиперион, 2003.
- Дмитриев А., Кукулин И., Майофис М. Занимательный Гаспаров: академик-еретик // Новое литературное обозрение. 2005. № 73. С. 170-178.
- Елиферова М. Ревизоры приехали? // Вопросы литературы. 2004. № 5. С. 52-64.
- Настопкене В.В. Опыт исследования точности перевода количественными методами // Literatüra. 1981. Т. XXIII. № 2. С. 53-70.
- Поселягин Н. Гаспаров как деконструк-тивист // Зборник Матице српске за славистику. 2017. № 92. С. 163-174.
- Ярхо Б.И. Методология точного литературоведения: Избранные труды по теории литературы / Под общ. ред. М.И. Шапира. М.: Языки славянских культур, 2006.
- Avtonomova, N., 2018. Considérations sur la «branche cadette» du formalisme russe: Mixail Gasparov, Boris Jarxo, Gustav Spet. Communications, no. 103, pp. 119-130.