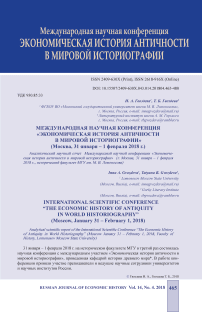Международная научная конференция "Экономическая история античности в мировой историографии" (Москва, 31 января - 1 февраля 2018 г.)
Автор: Гвоздева Инна Андреевна, Гвоздева Татьяна Борисовна
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Опыт плановой экономики
Статья в выпуске: 4 (43), 2018 года.
Бесплатный доступ
Аналитический научный отчет Международной научной конференции «Экономическая история античности в мировой историографии» (г. Москва, 31 января - 1 февраля 2018 г.., исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова)
Короткий адрес: https://sciup.org/147218439
IDR: 147218439 | УДК: 930.85:33
Текст статьи Международная научная конференция "Экономическая история античности в мировой историографии" (Москва, 31 января - 1 февраля 2018 г.)
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“THE ECONOMIC HISTORY OF ANTIQUITY IN WORLD HISTORIOGRAPHY”
(Moscow, January 31 – February 1, 2018)
Analytical scientific report ofthe International Scientific Conference “The Economic History of Antiquity in World Historiography” (Moscow January 31 – February 1, 2018, Faculty of History, Lomonosov Moscow State University)
31 января – 1 февраля 2018 г. на историческом факультете МГУ в третий раз состоялась научная конференция с международным участием «Экономическая история античности в мировой историографии», проведенная кафедрой истории древнего мира*. В работе конференции приняли участие преподаватели и ведущие научные сотрудники университетов и научных институтов России.
Декан исторического факультета МГУ доктор искусствоведения, профессор И. И. Тучков во вступительном слове подчеркнул важность для современного антико-ведения научного направления кафедры истории древнего мира по изучению экономической истории. Он подчеркнул, что кафедра продолжает традицию изучения античной экономики, начатую в русском антиковедении еще со времен М. Ростовцева.
С приветственным словом к участникам конференции обратился заместитель декана по научной работе кандидат исторических наук, доцент Д. А. Андреев. Он подчеркнул, что такие конференции, включающие крупнейших специалистов-антиковедов, позволяют обозначить экономическую историю Античности как активное функционирующее научное направление. Член-корреспондент РАН профессор Л. И. Бородкин заметил, что это научное направление, заложенное професором В. И. Кузищиным еще в 70-е гг. XX в., позволило кафедре истории древнего мира исторического факультета МГУ активно участвовать в международных научных конференциях по экономической истории.
Пленарное заседание открыл С. Ю. Сапрыкин (Москва) с докладом «Греческая надпись из поселения Ак-Кая в Центральном Крыму», посвященным анализу неопубликованного граффити из поселения Ак-Кая (Вищенное) в Восточном Крыму. Автор обратил внимание на термин «хорваты», который вычитывается в этой посвятительной надписи, и пришел к заключению, что под этим словом скрываются жители позднескифского поселения – общинники, обитавшие в этом укреплении. К ним относятся упомянутые в надписи люди, имена которых прочитываются в двух последних сохранившихся строчках граффити.
М. Д. Бухарин (Москва) в докладе «Описание экономического уклада примитивных народов в работе Агафархида Книдского „Об Эритрейском море“» отметил, что значительное место в его работе уделено описанию народов, живших на окраинах обитаемого мира. Полностью из всего трактата Агафархида сохранилась только пятая книга, посвященная описанию номов левого (западного) берега Нила. Докладчик отметил, что анализ экономического уклада примитивных народов Африки используется Агафархи-дом Книдским как инструмент, а не как собственно предмет исследования. Агафархид предстает перед читателем в большей степени философом, чем историком или гео-

Декан исторического факультета доктор искусствоведения, профессор И. И. Тучков открывает конференцию

Член-корреспондент РАН, профессор Л. И. Бородкин
графом. Тем не менее, в его сочинении немало информации, исключительно важной для реконструкции экономической истории красноморского бассейна.
Доклад В. А. Головиной (Москва) «Скарабей Уахʹa и II письмо Хеканахта» был основан на анализе двух известных памятников MMA: серебряного скарабея Уахʹа и II письма из частного архива заупокойного жреца Хеканахта (сохранившего оттиск скарабейной печати). Оба памятника традиционно датировались правлением XI династии, несмотря на стилевое несоответствие датировки типу их базового (спиралевидного) дизайна. Недавняя передатировка обоих памяников более поздней XII династией (Дор. Арнолд и др.) устраняет это несоот- ветствие, но также заставляет с осторожностью использовать привычный тезис о XII династии как времени расцвета Египта, его «ренессанса», что противоречит содержанию II письма Хеканахта, описывающего страну в состоянии страшного голода.
Дальнейшая работа конференции проходила в четырех секциях: «Теория. Методология. Историография», «Экономика. Власть. Право», «Торговля. Финансы. Налоги» и «Хозяйство. Быт. Человек».
Заседание секции «Теория. Методология. Историография» открылось докладом С. Г. Карпюка (Москва) «Мозес Финли: организация помощи СССР и экономика древности», в котором автор рассмотрел влияние работы историка в американских организациях по оказанию помощи Советскому Союзу в 1942–1947 гг. на его труды (прежде всего на «Мир Одиссея» и «Экономику древности»). Документы из московских архивов свидетельствуют о глубокой вовлеченности М. Финли в деятельность «Помощи России в войне» и «Американо-русского института», его многочисленных контактах с советскими дипломатами. Вопреки преобладающей точке зрения, именно практика работы в организациях по оказанию помощи повлияла на представление о роли дарения в работах М. Финли.
И. Е. Суриков (Москва) в докладе «Полис, эмпорий, монета: к современному состоянию одного важного круга проблем политикоэкономической истории античности» указывает, что в современной историографии, особенно русскоязычной, нередко встречаются две характерные ошибки. Первая: в один ряд ставят эмпорий и полис

Доклад на пленарном заседании члена-корреспондента РАН
М. Д. Бухарина
(особенно когда рассуждают об эллинском колониальном мире), в то время как это две категории из совершенно разных сфер: эмпорий – из экономической, полис – из политической. Соответственно, их вообще нельзя сопоставлять или противопоставлять (как, например, делает А. В. Буйских применительно к Херсонесу Таврическому), нельзя говорить, что, допустим, на самом раннем этапе херсонесское поселение являлось не полисом, а эмпорием. Полис – это политический статус, а эмпорий – экономическая функция. Вторая частая ошибка заключается в том, что наличие собственной монетной чеканки является необходимым критерием полиса. С этим нельзя согласиться (вопреки Ю. А. Виноградову и А. В. Буйских), это всего лишь достаточный, но не необходимый критерий. Так, Мегары начали свою чеканку лишь в IV в. до н. э., а между тем мегар-ский полис – один из самых ранних в Греции, в VII в. до н. э. он уже, несомненно, существовал. Есть и другие примеры позднего начала монетного дела, причем большое количество таких примеров относится к полисам именно «мегарского куста» (можно упомянуть Византий, Гераклею Понтийскую). Соответственно, рассуждения о том, что полис Херсонес (также мегарская субколония) возник лишь в IV в. до н. э., становятся малоубедительными.
А. В. Махлаюк (Нижний Новгород) в докладе «Теоретические модели и эмпирические исследования по экономике Древнего Рима в новейшей историографии» остановился на анализе использования идей и подходов новой институциональной экономики в изучении экономической истории римского мира. Эта экономическая теория, являющаяся ответвлением неоклассической экономики и получившая широкое распространение в 1980–1990-е гг., прежде всего благодаря работам таких видных экономистов, как Д. Норт и О. Вильямсон, ставит во главу угла характерные для того или иного общества социальные институты (включая культурные традиции, обычаи, «правила игры»), созданные человеком ограничения, формирующие поведенческие стереотипы и взаимодействия людей (включая обмен не только товарами, но также идеями и политическими действиями). Рассматривая все это как значимые факторы экономического развития, поддающиеся анализу с помощью стандартных инструментов экономической теории, новая институциональная экономика, не отвергая ключевых понятий неоклассической экономики, связанных с функциональными рынками, позволила преодолеть разрыв между сферами экономики, политики и культуры и по-новому подойти к объяснению экономического роста в обществах прошлого. Начиная с 1990-х гг. ее подходы и категории (трансакционные издержки, предельная полезность, индекс человеческого развития и т. п.) стали активно внедряться в изучение экономической истории Античности, и в 2000-е гг. она становится основной теоретической моделью для обобщающих трудов и многих конкретных исследований по римской экономике, таких как The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World / Ed. by W. Scheidel, I. Morris and R. Saller (Cambridge, 2007), The Cambridge companion to the Roman economy / Ed. by W. Scheidel (New York; Cambridge, 2012) и серия коллективных и индивидуальных монографий, издаваемых с 2009 г. Оксфордским центром по исследованию римской экономики под руководством А. Баумана и Э. Вилсона. Эти и многие другие труды, опубликованные в 2000–2010-е гг., не только существенно расширили и конкретизировали наши знания о специфических путях развития римской экономики и ее отдельных отраслей и региональных комплексах, но дают основания говорить о начале пост-финлианской эры в изучении античной экономики, об определенном преодолении противоположности «примитивистских» (субстантивистских) и модернистских («формалистских») концепций. На первый план выдвинулось исследование экономического роста, уровня благосостояния, количественных и институциональных параметров развития римской экономики. Было, в частности, показано, что степень интеграции и роста последней ограничивалась установкой имперских институтов на изъятие налогов и зависимостью торговых отношений от сети личных отношений. Вместе с тем в новейшей историографии активно обсуждаются сильные и слабые стороны новой институциональной экономики и других экономических теорий (в частности, экономики развития), их эвристические возможности для исследования специфики развития древних обществ. В целом же такую теоретическую переориентацию историко-экономических исследований можно связать с утвердившимся на рубеже тысячелетий господством идеологии неолиберализма.
Доклад В. А. Квашнина (Вологда) «Социально-экономическое развитие римской civitas периода средней Республики в новейшей зарубежной историографии» был посвящен современным тенденциям в зарубежном антиковедении на примере работ П. Эрдкампа (Брюссель, Vrije Universiteit). В работах этого исследователя проблемы аграрной истории III–II вв. до н. э. рассматриваются через проведение римской колонизации Италии. Для периода Средней республики колонии были опорными пунктами римского владычества в Италии. Ядро их населения составляли ветераны, имевшие военный опыт. П. Эрдкамп отмечает, что Рим использует два институциональных механизма (римского и латинского гражданства) для того, чтобы организовать политическое и административное воздействие на те общины, над которыми было установлено его господство. Часть этих общин была инкорпорирована в состав ager Romanus путем предоставления гражданских прав, хотя некоторые из них не получили весь пакет прав, став civitas sine suffragio. Другие получили права латинского гражданства, чтобы подчеркнуть их особый, вторичный по отношению к римскому, правовой статус, в результате чего латинское гражданство лишается этнического наполнения и превращается в юридический статус, соподчиненный квиритскому праву. Таким образом, модель римской колонизации III–II вв. способствовала трансформации римской civitas и превращению латинов в римских граждан, а союзников в латинов. При этом латины и socii могли перебраться в Рим или общину, интегрированную в ager romanus, и пройти регистрацию во время ценза. В связи с этим П. Эрдкамп обращает внимание на демографическую аномалию: данные цензов в период с 204/3 по 169/8 гг. показывают, что число римских граждан, несмотря на возросший уровень смертности (последствия ранений и лишений военных лет проявляли себя в течение нескольких послевоенных десятилетий), неуклонно возрастало в первые десятилетия II в., демонстрируя средний ежегодный рост в 1,3 % (как полагает автор, это и есть показатель истинных масштабов миграции латинов в Рим). Поскольку такой рост нельзя объяснить естественными причинами, автор ищет их в публично-правовой сфере, указывая на две возможности: 1) частично как последствие массовой манумиссии рабов, становившихся либертинами, 2) как следствие инкорпорации части латинов и союзников в состав civitas.
Б. С. Ляпустин (Москва) в докладе «Этапы экономического развития древнего Рима в контексте теории М. Вебера» отметил, что в последние десятилетия после критики, как формационного подхода, так и теории М. Финли, взгляды историков обратились к теории М. Вебера, что дает историкам новые подходы к систематизации обширного материала М. Вебер выделил несколько важных аспектов экономической сущности города: - каждый город – это рыночное поселение; в городе действуют два экономических центра: господский ойкос и местный рынок; хозяйство элиты выступает на рынке как обладающий наибольшими возможностями покупатель; чем активнее оно выходит на рынок, тем больше выходит на первый план рыночная основа города.
Это позволяет дать следующую периодизацию экономики Древнего Рима.
1-й этап. Догородской период Рима (VIII–VI вв. до н. э.). Существование Рима как сельского поселения от Ромула до эпохи поздних царей.
2-й этап . Становление Рима как экономического центра и местных рынков в Италии (от реформ Сервия Туллия до III в. до н. э.). В ходе его сформировались римская фамилия, civitas и крестьянство как равноправные граждане городской общины. Для поддержания статуса они должны были вести хозяйство, по Чаянову, «на высшем пределе», что сделало их основными производителями и потребителями на рынках Рима и Италии.
3-й этап. Расцвет Рима как экономического центра (конец III – конец I в. до н. э.). Он обусловлен выходом на рынки Рима и Италии высокоплатежеспособного покупателя – элиты с крупной собственностью в городе и в деревне. Расцвет начался с возникновения поместий у элиты, а в I в. до н. э. Италия, по Варрону, превратилась в «цветущий край».
4-й этап. Начало стагнации Рима и Италии как экономических центров (к. I в. до н. э. – II в. н. э.). При Августе произошел стремительный переход Рима и Италии из центров вывоза товаров в центры их экспорта. Переориентация элиты на заморские рынки привела к расцвету средиземноморской торговли, но местные рынки начинают перемещаться из города в поместья.
5-й этап. Складывание экономики на основе натурального хозяйства (III–V вв. н. э.). Крупные поместья окончательно превращаются в центры округи, что приводит к затуханию местных рынков в городах.
Заседание секции «Экономика. Власть. Право» открылось докладом И. А. Гвоздевой (Москва) «Pertica – экономическая категория эпохи принципата», в котором было предложено рассмотреть категорию pertica как самостоятельную единицу экономики Рима эпохи Принципата. Если в конце Республики были сформированы особые экономические типы (виллы) в хозяйственной жизни Рима, то в начале Империи можно говорить о существовании территорий с особой экономической структурой, обеспечивающей существование этих хозяйственных типов в их границах.
Пертикой стали называть территорию ветеранской колонии, размежеванную в системе центуриации. Это предполагало проведение двух ориентирующих осей: линию Восток – Запад (Decumanus) и линию Север – Юг (Cardo). Эти линии создавали крест делителей замкнутого пространства. Но в римской практике межевания полей Decumanus и Cardo становились главными широкими дорогами ветеранской колонии. Параллельно им через равные интервалы проводились делители – лимиты, также общественные дороги колонии установленной ширины. Их пересечение создавало квадратную единицу площади – центурию, в которой происходило наделение землей новых поселенцев. Лимиты обеспечивали проезд во все части пертики, а также гарантировали вывоз сельскохозяйственной продукции на рынок. Следовательно, пертика как территория колонии римских ветеранов не только создавала все условия для передачи земли в собственность, но и обеспечивала успешное функционирование хозяйственных единиц.
Доклад А. В. Коптева (Хельсинки, Финляндия) «Учреждение римских триб и колонизация Римом Лация» был посвящен истории формирования римских триб в период объединения Лация вокруг Рима. Версия о создании Сервием Туллием территориальной структуры Рима восходит к Фабию Пиктору и Катону Старшему, приписывавшим царю учреждение 30 триб. Ливий сохранил остатки другой версии, согласно которой 14 триб были учреждены после 387 г. до н. э. При этом он упоминает о существовании 21-й трибы в 495 г. Это оставляет на время Сервия Туллия (и Тарквиния Гордого) только 20 триб. Однако такой расчет выглядит искусственным соединением сведений Ливия с концепцией Фабия – Катона. Источником Ливия мог быть Клавдий Квадрига-рий, начавший историю Рима после Галльского нашествия. Его сведения ориентированы на какие-то записи об учреждении триб между 387 и 241 гг. Возможно, эти записи
На заседание секции «Экономика. Власть. Право»
были частью (альтернативной Фабию и Катону) концепции, датировавшей возникновение ранних 21 трибы (4 городских и 17 «сельских») между 444 и 387 гг.
История формирования римских триб связана с объединением Лация вокруг Рима, в ходе которого архаический военно-религиозный Латинский Союз

уступил место новому типу граждан ской общины. Трибы были, с одной стороны, способом инкорпорации соседей в римское гражданство, а с другой – средством интенсификации использования земельных ресурсов путем уплотнения местных жителей колонистами из Рима. Предположительно, процесс начался вследствие роста римского населения, для обеспечения землей которого три первоначальных трибы колонизовали соседние общины, инкорпорировав их в римскую общину в качестве трех новых триб. Община шести триб завоевала этрусский город Вейи, на территории которого были учреждены четыре трибы. Рост размеров римской общины повлек за собой изменения как в ее структуре и управлении, так и в характере экономических отношений с соседями. Успех Рима в конкурентной борьбе с вольсками и латинами за Помптинские поля привел к удвоению числа триб за счет латинских общин, получивших римское гражданство. В 387 г. римская община включала 21 трибу, а к 358 г. их стало 25. Если Сервиева стена была построена после Галльского нашествия, то, возможно, как раз четыре городские трибы были созданы между 387 и 358 гг.
М. В. Дурново (Москва) в докладе «„Семьи“ рабов и senatus consultum Claudianum 52 г.» отметил, что сохраняющие актуальность в современной литературе теории (Дж. Крука, П. Уивера, Б. Сиркса, К. Харпера), призванные объяснить причины принятия и суть знаменитого senatus consultum Claudianum 52 г., в силу которого сожительствующая с чужим рабом свободная женщина могла сделаться рабыней или вольноотпущенницей, страдают некоторой умозрительностью: рассматривая правовые механизмы регулирования определенных социальных и экономических отношений, их авторы не уделяют достаточного внимания предмету регулирования, т. е. этим отношениям и связям, которые в данном случае, коль скоро речь идет о сожительстве, предстают прежде всего как квазисемейный союз (contubernium) раба и свободной. Между тем более пристальный взгляд на эту «семью», где в рамках одной хозяйственной ячейки оказывались объединены пекулий раба и собственность свободной женщины, позволяет увидеть, что для господина раба подобный смешанный союз имел как выгодные, так и невыгодные стороны, и его интерес состоял в том, чтобы воспользоваться выгодами и при этом минимизировать потери. Для достижения этой цели господин не имел до 52 г. практически никаких правовых рычагов. Удовлетворение имущественных интересов рабовладельцев в данной ситуации требовало «тонкой настройки» со стороны права, и Клавдиев сенатусконсульт был призван решить именно эту задачу. Решение провести процедуру denuntiatio, которая могла привести к порабощению женщины, господин принимал в том случае, если он не соглашался, чтобы его раб сожительствовал со свободной, ни на каких условиях, т. е. если он желал контролировать семью свое- го раба как экономическую ячейку тотально, заключив ее целиком в границы familia. Если же господин давал согласие на сожительство раба со свободной, senatus consultum Claudianum предоставлял ему возможность заключить с «женой» раба такое соглашение (pactio) относительно будущего статуса ее самой (вольноотпущенница или свободнорожденная) и ее детей от раба (рабы или свободные), которое бы создавало наиболее выгодную для него «конфигурацию» с учетом интересов женщины. Таким образом, основная задача senatus consultum Claudianum состояла в защите собственнических прав рабовладельцев на пекулии их рабов, и выражалась эта защита в признании обоснованным стремления господина завладеть потомством и имуществом «семьи» своего раба, а осуществлялась она посредством изменения правового статуса членов этой «семьи».
В докладе «Способы использования ager publicus во II в. до н. э.: земельно-правовой аспект» М. Н. Кириллова обратилась к анализу известного фрагмента из первой книги «Гражданских войн» Аппиана, в котором содержится описание способов использования общественной земли. Его трактовка событий долгое время пользовалась доверием исследователей, однако в последнее время этот материал подвергается пересмотру и уточнению. Таким образом, вопрос о положении дел в римском землепользовании в этот период и, как следствие, о возможных причинах аграрного кризиса до сих пор остается актуальным. Автор доклада обращает внимание на то, что Аппианом описываются отнюдь не все возможные способы использования общественной земли, основной акцент сделан на использование земли в римской колонии. К такому выводу приводит сравнение сведений Аппиана с аналогичными пассажами у римских землемеров. Во II в. до н. э. (а именно об этом периоде идет речь у Аппиана) Римом было выведено беспрецедентное количество колоний, в то время как система римской агрименсуры не обладала еще тем инструментарием, который позволял бы гарантировать сохранность как частных участков, так и общественных земель колонии или римского народа: право отрезков будет разработано гораздо позже, начиная с эпохи Августа. Проблема оккупации общественных земель колонии была актуальна в эпоху Аппиана. О том, что она была актуальна и во II в. до н. э., свидетельствует анализ межевых камней гракханской комиссии.
В докладе Е. И. Соломатиной (Москва) «Формы политической власти в архаическом Лесбосе и их экономическая составляющая» была представлена традиционная реконструкция процесса политического развития и смены форм власти во второй половине VII – начале VI в. до н. э. в архаической Митилене: от олигархии Пенфилидов до череды сменяющих друг друга единоличных правителей. Автором также были привлечены данные археологии по архаическим полисам Лесбоса, трактуемые как виды престижной демонстрации расходуемого богатства правящих элит и свидетельствующие об отличии митиленской аристократии в выборе объектов демонстративного потребления и престижных трат.
В докладе В. А. Конюхова (Москва) «Immunitas и формирование ius Italicum» было отмечено, что, в отличие от многих исследователей, рассматривавших ius Italicum как цельное и не менявшееся с течением времени правовое явление, Ф. Хинрикс в работе (Hinrichs F. T. Die Geschichte der gromatischen Insitutionen. Wiesbaden, 1974) членит его на компоненты и показывает временную динамику. Возможными компонентами ius Italicum, по Ф. Хинриксу, являются определенная судебно-правовая самостоятельность общин с италийским правом, свойство их земли становиться квиритским доми-нием и, наконец, их иммунность. Анализ, проведенный этим исследователем, привел его к выводу о нерелевантности первых двух возможных компонентов и ведущей роли immunitas в конституировании классического ius Italicum. Другим важным выводом оказалось изменение значения данного понятия со временем: еще у Плиния Старшего иммунность не связана с италийским правом, в связи с чем делается вывод, что тради- ционная датировка появления ius Italicum в эпоху Августа или еще раньше, опирающаяся только на появление термина без анализа его внутреннего содержания, как минимум неточна.
Вслед за Ф. Хинриксом автор связывает оформление ius Italicum в его классическом виде с immunitas в качестве основного компонента, с эпохой Флавиев, а точнее, со временем Домициана, уступившего своим эдиктом все отрезки на территории Италии их фактическим владельцам и тем самым закрепившего правовое единообразие италийских земель в отношении их иммунности. Вместе с тем автор полагает, что Ф. Хинрикс порой подходит к анализу ius Italicum слишком механистически, а континуальные изменения в значении понятия с переходом от судебно-правовой самостоятельности общин к их иммунноcти в качестве основного определяющего признака ius Italicum не находят должного рассмотрения в работе Ф. Хинрикса. Этапами на этом пути могут быть кадастры из Оранжа, ряд решений Веспасиана и Тита по дарованию общинам иммунного статуса, решение Домицианом земельного спора между Фалерием и Фирмами, наконец, вышеупомянутый Домицианов эдикт.
В докладе Г. В. Ускова (Ярославль) «Экономические причины политики переселения кочевых племен в римской Северной Африке II в. н. э.» рассматривалась политика оттеснения отдельных племен кочевников Северной Африки от плодородных земель в связи с активной с колонизацией региона, проводившейся римскими властями во II в. н. э.
Е. В. Новоселова (Москва) в докладе «Идеологические аспекты экономической политики в государстве инков» обратила внимание на те аспекты экономической жизни государства инков, которые связаны с идеологической политикой и являются ее составной частью. В качестве объекта для анализа взяты наиболее упоминаемые в колониальных источниках инкские экономические практики, а именно: 1) система насильственного переселения недавно покоренных народов; 2) пристальный контроль над повседневной активностью подданных; 3) практика создания государственных резервов продуктов и их периодическая раздача. Экономическая политика власти выражалась в активной мобилизации подданных для выполнения общественных работ; этим не только решался вопрос рабочей силы и занятости, но и позволялось людям чувствовать свою причастность к делам государства. В свою очередь, практика перераспределения и накопления не только служила целям более эффективного пользования произведенными благами, но и снимала социальную напряженность в критические моменты, поскольку из сообщений хронистов широко известно, что в неурожайные годы из государственных складов раздавались продукты нуждающимся. Таким образом, государство в целом и правитель в частности повышали престиж и авторитет в глазах подданных.
Заседание секции «Торговля. Финансы. Налоги» было открыто докладом А. В. Стрелкова (Москва) «Аристотель и греческие трапезиты». Докладчик отметил, что Аристотель в произведениях «Политика» и «Никомахова этика» дал резко отрицательный отзыв о людях, занимающихся ростовщичеством. Таковыми людьми были именно трапезиты, получающие доход от кредитных операций. Аристотель пишет, что деятельность ростовщиков с полным основанием вызывает ненависть. Это негативное отношение проистекает прежде всего из воззрений Аристотеля на природу денег. По мнению Аристотеля, деньги возникают в результате развития обмена. Обмен, особенно меновая торговля, имеет назначение восполнять то, чего недостает для самодовлеющей жизни. Развитие меновой торговли, пишет Аристотель, порождает потребность в деньгах. Надо заметить, что Аристотель для обозначения денег везде употребляет термин «монета», поскольку в его время существовала монетная форма денег. Деньги существуют не по природе, они возникли в результате соглашения между людьми как техническое средство, облегчающее обмен. Аристотель подчеркивает, что монета не всегда имеет равную силу. Во власти людей изменить ценность монеты или вообще вывести ее из употребления. Связано это с тем, что она основана на общепринятой условности, а условия всегда можно изменить. Деньги делают все соизмеримым, но не вещи приравниваются к определенному количеству монет, они лишь выражают в монетах свою стоимость, основанную на степени потребности. Таким образом, Аристотеля больше интересовала не функция денег как меры стоимости, а деньги как средство обращения.
Возникнув как техническое средство для облегчения обмена, деньги стали представлять самостоятельную ценность для людей. Отсюда возникает определение хрема-тистики, целью которой является богатство и обладание деньгами. Аристотель пишет, что с хрематистикой связано представление, будто богатство и нажива не имеют предела. Безграничное накопление денег, с точки зрения Аристотеля, противоречит той цели, ради которой они были созданы в результате всеобщего соглашения. Ростовщичество, по словам Аристотеля, «делает сами денежные знаки предметом собственности, которые таким образом утрачивают свое назначение, ради которого были созданы: ведь они возникли ради меновой торговли, взимание же процентов ведет именно к росту денег… Этот род наживы оказывается по преимуществу противным природе» (Pol. 1258b 2–8). Таким образом, негативное отношение Аристотеля к деятельности трапезитов связано с его пониманием природы денег.
Е. В. Булычева (Москва) в докладе «Эйсфора в договорах об аренде священной земли в Аттике (IV в. до н. э.)» рассмотрела вопрос об уплате эйсфоры на основании договоров об аренде священных земель из Аттики IV в. до н. э. Автор отметила, что из договоров об аренде священных земель видно, что происходит факт возрастания эйсфоры. В частности, в арендном договоре оргеонов Эгрета, в последних строках, говорится, что в случае возрастания чрезвычайного налога оргеонам следует его уплатить в соответствии с оценкой стоимости имущества (IG. II2.2499, lin. 37–40). При этом особенно важным является указание на то, что уплата этого налога должна производиться в соответствии с оценкой стоимости имущества. Подобное указание содержится и в арендном договоре из Пирея. В нем также сказано, что чрезвычайный налог следует платить в соответствии с оценкой стоимости (IG. II2. 2496, lin. 7–9).
Другой важный вопрос связан с составом налогоплательщиков эйсфоры. В договорах об аренде священных земель в качестве плательщиков эйсфоры указаны как арендаторы (частные лица), так и арендодатели (различные культовые объединения и сообщества). Арендные договоры после завершения Пелопоннесской войны показывают, что различные ассоциации и объединения постоянно участвовали в финансировании различных полисных празднеств и церемоний. Они предоставляли средства, полученные от сдачи теменосов в аренду, на финансирование полисных праздников. Коллективы также были заинтересованы в выполнении финансовых обязательств перед властью полиса, поскольку от полисных структур они получали право на участие в аренде. Взимание эйсфоры проводилось под тщательным контролем полисной администрации.
На основании анализа условий договоров об аренде священных земель автор делает выводы: уплата эйсфоры являлась важным обязательством граждан перед полисом; чрезвычайный налог, введенный во время Пелопоннесской войны, постепенно превращался в постоянный, что вызывало у некоторых граждан недовольство; систематическое обращение к эйсфоре требовало поиска новых форм его взимания. В такой ситуации обращение власти полиса к объединениям граждан, занимающихся экономической деятельностью, представляется вполне закономерным.
И. Н. Коровчинский (Москва) в докладе «Надписи Ай-Ханум и импорт оливкового масла в Греко-Бактрию» отметил, что среди надписей сокровищницы дворца в греко-бактрийском городе Ай-Ханум на сосудах с различными ценностями имеются четыре надписи (№ 117-120 по Corpus Inscriptionum Iranicarum), нанесенные на один и тот же сосуд, в котором хранилось оливковое масло. Точнее, речь идет о двух текстах на крышке сосуда и продублированных на его стенке. Подходящим климатом для оливководства в Старом Свете обладает лишь Средиземноморье. Следовательно, оливковое масло импортировалось в Бактрию оттуда и, несомненно, являлось дорогим импортным продуктом, почему и считалось достойным хранения в сокровищнице. В надписях идет речь о том, что в сосуд, носивший номер 1, сначала было перелито содержимое двух сосудов меньшего размера (керамиев), а затем (спустя длительное время) еще одного, но все равно сосуд оставался неполным. Более ранняя из пары надписей датирована 24 годом эры Евкратида I (около 147 г. до н. э.) Самые поздние сведения источников о наличии у Селевкидов власти над Мидией относятся к 148 г. до н. э. Следовательно, надписи могут отражать ситуацию того времени, когда Парфия вела войны одновременно с державой Селевкидов и Греко-Бактрией и овладела Мидией. Явный дефицит оливкового масла в Ай-Ханум может свидетельствовать о том, что Парфия заблокировала в тот период товарообмен между двумя назваными своими противниками по прямому пути через Мидию. Именно такая блокада могла привести к тому, что в Ай-Ханум, расположенном в восточной, наиболее удаленной от Средиземноморья части Бактрии, оказалось невозможным заполнить доверху даже один из имевшейся ранее серии сосудов для оливкового масла, и к редкости доливок.
В докладе В. В. Дементьевой (Ярославль) «Снабжение Рима хлебом: Остийская провинция квесторов (III в. до н. э. – I в. н. э.)» были рассмотрены дискуссионные вопросы функций квесторов в Остии, сведения источников о том, что при Октавиане Августе остийская квестура продолжала сохраняться до преобразований, осуществленных императором Клавдием. Квесторы обеспечивали хлебом Рим при поставках зерна через порт Остию. Они отвечали за покупку зерна, его хранение в Остии и транспортировку в Рим, т. е. осуществляли контроль всех звеньев обеспечения города привозным зерном.
Доклад Ю. С. Веселовой (Ярославль) «Взаимодействие римских mercatores с племенем бригантов в рамках amicitia (конец I в. до н. э. – I в. н. э.)» был посвящен торговым контактам Римской империи с племенем бригантов в Британии. Автор проанализировал экономическое взаимодействие mercatores Римской империи и племенной элиты бригантов.
Н. А. Филимонов (Ярославль) в докладе «Сбор налогов и пошлин в провинции Дакия (107–167 гг. н. э.)» рассмотрел систему сбора налогов и таможенных пошлин в провинции Дакия с 107 по 167 г. На основе эпиграфического материала анализируются виды налогов в данной провинции, а также роль таможенных станций в системе сбора пошлин в римской Дакии.
-
А. В. Сафронов (Москва) в докладе «Торговые пути внутри и вне мира майя» остановился на проблеме организации коммуникационных путей. В экономике древних майя следуют выделить два основных направления торговли – внутренняя, т. е. связи между городом и его сельскохозяйственной округой, а также внешняя, т. е. дистанционная торговля между царствами майя и другими регионами, являвшимися источниками ценных ресурсов. Развитие внутренних торговых путей, ориентированных на доставку сельскохозяйственной продукции и местных ремесленных товаров, с одной стороны, хорошо прослеживается по археологическим материалам, к которым относятся системы дорог – сакбе, связывавших город с административными центрами (округой). Известны доклассические (Эль-Мирадор), классические (Караколь, Тикаль, Коба) и постклассические (Ичмуль, Ицамаль, Кансахкаб) системы дорог. С другой стороны, идентификация города и подчиненных ему административных центров при отсутствии системы сакбе позволяет смоделировать с учетом рельефа местности в среде ГИС наи-
- более удобные пути, связывавшие их вместе, т. е. проложить гипотетические торговые маршруты. Поскольку не были найдены подтверждения наличия сакбе между независимыми столицами царств межгородские торговые пути их предполагаемое расположение также может быть смоделировано в программном комплексе ГИС.
Внешние торговые пути, которые, как правило, были связаны с доставкой престижных товаров (жад, какао, каучук, раковины) и стратегических ресурсов (обсидиан, соль), позволяют определить, что в область майя поставлялись ресурсы из Гватемальского нагорья, с побережья Мексиканскго залива, из Центральной Мексики, с побережья Коста-Рики и других областей. При этом значительную роль играл водный транспорт, поэтому в реконструируемую сеть торговых путей с полным правом включаются судоходные реки области майя, а также морское побережье полуострова Юкатан, вдоль которого осуществлялось каботажное плавание. В классический период расцветают города, связанные с транзитной торговлей по рекам (Тикаль, Дос-Пилас, Пьедрас-Не-грас, Канкуэн, Эль-Перу и др.). Примечательно, что с упадком политической системы классического периода и последовавшим вместе с этим исчезновением рынков сбыта в Центральных низменностях майя повлекло перенос торговых путей с внутренних речных систем на прибрежные воды Юкатана, где в постклассический период продолжают существовать крупные города (Чичен-Ица, Эк-Балам, Ушмаль, Майяпан, Чампотон и др.), а для обеспечения бесперебойного транзита появляются небольшие укрепленные пункты, существовать за счет торговли (Тулум, Шкарет, Сан-Гервасио и др.). Существование торговых путей всецело зависело от текущей политической ситуации в области майя.
В докладе Д. Д. Беляева (Москва) «Торговля и торговцы в обществе майя в классический и постклассический периоды» отмечено, что торговля и обмен активно исследуются по археологическим данным, однако доиспанские письменные данные довольно ограничены. Для классического периода (III–IX вв. н. э.) единственное подробное описание торговли – настенные росписи из Чикнаба (Калакмуль), изображающие локальную торговлю на городском рынке. Кроме операций и товаров, здесь также упомянуты многие категории продавцов: кукурузы и различных видов пищи из нее, соли, табака, гончарных изделий и т. д. Сцены с изображением торговцев популярны в искусстве Чичен-Ицы (X–XI вв.), однако в иероглифических текстах торговцы по-прежнему не упоминаются.
У майя существовали боги – покровители торговли. В классический период эту роль выполнял старый бог Ицам-Ат. Его символами были шляпа с сидящей на ней совой, посох, сигара и тюк с товарами. Такую же шляпу носят торговцы на ряде изображений. На керамике изображают миф, отражавший невысокий статус торговцев в обществе классической эпохи. В постклассический период роль бога – покровителя торговли переходит к Эк’-Чуваху. Некоторые черты его образа (прежде всего квадратный нос) отражают влияние центральномексиканской традиции, где бог – покровитель торговцев Йакатекутли также изображается с квадратным носом. Эк’-Чувах фигурирует в Мадридском кодексе как одно из важнейших божеств, что, очевидно, указывает на то, что социальное положение торговцев изменилась и их статус повысился. Это подтверждается и сообщением Диего де Ланды о том, что в середине XV в. сын майяпанского правителя из династии Кокомов занимался коммерческими операциями в Гондурасе.
Заседание секции «Хозяйство. Быт. Человек» было открыто докладом Б. Е. Александрова (Москва) «Экономика старости в Сирии позднебронзового века», в котором автор отметил, что старость как социальный и экономический феномен представляет собой перспективное поле исследования, к освоению которого наука о древнем Ближнем Востоке приступила относительно недавно. Клинописные архивы из сирийских центров периода поздней бронзы (XV–XII вв. до н. э.) сохранили значительное количество текстов, проливающих свет на способы материального обеспечения старых людей. Особую ценность имеют частноправовые документы, более 100 завещаний и усыновлений, из г. Эмар (совр. Телль-Мескене) на Среднем Евфрате, датируемые XIV–XIII в. до н. э. Как и в других социумах архаики, в Эмаре отсутствовала система государственной поддержки старых. Благотворительность также не играла существенной роли в их обеспечении. Старым людям приходилось рассчитывать на собственные активы, полученные по наследству или приобретенные в результате хозяйственной деятельности. Наибольшую ценность среди этих активов имела недвижимость. Основное бремя повседневной заботы о старых людях ложилось на их ближайших родственников. Однако документы из Эмара показывают, что могли применяться и альтернативные стратегии. Например, уход за патриархом возлагался на рабов, которым взамен гарантировалась свобода после его смерти. В аналогичной роли могли выступать должники, которые часто принимались в семью в качестве усыновленных и женились на дочерях или рабынях кредитора. Также засвидетельствованы и обратные случаи, когда заботу о пожилых, включая выплату их долгов, брали на себя состоятельные люди со стороны. Основным стимулом для них была перспектива получить наследство. Их статус наследника закреплялся особым правовым актом, содержавшим клаузы об усыновлении. Такого рода квазиусыновления хорошо засвидетельствованы материалами других архивов того же периода, в частности архивами Нузи, где подобная практика приобрела особенно широкий размах и служила средством для консолидации земельных владений элиты. Однако в Эмаре квазиусыновления богатых носили, по всей видимости, единичный характер. Большое внимание в завещаниях уделяется судьбе жены завещателя. Чтобы гарантировать жене достойную старость, муж прибегал к особой юридической конструкции, наделявшей ее статусом главы домохозяйства после его смерти (согласно терминологии источников, такая жена становилась «отцом и матерью дома»). Это позволяло сохранить домохозяйство неразделенным, и дети умершего патриарха должны были заботиться о его жене, своей матери или мачехе, до конца ее дней. Только выполнив это условие, они получали право на свою долю наследства.
В докладе И. А. Ладынина (Москва) «Общество Позднего Египта в свидетельствах древнегреческих авторов V–IV вв. до н. э.» были рассмотрены сведения Геродота, Платона, Аристотеля, Исократа, Дикеарха Мессенского, Гекатея Абдерского (в передаче Диодора) и Страбона об организации общества Древнего Египта. Согласно этим сведениям, его важнейшей чертой было деление на три замкнутые и наследственные социальные группы – жрецов, воинов и трудовое население, причем последняя группа не обозначалась каким-то единым термином и сама состояла из более дробных профессиональных разрядов. По крайней мере, с 370-х гг. до н. э., когда Исократ писал свою речь «Бусирис», появилась тенденция связывать эту черту социального строя Египта с деяниями его древнейшего царя, в образе которого угадываются реминисценции социального реформатора эпохи Среднего царства Сенусерта I. При этом в античной традиции проведена мысль о древности, а стало быть, исконности и мудрости такого социального строя, обеспечивающего Египту высокую степень стабильности и благополучие. По мнению докладчика, данная совокупность свидетельств описывает реалии древнеегипетского общества, сложившиеся после падения Нового царства, на протяжении XI–VII вв. до н. э. (в так называемый Третий Переходный период). Исходно, с начала II тыс. до н. э. (собственно, с реформ исторического Сенусерта I), египетское общество было устроено по принципу деления всех зависимых от государства работников на пополняемые по его воле незамкнутые профессиональные группы. Их стратификация по критерию сложности и престижа видов деятельности и определенное «замыкание», видимо, наметилось уже в конце II тыс. до н. э. (в конце XIX и при ХХ династиях). С резким ослаблением царской власти в начале Третьего Переходного периода, ее переходом к ливийским домам и их отчуждением от реального участия в религиозной жизни произошла ее монополизация жречеством; одновременно сложился особый слой ливийской по своему этническому составу военной элиты, между представителями которой распределялась земля (эта черта также отразилась в античной традиции). Окончательно данная система общественной организации сложилась, видимо, к середине VII в. до н. э. Фундаментальной предпосылкой к ее сложению кажутся не какие-либо изменения в социально-экономической сфере (в частности, не переход к железному веку и не повышение товарности хозяйства), а именно обрушение на исходе Нового царства той государственной конструкции, которая существовала в Египте в III–II тыс. до н. э.
-
В. М. Строгецкий (Нижний Новгород) в докладе «Особенности экономического развития архаической Греции в период становления полиса» отметил, что важнейшей мыслью Аристотеля в его труде «Экономика» является указание на то, что управление полисом предусматривает многих правителей, т. е. демократию, а управление хозяйством основывается на частной собственности. Главная воспитательная роль, по Аристотелю, состоит в приоритете частной собственности и частного права и заключается в том, что таким образом формируется хозяин и гражданин, способный уметь приобретать имущество, содержать его в порядке и использовать наличное имущество надлежащим образом.
В докладе «Мясо в рационе афинянина» В. С. Ленская рассматривает вопросы, связанные с употреблением «красного мяса» (мяса коров, овец, коз, свиней) афинскими гражданами. В большинстве случаев афинянин употреблял это мясо на общественных праздниках, во время которых происходили жертвоприношения и раздачи мясных порций (в вареном или сыром виде) всем участвовавшим гражданам. Согласно подсчетам исследователей, афинянин мог принимать участие в жертвоприношениях и получать жертвенное мясо не менее 40–45 раз в году (а возможно, и больше), так что в среднем выходит, что он получал бесплатные мясные порции каждые 8–9 дней. Другой способ приобретения мяса афинянином – покупка на рынке. Это единственный способ приобретения мяса для метеков, редко участвовавших в полисных праздниках и лишенных бесплатных мясных раздач. Таким образом, государство организовывало снабжение мясом жителей полиса двумя путями – во-первых, мясо продавалось на рынке, во-вторых, распределялось после полисных жертвоприношений. Гражданам были доступны оба пути, метеки могли приобрести мясо только одним способом – покупкой на рынке. Безусловно, при таком раскладе граждане ели мясо гораздо чаще, чем метеки, в чем можно усмотреть, в частности, своеобразную заботу государства о своих воинах, которые должны были постоянно поддерживать физическую силу и выносливость.
В докладе Т. Б. Гвоздевой (Москва) «Панафинейские амфоры: слава и деньги» была отмечена особая специфика наград атлетов на Панафинейских играх в Афинах. С одной стороны, оливковое масло в призовых панафинейских амфорах являлось сакральной, почетной наградой, подобно венкам на панэллинских играх, с другой – известны случаи продажи амфор с целью обогащения. Так, находки панафинейских амфор в варварских погребениях объясняются многими учеными либо их продажей, либо военным трофеем. Оливковое масло в призовых амфорах имело большую ценность, и вполне возможно, что победитель Панафинейских игр, получавший от 40 до 140 амфор оливкового масла, часть мог реализовать с пользой для себя. Схолиаст Пиндара отмечал, что экспорт священного масла Афины был запрещен всем, кроме победителей Панафиней-ских игр (schol. Pind. Nem. X. 64a). Чтобы гарантировать качество масла, его старались продать в призовых панафинейских амфорах. Так, П. Валаванис отмечал разницу в стоимости священного масла в амфорах и обычного оливкового масла. Существует также версия, что панафинейские амфоры были предметом продажи в Афинах. Однако стоит уточнить, что речь идет либо о псевдопанафинейских амфорах, объем и размер которых был гораздо меньше призовых амфор, или о миниатюрных амфорисках, которые использовали как сувениры или тару для так называемого «панафинейского парфюма».
-
В. С. Кореняк (Ярославль) в докладе «Экономическое развитие Беотии в V–IV вв. до н. э.: хозяйство платейского полиса» отметил своеобразие экономической жизни Беотийского аграрного региона. Автор проследил влияние географического фактора на ориентацию хозяйственной деятельности.
В докладе В. В. Хапаева (Севастополь) «Изменение экономического уклада византийской Таврики в VI–VIII вв.» было отмечено, что глобальное похолодание III–VII вв., именуемое климатическим пессимумом раннего Средневековья, затронуло и Крым. Оседлое земледелие, бывшее основой экономики полуострова в Античности, уступило место скотоводству на большей части его территории. Из экспортера продовольствия, каким был полуостров c IV в. до н. э. по III в. н. э., он постепенно превратился в его импортера. Критической стала зависимость населения городов Таврики от импорта пшеницы из Малой Азии. Острые проблемы с доставкой хлеба в Херсон в 655 г. и даже невозможность его купить ни за какие деньги в конце весны, накануне нового урожая, отразил в письмах сосланный в Таврику Римский Папа Мартин I. Почти полное сворачивание хлебного производства в Крыму в IV–VII вв. связано с длительным иссушением (аридизацией) климата на полуострове, продолжавшимся все это время. Особенно засушливым стал период с 598 по 677 г. Херсонес и другие города полуострова не получали достаточное количество хлеба. Потепление и увлажнение климата в последней трети VII в., достигшее пика к середине VIII в., привело к кардинальным демографическим и хозяйственным изменениям на полуострове. В условиях достаточно влажного климата производство злаков увеличивалось: к середине VIII в. на полуострове производилось до 6 тыс. т товарного зерна, а во второй половине столетия этот показатель вырос до 12 тыс. т, что позволило не только отказаться от завоза зерна из-за моря, но и наладить его экспорт, в том числе в Константинополь. По всей горной части полуострова возникают обширные зернохранилища. Одновременно бурно возрождаются виноградарство и виноделие, совершенствуется технология его производства. Крымские вина снова начинают экспортироваться – в Приазовье, на Дон и даже в более отдаленные регионы Хазарского каганата.
Средневековый климатический оптимум VIII–XIII вв., характеризовавшийся более высокой, чем в наши дни, среднегодовой температурой воздуха и, как правило, бóльшим количеством осадков, благоприятно сказался на условиях жизни не только в Крыму, но и во всей в Восточной Европе. Между кочевыми и оседлыми народами началась ожесточенная конкуренция за обладание этими территориями. В IX в. степи Северного Крыма контролировали воинственные и непредсказуемые кочевники (сначала венгры, затем печенеги), периодически нападавшие на южные районы полуострова, принадлежавшие Византии. Несколько раз у византийцев возникали конфликты с хазарами. Поэтому сельское население византийской Таврики, несмотря на благоприятный для земледелия климат, было вынуждено изменить хозяйственные занятия, сделав основную ставку на скотоводство, в первую очередь выращивание овец. Стада, в отличие от посевов, было легче спасти от врага, в том числе в специальных крепостях-убежищах, во множестве построенных в Горном Крыму еще на рубеже VI–VII вв. Продукция животноводства (мясо, молоко, сыр, шерсть, кожи) была высоколиквидным товаром, востребованным как в самом Крыму, так и в остальной Византии. В частности, из ове- чьей кожи выделывался лучший пергамент, которого для империи с ее грамотным населением и огромной бюрократией требовалось очень много. Поэтому, экономического упадка в крымской деревне IX в. не наблюдается. Однако крымские города и в первую очередь Херсон, вновь, как и в VI–VII вв., попали в зависимость от поставок продовольствия из Малой Азии.
П. Н. Лебедев (Москва) в докладе «Книга как предмет престижного потребления в Римской империи во II в. н. э.» отметил, что современная практика чтения предполагает индивидуальное чтение про себя, тогда как в Античности более распространенным было чтение вслух в компании друзей. Как убедительно показано в исследованиях У. Джонсона, практика совместного чтения в Римской империи II в. н. э. позволяла соединять интеллектуальные занятия в процессе организации культурного досуга (otium) с установлением важных социальных связей. Знание литературной традиции и умение грамотно и остроумно комментировать обсуждаемые произведения позволяли обрести влиятельных друзей и обеспечить себе покровительство высокопоставленных политических деятелей. Этими обстоятельствами объясняется престижность обладания книгами и их достаточно высокая стоимость во II в. н. э. (например, Марциал пишет о стоимости качественного издания своих стихов в 20 сестерциев, а Авл Геллий сообщает о покупке каким-то его знакомым особо редкой книги за фантастическую цену в 2 000 сестерциев; Mart. Ep. I.117.17; Aul. Gell. Noct. Att. II.3.5). Лукиан из Самосаты в сочинении «Неучу, который покупал много книг» свидетельствует о существовании практики покупки дорогих книг с целью демонстративного потребления. Спрос и предложение на книжном рынке были весьма ограниченными, равно как узким был и круг возможных покупателей. Большую роль при этом играли личные связи и частные контакты, благодаря которым можно было получить копию тех или иных сочинений. Обладание книгами, совместное чтение и обсуждение книг, участие в процессе обмена книгами в Римской империи II в. н. э. стали способами обозначить свою принадлежность к более узкому кругу избранных на фоне расширения слоя имперской элиты.
Все доклады, представленные на конференции, вызвали большой интерес и сопровождались интересной дискуссией.
* Материалы предыдущих конференций были опубликованы в: Гвоздева И. А. Международная конференция «Экономическая история античности в современной историографии» // Экономическая история. – 2014. – № 1 (24). – С. 61–77; Гвоздева И. А., Кириллова М. Н. Международная научная конференция «Экономическая история античности в мировой историографии» // Экономическая история. – 2016. – № 4 (35). – С. 121–134; Кириллова М. Н., Гвоздева Т. Б. Международная научная конференция «Экономическая история античности в мировой историографии» (Москва, Исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 29–30 января 2016 г.) // Вестник Древней Истории. – Т. 77. – № 2. – С. 484–488.