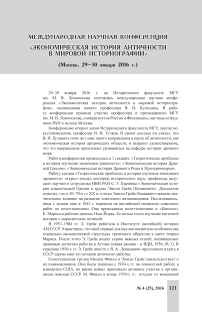Международная научная конференция "Экономическая история античности в мировой историографии" (Москва, 29-30 января 2016 г.)
Автор: Гвоздева Инна Андреевна, Кириллова Мария Николаевна
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Обзоры и конференции
Статья в выпуске: 4 (35), 2016 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14723822
IDR: 14723822
Текст статьи Международная научная конференция "Экономическая история античности в мировой историографии" (Москва, 29-30 января 2016 г.)
29–30 января 2016 г. на Историческом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова состоялась международная научная конференция «Экономическая история античности в мировой историографии», посвященная памяти профессора В. И. Кузищина. В работе конференции приняли участие профессора и преподаватели МГУ им. М. В. Ломоносова, университетов России и Финляндии, научные сотрудники РАН и музеев Москвы.
Конференцию открыл декан Исторического факультета МГУ, доктор искусствоведения, профессор И. И. Тучков. В своем докладе он указал, что В. И. Кузищин стоял во главе такого направления в науке об античности, как экономическая история архаических обществ, и выразил удовлетворение, что это направление продолжает развиваться на кафедре истории древнего мира.
Работа конференции проводилась в 3 секциях: «Теоретические проблемы и история изучения экономики древности»; «Экономическая история Древней Греции»; «Экономическая история Древнего Рима и Причерноморья».
Работу секции «Теоретические проблемы и история изучения экономики древности» открыл доклад докторор исторических наук, профессор, ведущего научного сотрудника ИВИ РАН С. Г. Карпюка «Экономическая история классической Греции в трудах Эмили Грейс (Казакевич)». Докладчик отметил, что в 50–70-е гг. ХХ в. статьи Эмили Грейс-Казакевич оказали значительное влияние на развитие советского антиковедения. Исследовательница с мужем еще в 1943 г. перевела на английский несколько советских работ по политэкономии. Она преподавала политэкономию и «Капитал» К. Маркса в рабочих школах Нью-Йорка. Ее целью стало изучение античной истории с марксистских позиций.
В 1953–1984 гг. Э. Грейс работала в Институте (всеобщей) истории АН СССР. Характерно, что свой первый доклад она посвятила особенностям социально-экономической структуры греческого общества в свете теории Маркса. После этого Э. Грейс пишет серию важных статей, посвященных правовым аспектам рабства в Аттике (самая ранняя – в ВДИ, 1956, № 3). В середине 1950-х гг. Э. Грейс вместе с Я. А. Ленцманом предложила издать в СССР серию книг по истории античного рабства.
Сопоставление трудов Мозеса Финли и Эмили Грейс свидетельствует о их взаимовлиянии. Они были знакомы с 1930-х гг. по совместной работе в компартии США, во время войны принимали активное участие в организации помощи СССР. М. Финли в конце 1950-х гг. отходит от микенской

Выступление декана Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктора искуствоведения, профессора И. И. Тучкова проблематики и переключается на исследование рабства. Они явно в курсе работ друг друга; Финли в знаменитой статье 1959 г. в журнале «Historia» о том, основывалась ли древнегреческая цивилизация на труде рабов, ссылается на исследования Грейс. Э. Грейс смогла проявить себя в полной мере как историк именно в СССР, поскольку была убежденным сторонником использования марксистской теории для познания закономерностей общественного развития. Ее внимание вначале привлекла проблема рабства, после чего она плодотворно разрабатывала тему статуса негражданского населения Аттики. Комплексный анализ источников, который она применяла к социальноэкономическому материалу, давал блестящие результаты.
В докладе доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории древнего мира и средних веков Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского А. В. Махлаюка «Римская империя как экономическое пространство» были выделены и охарактеризованы те факторы, которые благоприятствовали хозяйственной интеграции обширной и весьма разнородной имперской территории. Было отмечено, что в современной историографии со времен М. Финли экономическое единство и интегрированность Римской державы I–II вв. н. э. часто ставятся под сомнение, однако в последнее время наблюдается тенденция рассматривать римскую экономику как одну из самых успешных традиционных имперских экономик в истории, далекую от примитивизма и включавшую элементы капитализма «отнюдь не в эмбриональной форме» (В. Харрис); высказываемые в новейших исследованиях оценки склоняются в пользу гораздо большей роли рыночных механизмов в экономике Империи. В связи с этим возникает вопрос о природно-, культурно- и политико-географических характеристиках имперского пространства.
Для понимания империи как единого экономического пространства важно прежде всего учитывать те преимущества, которые для ее экономики давало Средиземное море: благодаря широким возможностям пользоваться морским транспортом Римская держава имела геополитические преимущества, эквивалентные по экономической значимости высокопродуктивному ирригационному сельскому хозяйству других доиндустриальных империй. Существенное значение имела и сухопутная транспортная инфраструктура с ее высококлассными дорогами (общая протяженность, по современным оценкам, – около 100 тыс. км), мостами, переправами, которая обеспечива- ла не только связь центра с провинциями, но и связывала различные части державы. Данное обстоятельство позволяло на постоянной основе осуществлять обмен ресурсами и товарами между различными микрозонами средиземноморского мира, специализировавшимися на том или ином виде производства, при этом использовались как политико-административные, так и рыночные механизмы перераспределения продуктов горнодобывающей, сельскохозяйственной и ремесленной отраслей. Существенным фактором увеличения количества денег в экономике стало общее для Средиземноморского мира сокращение военных расходов и степени вовлеченности населения в военную сферу. Наряду с единством денежной и правовой систем экономическая интеграция имперского пространства облегчалась греко-латинским билингвизмом и той культурной общностью, которая связана с развитием городских элит и городской жизни. Поэтому в качестве характерной черты римского мира, способствовавшей его экономической интеграции, следует назвать высокую общую урбанизированность (хотя и неоднородную) имперского пространства, причем города Империи отнюдь не были только центрами потребления прибавочного продукта, производимого в сельском хозяйстве, но являлись и производящими центрами включенными в экономические связи и с прилегающими территориями, и с самыми отдаленными уголками державы.
Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова И. А. Ладынин (Москва) в докладе «Об одном сюжете социальной истории Древнего Египта III тыс. до н. э.» обратился к фундаментальному для истории Древнего Египта вопросу о судьбе в его социальной структуре сельской общины. Как показал крупнейший исследователь общества древнего Ближнего Востока
Работу секции «Экономическая история Древнего Рима и Причерноморья» открыл доклад доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой Истории древнего мира Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова С. Ю. Сапрыкина «Экономическая политика понтийских и боспорских царей на рубеже нашей эры»

Кандидат исторических наук, доцент А. В. Сафронов, доктор исторических наук, профессор Л. И. Бородкин

И. М. Дьяконов, Древний Египет шел по уникальному «второму пути развития», сложившемуся не просто на основе ирригационной экономики, но и в условиях очень узкой речной долины и ранней централизации государства. Такое сочетание привело к быстрому и полному поглощению государственным сектором экономики независимой сельской общины: в Египте «свидетельства ее существования» невозможно обнаружить «для эпохи от 2000 г. до н. э. и позже». При этом в связи с исчезновением в Египте общины ключевое значение имеет свидетельство автобиографической надписи из гробницы Мечена в Саккара (конец III династии). Этот вельможа приобрел в Дельте Нила у коллектива людей, именуемых несутиу (букв. «царские»), участок земли в 200 сечат (около 55,13 га). Докладчик показал, что, во-первых, в условиях египетского землепользования на проданном Мечену участке могло разместиться 40–50 малых семей: таким образом, он действительно мог представлять собой земельный фонд отдельной общины, приобретенный у нее целиком. Во-вторых, подробная классификация сведений об аппарате управления Египта Древнего царства, проведенная в 1990–2000-е гг. Х. К. Морено-Гарсия, предоставляет о несутиу следующие сведения: эта категория людей отлична от государственно-зависимых мерет; во времена IV–V династии она находилась под управлением особых чиновников (ими-ра-несутиу) на территории Среднего Египта; статус ими-ра-несутиу достаточно систематически совпадает со статусом чиновников, управлявших «суну» – хозяйственных учреждений, название которых выписывалось с использованием иероглифического знака, изображавшего высокую зубчатую башню. По мнению докладчика, аналогией суну могут быть башни-димту хурритской Аррапхи II тыс. до н. э., выполнявшие роль не только укреплений и складов, но вообще центров жизни больших общинных коллективов; думать, что в глубокой древности башни-суну выполняли такую же роль в Египте, позволяют фрагменты Текстов пирамид, где этот термин обозначает обиталища богов. Собранный материал позволяет предполагать, что процесс интеграции общин в государственное хозяйства занял весь период III–V династий, происходил быстрее в Дельте (там он мог дать качественные результаты уже во времена Мечена) и медленнее в Верхнем Египте. Сам же термин несутиу мог обозначать общинников как лично свободных подданных царя с древнейших времен.
Кандидат исторических наук, доцент МГИМО Б. С. Ляпустин в докладе «Современные направления исследования древнеримской экономики и античная форма собственности» отметил, что в последнее время в запад-

Кандидат исторических наук, доцент Т. Б. Гвоздева, кандидат исторических наук, доцент В. В. Хапаев ном антиковедении обозначились новые направления, которые пытаются преодолеть однобокость и ограниченность старых подходов и открыть новые возможности к более глубокому изучению хозяйственной жизни в античности. Так, широкое распространение в англоязычной литературе получил дедуктивный метод.
Его сторонники (Н. Розенштайн,
В. Йонгман и др.) стремятся решить проблему недостатка источников рас- суждениями по аналогии. Они берет искусственно вычисленные среднестатистические данные (поскольку мышление античного человека не знало статистической отчетности), и, оперируя ими, пытаются построить различ- ные модели античной экономики. Авторов не смущает, что при таких подсчетах, не опирающихся на источники, неизбежно возрастет степень ошибок, что ведет к грубым искажениям исторических реалий.
Французский историк Ж. Андро предложил шире использовать универсальные законы современной политэкономии. Феномен экономики древнего Рима эпохи принципата, по мнению автора, может быть глубже понят через призму теории движения капиталов и платежного баланса, универсальной для всех эпох и экономик.
Но так как во всех исследованиях в конечном счете в центре внимания неизбежно встает реальный собственник и производитель, то оптимальным представляется изучение экономики на основе цивилизационного подхода М. А. Барга, где в центре предстают civitas и familia. Именно в рамках этих структур реализуется своеобразие античной формы собственности, которая и предопределяла всю специфику древнеримской экономики. А она, в свою очередь, может быть исследована и понята через мотивацию и практическое поведение стоявшего во главе фамильного хозяйства pater familias.
Секцию «Экономическая история Древней Греции» открыл доклад доктора исторических наук, профессора НГЛУ им. Н. А. Добролюбова В. М. Строгецкого «Социально-экономические и правовые основы эволюции Афинского морского союза», в котором речь шла о том, что проблема Афинского морского союза тесно связана с темой полиса. Полис и город в Древней Греции выражали две противоположные тенденции: город как развитие частной собственности. Полис же олицетворял господство античной формы собственности, сочетавшей частную и государственную форму собственности. По мнению докладчика, эта точка зрения нуждается в уточнении. Важными источниками, свидетельствующим о соотношении города и полиса являются Фукидид и Аристотель. Согласно Фукидиду, большие и малые города существовали уже в ахейской Греции. После Троянской во- йны, как отмечает историк, города, возникшие как на побережье, так и на перешейках города, имея средства в большем количестве, стали заниматься торговлей. Как следует из сочинений Фукидида и Аристотеля, полис формировался на основе города. Согласно Аристотелю, в полисе решались вопросы собственности и взаимоотношений между хозяйственными субъектами. Эффективно можно было решать эти вопросы только с помощью законодательных норм.
По мнению Аристотеля, преимущества имеет тот способ пользования собственностью, который совмещает в себе хорошие стороны, как общей собственности, так и частной. На этом основании исследователи и считают высказанную Аристотелем мысль важнейшим доказательством полисной двойственной формы собственности. В связи с этим необходимо отметить, что, во-первых, наличие собственности как общей, так и частной предусматривает существование процесса купли и продажи, т. е. рыночных отношений, где цена продаваемых вещей устанавливается путем спроса и предложения. Во-вторых, Аристотель, раскрывая свое понимание общей и частной собственности, уточняет значимость той и другой. Он подчеркивает, что собственность должна быть общей только в относительном смысле, а вообще частной.
Итак, полис и город, с точки зрения Аристотеля, неразделимы, но если в городе решались проблемы социально-экономические, то в полисе – социально-политические и правовые. Поэтому согласно Аристотелю, в полисах действует порядок, при котором человек, имея частную собственность, в одних случаях дает ее в пользование своим друзьям, в других – предоставляет ее в общее пользование. Поэтому в Древнем Риме эта практика была оформлена на законодательном уровне как «права на чужие вещи».
Доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИВИ РАН И. Е. Суриков в докладе «Как экономические реформы Солона повлияли на развитие афинского полиса?» отметил, что сомневаться во влиянии со-лоновских экономических реформ на дальнейшее развитие афинского полиса совершенно не приходится. Однако из конкретных интерпретаций механизмов этого влияния далеко не каждая будет безусловно верной. Так, не стоило бы преувеличивать позитивную роль сисахфии (отмены долгов) как экономической меры: с ней, как демонстрируется в докладе, все было далеко на так однозначно. Сисахфия представляется мерой неоднозначной, в каком-то смысле даже сомнительной; она была чревата полным подрывом кредита.
Совсем другое дело – такие реформы, как поощрение развития ремесел в Афинах (в том числе путем привлечения квалифицированных мастеров из других полисов), а также развития интенсивного оливководства. За этими нововведениями действительно было будущее, они во многом изменили весь облик Афин. Однако даже и они могли реально начать «работать» отнюдь не сразу, а на самых первых порах, безусловно, не могли еще начать приносить зримых, ощутимых результатов. Метрологическая реформа также смогла стать свой полный эффект тогда уже, когда афинский полис начал чеканить монету (это произошло во второй половине VI в. до н. э.).
Несколько десятилетий непосредственно после преобразований Солона были для Аттики очень тяжелым временем. Обилие политических смут в этот период явно имело и экономическую подоплеку. Закончились же смуты, как известно, установлением тирании Писистрата. Писистрат фактически явил- ся продолжателем дела Солона и во многом довел до конца то, что мудрец-законодатель не успел. Уже к концу его правления, а уж тем более к концу правления его преемника Гиппия совершенно четко ощущалось, что Афины перестали быть ординарным полисом, началась реализация их колоссального потенциала (в полной мере осуществившаяся уже в V в. до н. э.).
В своем докладе «Проблемы финансирования афинских праздников» кандидат исторических наук, доцент Литературного института им. А. М. Горького Т. Б. Гвоздева остановилась на вопросе финансирования афинских праздников, разбирая его на примере Панафинейского праздника, который в эпоху Афинского Морского союза являлся главным государственным праздником Афинской Архэ. Однако вместе с четырехлетними Великими Панафинеями продолжали проводиться ежегодные Малые Панафинеи. Одним из интересным источником по Малым Панафинеям является закон и декрет Ликурга, который представляет собой 2 фрагмента: фрагмент А – это закон для номофетов и фрагмент B – это декрет для демоса. Документ датируется 336/5 или 335/4 гг. до н. э.
О структуре Малых Панафиней нам известно немного. Ежегодный праздник включал в себя процессию, жертвоприношение, возможно подношение пеплоса, ночное шествие (паннюхис), состязания киклических хоров и пиррихистов. В афинском постановление о Панафинеях времени Ликурга говорилось, процессия в честь Афины должна проводиться «как можно лучше» и устройство ее перекладывается на гиеропеев. Ночное шествие на Великих Панафинеях проводилось 28 гекатомбеона и состояло из факельного бега, шествия и музыкального праздника. На организацию панафинейской процессии и ночного шествия, а также на украшение алтаря Афины и пира выдавалась сумма в 50 драхм. Процессия на ежегодном празднике вряд ли была такой же грандиозной, как на Великих Панафинеях, на что указываем сумма в декрете Ликурга.
Кульминация панафинейской процессии наступала на вершине Акрополя, где богине приносили жертву. В старом храме богине (вошедшим впоследствии в состав Эрехтейона) Афине Полиаде приносили «двоякую жертву». Происхождение двоякой жертвы связано со слиянием культа Афины Полиады с культом хтонических божеств: Пандросы и Эрихтония. Мясо от этой малой жертвы делилось между высшими магистратами полиса: при-танами, архонтами, казначеями, гиеропеями, стратегами и таксимархами. Остатки отдавались демосу.
В постановлении Ликурга предписывается передать мясо в демы, независимо от того, сколько человек от дема было представлено в процессии. В то же время гиеропеям предписывалось штрафовать любого «не повинующегося властям» за уклонение от празднечного торжества. Кроме того, в постановление упомянуты канефоры и «прочие участники процессии», которым также следовало выдать часть от мяса от жертвоприношения. Здесь речь несомненно идет об участниках «сакральной» части панафинейской процессии, которые зафиксированы на фризе Парфенона.
Кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ Е. В. Булычева в докладе «Обязанности арендодателей священной земли в Аттике в IV в. до н. э.» отметила, что до нашего времени сохранилось немало свидетельств о сдаче в аренду священной земли в Аттике в классическую эпоху. Особенно большое количество текстов относится к IV в. до н. э., Аполлона Ликейского, договор о сдаче в аренду храмовых земель дема эксонейцев.
В современной историографии существует немало работ, посвященных проблеме аренды храмовых земель в Аттике. Прежде всего это исследования М. Уолбэнка, Дж. Дэйвиса и Р. Осборна. Как правило, ученые обращают внимание на характер аренды в целом, не уделяя особого внимания отдельным аспектам земельных сделок. Цель данного доклада – рассмотреть практически неизученные правовые аспекты аренды священной земли, в частности обязанности арендодателей, в качестве которых выступали демы, фратрии и религиозные ассоциации, в первую очередь оргеоны.
Каждая организация, выступавшая в качестве арендодателя, получала определенные права от организации аренды: доход от арендной платы и выращенной продукции, право на изменение условий сделки, но при этом сама выполняла ряд обязательств перед полисом. В первую очередь это своевременное внесение пошлин и чрезвычайного налога – эйсфоры. Принятый в то время в Афинах декрет о пошлинах, устанавливал, что даже, если объект аренды взят в залог, то уплачивает двухпроцентную пошлину арендодатель, т. е. тот, кто берет в залог объект аренды и получает арендную плату.
В договорах часто сказано об уплате участниками аренды чрезвычайного налога – эйсфоры. Интересно отметить, что после завершения Пелопоннесской войны, коллективы чаще, чем частные граждане становились плательщиками эйсфоры. Кроме того, арендодатели должны были участвовать в финансировании религиозных мероприятий. Таким образом, можно сделать некоторые выводы.
Аренда священных земель строилась на основе определенных правовых норм. Арендодатели как основные организаторы сделки имели права, но при этом они несли ряд обязанностей, связанных с уплатой налогов, а также финансированием различных празднеств и церемоний полиса.
Кандидат исторических наук, доцент Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова А. В. Стрелков в докладе «О начале обращения бронзовой монеты в Древней Греции» отметил, что античные бронзовые монеты в отличие от полноценных монет из драгоценных металлов (если абстрагироваться от факта переоценки этих монет) имеют хождение по принудительному курсу, т. е. стоимость металла не соответствует их номиналу. М. Прайс предложил следующую последовательность распространения практики чеканки бронзовых монет в греческих полисах. Чеканка бронзовых монет начинается в полисах Сицилии приблизительно в середине V в. до н. э. В Южной Италии бронзовая чеканка начинается во второй половине V в. В конце V в. до н. э. бронзовая чеканка появляется на востоке греческого Средиземноморья и в первой половине IV в. до н. э. становится популярной в Балканской Греции, на островах Эгейского моря и на побережье Малой Азии. Однако, как считает автор доклада, данные М. Прайса можно уточнить. В произведениях афинских комедиографов, а также у позднеантичных и византийских авторов сохранились упоминания о монетах под названием коллибы, которые, уже в 20-е гг. V в. до н. э. в Афинах являлись бронзовыми разменными монетами и выступали в качестве самых мелких фракций серебряного обола, возможно, мельче, чем тетартеморий. В 406 г. до н. э. по инициативе Клеофонта был осуществлен выпуск еще одного вида бронзовых монет, которые по номиналу приравнивались к серебряным оболу и диоболу. Это были «деньги чрезвычайных обстоятельств». В 90-е гг. IV в. до н. э. бронзовые монеты чрезвычайного выпуска 406 г. до н. э. были приравнены по номиналу к коллибам, а затем хождение всех бронзовых монет было вообще запрещено. Однако развитие товарно-денежных отношений, потребности мелкой розничной торговли в Афинах привели к необходимости возобновить практику выпуска бронзовых разменных монет в середине IV в. до н. э.
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИВИ РАН В. С. Ленская в докладе «Проблемы финансирования полисных культов» подчеркнула, что перед исследователем встают следующие вопросы: что считать полисным культом, каковы источники финансирования, механизм распределения денег между разными культами, официальные лица, связанные с финансированием полисных культов. Автор приводит разные точки зрения на определение полисного культа; все они сходятся в том, что источники финансирования в полисных культах должны были быть государственными (хотя в некоторых культах, таких, например, как Элевсинский культ, частичное финансирование исходило от родов, оставивших за собой частичный контроль за культами). Финансирование полисных культов происходило из сокровищницы того или иного божества; автор рассматривает, какие сокровищницы существовали в Афинах, как они пополнялись и использовались; основными резервуарами священных денег являлись сокровищница Афины Полиады и сокровищница «других богов», располагавшиеся на Акрополе. Далее автор рассматривает механизмы распределения денег между разными культами, которые у афинян делились на «отеческие» и «дополнительные» и приходит к выводу, что и в том, и другом случае источниками финансирования культов были, по большей части, деньги от сдачи в аренду священных участков богов. Начиная с IV в., после введения новых дорогих жертвоприношений, привлекались и деньги из общего бюджета. Распределением денег между сокровищницами занимались аподекты: они должны были получать ренты от полисных теменосов, которые сдавал в аренду архонт-басилевс и распределять казначеям сокровищниц на Акрополе; далее казначеи выделяли средства для каждого конкретного праздника жрецам, иеропеям, эпистатам или другим должностным лицам, занимавшимся устройством праздника. До создания сокровищницы других богов деньги распределялись теми же аподектами непосредственно распорядителям праздников. Несмотря на то, что полисные святилища находились в ведении полиса, священные деньги формально считались собственностью богов и в случае займа из них полисом должны были быть непременно возвращены богу.
Работу секции «Экономическая история Древнего Рима и Причерноморья» открыл доклад доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории древнего мира Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова С. Ю. Сапрыкина «Экономическая политика понтийских и боспорских царей на рубеже нашей эры», в котором разбирались вопросы, связанные с состоянием сельского хозяйства в Понтийском и Бо-спорском царстве, а также некоторые экономические проблемы этих двух государств. Автор приходит к заключению, что эллинистические формы землевладения и землепользования, установившиеся в понтийском государстве, были привнесены в Боспорское царство после его включения в состав державы Митридата VI Евпатора. Речь идет о царской земельной собствен- ности, под которую подпадала большая часть земельных владений Боспо-ра, а также об отдельных элементах полисного землевладения. По примеру родового государства в понтийской Каппадокии и Пафлагонии Митридат VI Евпатор разрешил крупнейшим боспорским городам иметь в своем распоряжении небольшие земельные владения, которые были поделены между членами гражданских коллективов этих полисов. Это было связано с теми полисными привилегиями, которые Митридат VI Евпатор давал грекам, чтобы привлечь их на свою сторону. Однако, после 75 г. до н. э. отношение Митридата Евпатора к грекам изменилось, полисные привилегии и права автономии были урезаны, в результате чего те земельные владения, которыми эти полисы обладали, оказались под юрисдикцией царской власти. Это означает, что царь получил неограниченное право контролировать полисные земельные владения как верховный собственник земли в государстве.
Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова И. А. Гвоздева в докладе «Император Август и новая экономическая политика Рима» подчеркнула, что для архаических обществ сложно вводить понятие экономической политики государства. Скорее, мы можем обсуждать экономические уклады и их разновидности на определенном этапе развития. Однако римское общество в начале Империи определило направление своей экономической политики и развернуло ее на огромных площадях провинций. Разумеется, экономическая политика могла сформироваться в аграрной сфере экономики и была своеобразным итогом многовековой острой социальной борьбы в римском обществе. Именно в Риме стал возможен переход от решения аграрного вопроса к формированию экономической политики в аграрной сфере, поскольку за период Республики сложилась агрименсура – система организации земель к эксплуатации, которая создала научно-техническую базу для каждого элемента экономической и социальной жизни. Чрезвычайно важно, что именно в начале Империи сформировалась и категория dominium на землю, которая теперь неоспоримо существовала как на практике, благодаря римской агрименсуре, так и в римском земельном праве.
На чем строилась новая экономическая политика основателя империи Августа? Передача земли в dominium осуществлялась в первую очередь для категории ветеранов в колониях, выводимых в провинции. Август продемонстрировал, что наделение ветеранов осуществляется при сохранении всех основных принципов полисного мировоззрения, и в первую очередь идеи равенства. Однако этот принцип несколько корректировался другим принципом: воин получал земли за заслуги, т. е. воинские заслуги определяли размер участка. Но и принцип равенства также был продемонстрирован, поскольку предоставление участка пахотной земли происходило в dominium, т. е. в абсолютную собственность, однако Август наряду с пахотной землей давал возможность новым собственником использовать соседние угодья на условиях аренды. Наличие угодий теперь становится обязательным фактором, который сопутствует ассигнации земли в dominium. Это создавало условия для развития многоотраслевого хозяйства. Для угодий использовались silva, pascua, relicta, т. е. земли, привычные римскому сельскому сознанию с архаических времен. Новшеством же, введенным Августом, являлось то, что dominium создавался в результате новейших систем межевания земель лимитами – limitatio, при образовании квадратной единицы площади центурии (centuriatio). Dominium ве- терана имел подтверждение в записи на межевых камнях, а также в Кадастре данной территории. Dominium имел формулу datum assignatum, что являлось абсолютной гарантией неприкосновенности данной собственности. Особой заслугой Августа стало, то, что он смог на практике продемонстрировать отличие земли в dominium от поссессионов. Поссессионы возникали на землях, не пригодных для пахоты (леса, выгоны, реликты), однако на лимитированных площадях ветеранских колоний образовывались и «отрезки» (subsecivi) от межевания. Это были неполные центурии, а иногда и даже целая центурия, не занятая поселенцами. Именно на них Август разрешил создавать поссес-сионы на условиях аренды. Для отличия земель предоставляемых во владение от собственности Август приказал ограничить их наиболее древним видом границы – arcifinius (граница по естественному рубежу). На практике это резко отделило dominium от поссессиона, с одной стороны, с другой – ввело в римское землеустроение наиболее архаический тип границ.
Таким образом, Август продемонстрировал достижения новых межевых систем, но связал их со всеми устоявшимися нормативами римского земельного права.
Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и международных отношений Филиала МГУ в г. Севастополе В. В. Хапаев в докладе «Торгово-экономический баланс Византийского Херсонеса в X веке» отметил, что по данным археологии и письменных источников, экономика Херсона X – начала XI в. строилась на следующих составляющих.
-
1. Перепродажа в империю импортного сырья: шкур и воска, покупаемого у печенегов, а также, вероятно, нефти, закупаемой на азиатском Боспоре у местных народов (зихов (адыгов) или хазар).
-
2. Перепродажа печенегам византийской готовой продукции (тканей, кожаных изделий, украшений, пряностей и иных товаров), полностью или частично закамуфлированная под «оплату услуг», оказываемых печенегами в Росии, Хазарии и Зихии как самим херсонитам, так и имперским властям.
-
3. Добыча соли, ловля рыбы (в том числе в устье Днепра) и засолка ее в товарных количествах. Поскольку данные виды экономической деятельности херсонитов, в отличие от вышеназванных, не упомянуты Константином Багрянородным в трактате «Об управлении империей» в числе тех, без которых горожане «не могут существовать», они в изучаемый период, видимо, имели меньшее экономическое значение, чем торговый транзит.
Продовольственная безопасность города зависела от возможности обменивать «в Романии» товары печенежского экспорта на византийское продовольствие. Причем этот обмен осуществлялся за счет принадлежащих херсонитам основных фондов и оборотных средств. Император Константин Багрянородный в трактате «Об управлении империей» констатирует, что херсониты владеют множеством судов, с грузами, принадлежащими им же, которые могут одновременно находиться в Константинополе, а также в Ираклии, Амастриде и Синопе.
Внешнеторговая и промысловая деятельность приносила местной элите крупные доходы, из которых Херсон платил имперские налоги на общих основаниях. Основной их объем составляли таможенные платежи, за сбор которых отвечали не подчиняющиеся местному стратигу имперские таможенные инспекторы – коммеркиарии. В Херсонесе обнаружено более 70 их печатей изучаемого времени.
Обнаружены также буллы главного логофета геникона (министра финансов империи), и чиновников портовых таможен проливной зоны: коммеркиа-рия Авидоса; буллотира, ставившего печати на проверенный товар от имени эпарха Константинополя; парафалласита – контролера торговых судов в Константинопольском порту; генимата Хрисополя, следившего за поступлением продовольствия в Константинополь из азиатских провинций империи, который, видимо, контролировал отправку продовольствия также и в Херсон.
Финансовая состоятельность позволяла горожанам закупать жизненно важные продукты питания за морем, но все это делало городскую экономику полностью зависимой от имперской. Херсон был частью имперской экономической системы, занимая в ней свою, и довольно значительную, нишу.
Кандидат исторических наук, преподаватель кафедры истории древнего мира Исторического факультете МГУ им. М. В. Ломоносова М. В. Дурново в докладе «Vilica в сельском имении: новые подходы» отметил, что, хотя первенствующее положение в системе управления виллой занимал вилик, а вилика была подчинена ему, и ее деятельность контролировалась им. На основании данных трактата Колумеллы о сфере компетенции и функциях вилики ее по праву можно считать самостоятельным управляющим, наряду с виликом осуществляющим управление имением, самостоятельно организующим рабский коллектив и принимающим решения в сфере своего ведения. Попытка пересмотреть роль вилики в системе управления виллой и показать ее более самостоятельной и обладающей более высоким статусом, чем предполагалось ранее, вообще составляет характерную черту в историографии последних десятилетий, и здесь прежде всего необходимо отметить работы У. Рот. Кардинальному пересмотру в ее исследованиях подвергся также характер личной связи вилики и вилика: У. Рот полагает, что вилика лишь изредка была «женой» (т. е. постоянной сожительницей) вилика (contubernalis). Однако именно как «супружеская» пара (contubernales) предстают вилик и вилика у Колумеллы, и для обозначения вилика по отношению к вилике Колумелла использует слова «contubernalis eius», полагая само собой разумеющимся, что муж-сожитель вилики – это именно вилик, и никто другой. Подобный стереотип, нашедший отражение в трактате Колумеллы, конечно, не мог возникнуть на пустом месте. У. Рот сильно недооценивает значимость и репрезентативность этих данных Колумеллы: здесь мы имеем дело не с какими-то единичными фактами, которые мы обнаруживаем, например, в эпиграфическом материале, а с данными, которым присущ уже некий уровень обобщения, и содержащуюся таком источнике информацию вполне можно рассматривать в плане социальной нормативности. Поскольку трактовки эпиграфического материала, предлагавшиеся У. Рот, оказываются в ряде случаев спорными, ее попытка решительно опровергнуть традиционные представления о личной связи вилика и вилики как по преимуществу «супружеской» пары выглядит в целом поспешной.
В докладе аспиранта кафедры истории древнего мира Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова М. Н. Кирилловой «Pascua на ager publicus в конце II в. до н. э.» была поднята проблема правовых и экономических аспектов использования общественных земель в качестве пастбища. Конец II в. до н.э. ознаменовался прежде всего реформами братьев Гракхов, которые включали в себя мероприятия в аграрной сфере, призванные смяг- чить назревающие в этой области противоречия. Античные авторы, прежде всего Плутарх и Аппиан, в качестве причин сложившегося аграрного кризиса называют, прежде всего, незаконные оккупации частными лицами общественной земли и разорение мелких собственников. М. Н. Кириллова в своем докладе обратила внимание на иной способ использования общественной земли – в качестве общественных пастбищ. Анализ фрагмента сочинения Цицерона «Об ораторе» и «элогия из Поллы» позволяет сделать вывод о многочисленных нарушениях, сопровождавших образование на общественной земле пастбищ, и попытках борьбы с этими нарушениями римских властей. Многочисленные стада частных лиц занимали свободный ager publicus и сужали возможности для иных способов его использования. Попыткой переломить ситуацию были нормы, посвященные pascua на ager publicus в законе 111 г. до н. э., однако о результативности таких норм судить достаточно сложно. Так или иначе, исследование разных типов использования общественных земель позволяет исследователям дополнить картину кризиса, представленную у Плутарха и Аппиана.
Во второй день был проведен круглый стол, на котором состоялось обсуждение доклада доктора исторических наук, доцента римской истории University of Tampere (Финляндия) А. В. Коптева «Римская familia и центуриатная реформа Сервия Туллия: к вопросу об экономическом развитии раннего Рима». Автор предложил исследование вопроса о расчете ценза сыновей, подвластных pater falimias. Это проблема возникает, поскольку, по описаниям античных авторов, центуриатная система Сервия Туллия предполагала имущественный ценз, а собственником имущества в Риме считался не каждый гражданин, но только pater familias. Для решения этой проблемы автор доклада обращается к вопросу о генезисе римской фамилии как правового института. С точки зрения А. В. Коптева, римская familia начинает складываться прежде всего в среде патрициев. При ее формировании особое значение имел переход на гоплитское войско. Покупка необходимого снаряжения была достаточно дорогостоящим делом и не была под силу индивидуальному хозяйству, обладавшему ограниченными материальными ресурсами. Необходимая концентрация материальных ресурсов для приобретения гоплитского вооружения способствовала (если не была причиной) формированию фамилии и власти ее главы над ее членами и семейным имуществом. Старший в фамилии мужчина (pater) был ответственным перед обществом за содержание одного или нескольких воинов, на обеспечение которых работала вся семейная община, состоявшая из его сыновей, внуков и правнуков. С VI по IV в. складывается общество, состоящее из фамилий большего или меньшего размера, и оформляется частноправовой статус pater familias и подчиненных ему лиц. Пример патрицианских фамилий и рост их благосостояния, основанный на захвате добычи после успешных военных походов, оказался привлекательным и для незнатных граждан, прежде всего из числа клиентов. Снаряженные ими воины не всегда обладали полной экипировкой и потому играли вспомогательную роль в фаланге, видимо, с соответствующим уменьшением их доли в добыче.
О центуриатной реформе Сервия Туллия известно прежде всего то, что она предполагала разделение общества на пять имущественных классов. С точки зрения А. В. Коптева, к первому классу, образованному после реформы Сервия Туллия, принадлежали зажиточные крестьяне, а в прочие классы входили сограждане победнее. Вне классов были proletarii (от proles – потомство). В раннем Риме их освобождение от службы мотивировалось, скорее, не бедностью, а тем, что вырастить многих детей также было важной обязанностью перед обществом. Сами же эти семьи могли быть не бедными, но их собственность, будучи поделенной между многими взрослыми сыновьями, не дотягивала до уровня пятого класса.
Традиционное описание Сервиевой армии показывает, что гоплиты были вооружены в зависимости от экономических возможностей отдельных домохозяйств. Превращение войн в регулярные увеличивало продолжительность кампаний и количество воинов, так что проблему их содержания решило введение платы воинам в 406 г. до н. э. Как пишет Ливий, оно имело оборотную сторону в виде учреждения имущественного ценза для уплаты трибута. Фискальной единицей стала фамилия, что способствовало закреплению этого института в праве и распространению принципа подчинения отцовской власти на все общество. По аналогии с титулом patres у сенаторов, к которым возводились патрицианские gentes, за главой семей закрепился титул pater familias. Только они могли быть собственниками имущества, следовательно, только они могли подлежать имущественному цензу. Ценз стал определять возможности семей по обеспечению воинов. Учреждение новых триб по мере подчинения Римом Лация распространяло институт фамилии среди все новых групп, получавших римское гражданство. В 240-х гг. была проведена новая центуриатная реформа, которая подвела итог этому процессу, результаты которого римские историки приписали затем древнему царю Сервию Туллию. Фамилия, таким образом, была продуктом развития римского общества на переходном этапе от догородской архаики к гражданской общине.