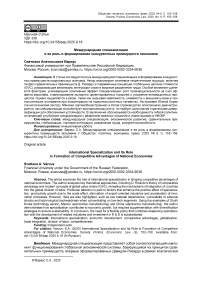Международная специализация и ее роль в формировании конкурентных преимуществ экономики
Автор: Варвус С.А.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 9, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется роль международной специализации в формировании конкурентных преимуществ национальных экономик. Автор анализирует ключевые теоретические подходы, включая теорию сравнительных преимуществ Д. Рикардо и современные концепции глобальных цепочек стоимости (GVC), раскрывающие механизмы интеграции стран в мировое разделение труда. Особое внимание уделяется факторам, усиливающим позитивный эффект специализации: рост производительности за счет эффекта масштаба, стимулирование экспортно ориентированных отраслей и ускорение инновационных процессов. Однако выделяются и риски, такие как сырьевая зависимость, уязвимость к внешним шокам и технологическое отставание при концентрации на низкотехнологичных сегментах. На примере Южной Кореи (технологический сектор), Мексики (автомобилестроение) и Китая (производство электроники) демонстрируется, как специализация способствует экономическому росту, но требует дополнения стратегиями диверсификации для обеспечения устойчивости. В заключение обосновывается необходимость гибкой политики, сочетающей углубление специализации с развитием смежных отраслей и инвестициями в НИОКР.
Международная специализация, экономическое развитие, сравнительные преимущества, глобализация, торговая интеграция, разделение труда, конкурентоспособность
Короткий адрес: https://sciup.org/149149108
IDR: 149149108 | УДК: 339 | DOI: 10.24158/pep.2025.9.18
Текст научной статьи Международная специализация и ее роль в формировании конкурентных преимуществ экономики
Москва, Россия, ,
Moscow, Russia, ,
теории международной торговли. Данный феномен предполагает стратегическую концентрацию национальных экономик на производстве товаров и услуг, в которых достигается максимальная эффективность за счет минимизации альтернативных издержек, с последующей интеграцией в систему мирохозяйственных связей посредством экспортно-импортных операций.
Актуальность исследования обусловлена динамикой глобализационных процессов, которые усиливают взаимозависимость экономик и формируют необходимость разработки стратегий устойчивого развития, основанных на рациональном использовании конкурентных преимуществ. В контексте трансформации международного разделения труда, обусловленной технологическими сдвигами и геополитической нестабильностью, анализ роли специализации приобретает особую значимость.
В условиях глубокой изученности проблематики экономической специализации, разделения труда и глобализации представляется важной цель исследования – выявить некоторые наиболее системно значимые факторы, обеспечивающие формирование конкурентных преимуществ национальной экономики через ее международную специализацию.
Теоретические основы международной специализации . Международная специализация, как структурный элемент мировой экономики, формируется под влиянием ряда теоретических концепций, эволюция которых отражает трансформацию глобальных хозяйственных связей. Основным базисом для понимания специализации служат классические и современные теории, объясняющие распределение производственных функций между странами (Оболенский, 2015).
Представитель классической экономической теории Адам Смит в своем труде «Исследование о природе и причинах богатства народов»1 (1776) утверждал, что страны должны специализироваться на производстве товаров, в которых они обладают абсолютным преимуществом. Позже Давид Рикардо в своей работе «Начала политической экономии и налогового обложения» (1817) доказал рациональность специализации даже при отсутствии абсолютного преимущества (Ricardo, 1817). По его мнению, страны должны концентрироваться на производстве товаров с наименьшими альтернативными издержками (упущенной выгодой от производства альтернативного товара).
Уже в 1930-х гг. шведские экономисты Э. Хекшер и Б. Олин связали специализацию с различиями в обеспеченности факторами производства. Согласно теории Хекшера-Олина, страны экспортируют товары, для производства которых интенсивно используются избыточные ресурсы. Однако эмпирическое исследование В. Леонтьева (Leontief, 1953) выявило, что США, несмотря на избыток капитала, экспортировали трудоемкую продукцию. Парадокс Леонтьева объясняется тем, что теория Хекшера-Олина не учитывает квалификацию труда и технологические различия (Павлов, 2012).
В модели «национального ромба» М. Портер выделил четыре детерминанты конкурентоспособности: факторные условия (ресурсы, инфраструктура), спрос на внутреннем рынке, родственные и поддерживающие отрасли (кластеры), стратегия фирм и конкуренция (Porter, 1990). В то же время, согласно теории Глобальной цепочки добавленной стоимости (ГЦДС), в условиях глобализации специализация смещается от конечных товаров к отдельным стадиям производства. Страны включаются в цепочки, выполняя функции, соответствующие их компетенциям: от высокотехнологических звеньев до массового производства и сырьевой базы (Портер, 2005).
Тем не менее формирование новой глобализации (Перская, 2018) и глобализационных ядер (Аржаев, Турко, 2023) во многом меняет представление о том, как международная специализация влияет на конкурентные преимущества. Фактически, можно говорить о том, что международная специализация национальных экономик становится международной специализацией: а) в рамках отдельных макрорегионов и б) между макрорегионами.
Влияние специализации на экономический рост страны и ее конкурентоспособность . Международная специализация оказывает многогранное воздействие на экономический рост, что подтверждается как теоретическими моделями, так и эмпирическими данными. Современная теория международной экономики выделяет четыре ключевых механизма этого влияния, которые раскрываются через призму макроэкономических показателей, структурных преобразований и институциональных факторов.
Повышение производительности за счет экономии от масштаба. Ключевой механизм, объясняющий, как международная специализация стимулирует рост производительности . Суть явления заключается в снижении средних издержек на единицу продукции при увеличении объемов производства. Это происходит благодаря оптимизации ресурсов, снижению постоянных затрат и повышению квалификации. Формально зависимость описывается функцией: ATC(Q) = FC/Q + VC(Q)/Q . Первое слагаемое (FC/Q) убывает с ростом Q, второе слагаемое
(VC(Q)/Q) может снижаться за счет скидок на оптовые закупки сырья, специализации труда, технологической оптимизации. Проиллюстрируем данную зависимость на примере Южной Кореи.
Южная Корея стала мировым лидером в производстве аккумуляторов для электромобилей. Во многом этот успех связан с деятельностью компаний LG Energy Solution и SK Innovation – крупнейших производителей аккумуляторов в мире. К 2024 г. страна контролировала 35 % мирового рынка, опережая Китай и Японию. Этот рывок стал возможен благодаря резкому увеличению объемов производства: за год южнокорейские предприятия выпустили 180 ГВт·ч аккумуляторов, что на 22 % превысило показатели предыдущего года. LG Energy Solution, крупнейший игрок сектора, обеспечила почти половину этого объема, а ее продукция стала основой для электромобилей Tesla, Volkswagen и Hyundai. Рост производства сопровождался значительным снижением себестоимости ‒ на 18 %, до 90 долларов за кВт ⋅ ч. Это достижение стало результатом масштабной автоматизации: LG Energy Solution инвестировала 5 млрд долларов в роботизированные заводы в США и Польше, что позволило сократить долю ручного труда на 40 %. SK Innovation, в свою очередь, внедрила системы искусственного интеллекта для контроля качества, повысив процент годных изделий с 92 % до 98 %1.
Интересно, что рост объемов производства напрямую повлиял на себестоимость. Увеличение выпуска до 180 ГВт·ч позволило распределить фиксированные расходы на НИОКР и инфраструктуру между большим количеством единиц продукции. Например, переход на катоды NCMA сократил использование дорогостоящего кобальта на 50 %, а роботизация ускорила цикл сборки батареи с 8 до 5 часов. Государственные субсидии, в свою очередь, привлекли 20 млрд долларов частных инвестиций, включая совместные проекты с Panasonic и китайской CATL2.
К 2024 г. вклад сектора в ВВП Южной Кореи достиг 3,5 %, почти вдвое превысив показатели 2020 г. Отрасль создала 50 тыс. высокотехнологичных рабочих мест, а амбиции страны простираются еще дальше ‒ к 2030 г. она планирует контролировать 40 % мирового рынка. Этот прогресс не только укрепляет экономику, но и ускоряет глобальный переход к безуглеродной энергетике, делая Южную Корею ключевым игроком в «зелёной» трансформации3.
Здесь уместно отметить, что инновационная компонента промышленности также является важным фактором международной специализации. В условиях роста цифровизации, формирования Индустрии 4.0 по К. Швабу и четвертой промышленной революции именно специализация на высокотехнологичных товарах способна обеспечить экономический рост, тогда как производство новых технологий параллельно с уникальными технологическими товарами становится наиболее значимым фактором международного разделения труда на современном этапе.
Экспортная ориентация как драйвер роста ВВП . Экспортная ориентация экономики способствует росту ВВП за счет нескольких взаимосвязанных механизмов. Во-первых, выход на международные рынки увеличивает спрос на товары и услуги страны, что стимулирует расширение производства. Чем больше объемы выпуска, тем ниже становятся средние издержки благодаря эффекту масштаба ‒ предприятия оптимизируют затраты на технологии, логистику и рабочую силу. Во-вторых, конкуренция на глобальных рынках вынуждает компании внедрять инновации и повышать качество продукции, что усиливает их конкурентоспособность. В-третьих, экспорт генерирует приток иностранной валюты, которая может быть направлена на инвестиции в инфраструктуру, образование и технологии, создавая мультипликативный эффект для всей экономики.
Эти принципы наглядно иллюстрирует пример Мексики. В 2023 г. страна экспортировала 3,9 млн автомобилей, что на 18 % превысило показатели предыдущего года. Доходы от этого сектора составили 150 млрд долларов, или 30 % всего экспорта страны4. Такой рост стал возможен благодаря стратегической интеграции Мексики в глобальные цепочки добавленной стоимости. Крупные автопроизводители, такие как Tesla, General Motors и Ford, разместили здесь свои заводы, привлеченные низкими трудовыми издержками и близостью к рынку США. Например, завод Tesla в Нуэво-Леоне, стоимостью $10 млрд, выпускает электромобили Model Y, которые поставляются в Северную Америку и Европу5.
Важным фактором успеха стала локализация производства: 80 % компонентов для автомобилей, включая двигатели и электронные системы, изготавливаются непосредственно в Мексике. Это сократило логистические издержки на 15 % и ускорило цикл сборки. В результате себестоимость одного автомобиля снизилась с 12,5 тыс. долларов в 2020 г. до 10,8 тыс. долларов в 2023 г. Автомобильная отрасль обеспечила 6,5 % ВВП Мексики и создала 150 тыс. новых рабочих мест, преимущественно в промышленных регионах (OECD, 2024).
Государственная поддержка также сыграла ключевую роль. Программа «Автомобильный пакет», запущенная в 2022 г., предоставила производителям налоговые льготы на сумму 2,5 млрд долларов, что стимулировало переход к выпуску электромобилей. К 2023 г. доля высокотехнологичного экспорта в этом секторе выросла до 22 % против 8 % в 2020 г. Вклад автомобильной промышленности в рост ВВП Мексики составил 2,1 % из общего показателя 3,4 % за 2023 г.1
Таким образом, экспортная ориентация Мексики на автомобилестроение не только укрепила ее позиции в глобальной экономике, но и стала катализатором внутреннего развития. Снижение издержек, рост инвестиций и повышение технологической сложности производства демонстрируют, как интеграция в международные рынки может трансформировать национальную экономику, создавая устойчивые источники роста.
Инновации как результат концентрации ресурсов . Ранее уже было отмечено, что именно инновационный сектор экономики становится драйвером экономического роста в ХХI в. Концентрация ресурсов в ключевых отраслях экономики создает условия для ускоренного развития инноваций, которые становятся основой долгосрочного роста. Когда финансовые, человеческие и технологические ресурсы фокусируются на определенных секторах, формируются экосистемы, где взаимодействие предприятий, исследовательских центров и образовательных учреждений стимулирует создание прорывных технологий. Эффект масштаба позволяет распределять затраты на НИОКР между большим числом проектов, а специализация усиливает компетенции, сокращая время вывода новых продуктов на рынок. Инновационное развитие экономики как один из приоритетных факторов экономического роста и обеспечения конкурентоспособности поднимает ряд важных вопросов – достаточность квалификации трудовых ресурсов, международное регулирование технологического обмена и обеспечение недискриминационных условий взаимной торговли, решение которых представляется задачей, смежной с настоящим исследованием, но не являющейся его целью.
Примером успешной концентрации ресурсов и постепенного решения названных проблем является развитие сектора искусственного интеллекта (ИИ) в Китае. К 2023 г. страна инвестировала в исследования ИИ более 30 млрд долларов, что составило 20 % глобальных расходов в этой области. В городах Пекин, Шэньчжэнь и Шанхай сформировались технологические кластеры, объединяющие 500 стартапов, 50 университетских лабораторий и филиалы таких гигантов, как Alibaba и Tencent. Эти кластеры генерируют 70 % китайских патентов в сфере ИИ2, включая алгоритмы для автономного транспорта, систем распознавания лиц и медицинской диагностики.
Результатом такой концентрации стал рост доли высокотехнологичных товаров в экспорте Китая ‒ с 25 % в 2020 г. до 38 % в 2023 г. Компания SenseTime, лидер в разработке ИИ-решений для видеонаблюдения, увеличила выручку на 120 % за счет внедрения своих технологий в 80 странах. Одновременно китайские университеты выпустили 1,2 млн специалистов в области data science за три года, обеспечив отрасль квалифицированными кадрами. Государственная программа «Сделано в Китае 2025» сыграла ключевую роль, предоставив налоговые льготы на $8 млрд и финансируя 200 исследовательских центров3.
Концентрация ресурсов также снизила себестоимость разработок. Затраты на обучение ИИ-моделей в Китае значительно сократились благодаря использованию общих облачных платформ и открытых баз данных (например, алгоритм распознавания речи, созданный компанией iFlyTek, сейчас стоит 0,01 юаня за обработку часа аудио против 0,05 юаня в 2020 г.). Это сделало технологии доступными для малого бизнеса: более половины китайских SMEs внедрили ИИ-решения для автоматизации процессов.
Таким образом, фокус на концентрации ресурсов в секторе ИИ позволил Китаю не только занять лидирующие позиции в глобальной технологической гонке, но и создать мультипликативный эффект для всей экономики, включая рост высокопроизводительных рабочих мест, повышение уровня жизни, создание привлекательной экономической модели для иностранных компаний.
В 2023 г. рост добавленной стоимости в высокотехнологичных отраслях составил 5,3 % ВВП, а экспорт ИИ-решений принес 150 млрд долларов доходов1. Этот опыт демонстрирует, как стратегическое распределение ресурсов, поддержанное инфраструктурой и образованием, превращает инновации в основной драйвер экономической трансформации.
Риски и вызовы . Международная специализация, несмотря на преимущества, создает системные риски, которые могут подорвать устойчивость экономики. Один из ключевых вызовов ‒ зависимость от узкого круга экспортных товаров или рынков. Например, Россия, где на нефть и газ приходится 60 % экспортных доходов, в 2023 г. столкнулась с падением выручки на 40 млрд из-за санкций и снижения цен на энергоносители. Это привело к дефициту бюджета в 2,38 млрд и замедлило рост ВВП до 0,9 %2.
Другой риск связан с уязвимостью к глобальным кризисам. Пандемия COVID-19 показала, как разрыв цепочек поставок может парализовать экономику. В 2023 г. повторный кризис логистики из-за конфликтов в Красном море увеличил стоимость доставки товаров из Азии в Европу на 30 %, что ударило по экспортерам электроники во Вьетнаме и Таиланде. Объемы их поставок сократились на 18 %, а выручка ‒ на 22 млрд3.
Технологическое отставание ‒ еще одна угроза. Страны, застрявшие в низкотехнологичных звеньях глобальных цепочек, не могут наращивать добавленную стоимость. Например, Нигерия, экспортирующая сырую нефть, получает лишь 0,3 % прибыли с каждого барреля, тогда как страны ЕС, перерабатывающие нефтепродукты, зарабатывают 2,5 %. Это ограничивает возможности Нигерии для инвестиций в диверсификацию: доля обрабатывающей промышленности в ее ВВП не превышает 10 %4. В Бангладеш, где 80 % экспорта составляет текстиль, средняя зарплата работников остается на уровне 120 долларов в месяц, а автоматизация угрожает лишить работы 2 млн человек к 2030 г.5
Экологические риски также усиливаются. Специализация на добыче ресурсов ведет к деградации экосистем. В Индонезии вырубка лесов под пальмовые плантации сократила биоразнообразие на 40 % за последнее десятилетие, а выбросы CO 2 от пожаров достигли 1,2 млрд тонн в 2023 г.6 Страны, зависящие от угля, такие как ЮАР, сталкиваются с международным давлением: налог на углеродный след ЕС может сократить их экспорт на 5 млрд долларов ежегодно7.
Геополитическая нестабильность усугубляет риски. Санкции против Ирана, введенные в 2023 г., сократили экспорт нефти на 70 %, что вызвало инфляцию в 45 % и рост безработицы до 20 %8. Торговые войны между США и Китаем привели к пошлинам на товары на сумму 350 млрд долларов, ударив по производителям электроники в Малайзии и Мексике, чьи цепочки зависят от китайских компонентов9.
Для минимизации этих рисков критически важно сочетать специализацию с диверсификацией. Норвегия, например, направляет доходы от нефти (200 млрд долларов) в Фонд благосостояния для развития производства зеленого водорода, чтобы снизить зависимость от меди. Эти примеры показывают, что устойчивость экономики зависит не только от текущих конкурентных преимуществ, но и от способности адаптироваться к меняющимся глобальным условиям10.
Заключение . Международная специализация остается одним из ключевых драйверов экономического роста в условиях глобализации. Концентрация стран на отраслях, где они обладают сравнительными преимуществами, позволяет повышать производительность, снижать издержки за счет эффекта масштаба и укреплять позиции на мировых рынках. Примеры Южной Кореи (технологический сектор), Мексики (автомобилестроение) и Китая (производство электроники) демонстрируют, как фокус на специализации стимулирует экспорт, привлекает инвестиции и создает инновационные экосистемы.
Изменение форм глобализации приводит к тому, что международная специализация трансформируется в рамках макрорегионов и зависит от того, какие инструменты повышения конкурентоспособности национальной экономики используют лидеры экономического роста (Китай, Южная Корея, Мексика и т. д.) в каждом отдельно взятом макрорегионе.
Однако риски, связанные с узкой специализацией, требуют внимательного управления. Зависимость от сырьевого экспорта (Россия, Нигерия), уязвимость к глобальным кризисам (разрыв цепочек поставок) и технологическое отставание в низкотехнологичных звеньях ГЦДС (Бангладеш) подчеркивают необходимость диверсификации. Успешные страны, такие как Норвегия, комбинируют доходы от традиционных отраслей с инвестициями в «зеленую» энергетику и цифровые технологии, снижая риски и создавая новые источники роста.
Для устойчивого развития критически важно соблюдать баланс: осуществлять диверсификацию внутри специализации – развивать смежные отрасли (например, переходить от добычи нефти к нефтехимии и ВИЭ), инвестировать в человеческий капитал ‒ готовить кадры для высокотехнологичных секторов, адаптироваться к глобальным вызовам ‒ проявлять гибкость в условиях санкций, климатических изменений и технологических сдвигов.
В эпоху цифровизации и экологического транзита международная специализация должна трансформироваться, интегрируя принципы устойчивости и инклюзивности. Только так страны смогут не только сохранить конкурентоспособность, но и обеспечить долгосрочный рост, минимизируя риски и максимизируя преимущества глобальной интеграции.