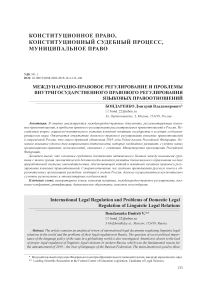Международно-правовое регулирование и проблемы внутригосударственного правового регулирования языковых правоотношений
Автор: Бондаренко Дмитрий Владимирович
Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua
Рубрика: Конституционное право, конституционный судебный процесс, муниципальное право
Статья в выпуске: 2 т.16, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются международно-правовые документы, регламентирующие языковые правоотношения, и проблемы правового регулирования рассматриваемых правоотношений в России. Исследуется вопрос социально-политического значения языковой политики государства в условиях глобализирующегося мира. Отмечается отсутствие должного правового регулирования языковых правоотношений в современной России, что стало причиной объявления 2019 года Годом языков Российской Федерации. Основное внимание уделено тем направлениям деятельности, которые необходимо развивать с учетом новых организационно-правовых возможностей, связанных с созданием Министерства просвещения Российской Федерации.Делается вывод, что основным средством достижения оптимального баланса между языковыми группами с точки зрения лингвистической безопасности является развитие билингвального образования на базе проработанной системы законодательства, обеспечивающей четкий и понятный механизм правового регулирования языковых правоотношений. Совершенствование же системы преподавания русского языка в образовательных организациях республик, входящих в состав России, должно осуществляться исключительно с учетом региональных и этнокультурных особенностей.
Миноритарные языки, языковая политика, международно-правовое регулирование, языковые конфликты, ратификация, билингвальное образование, языковое многообразие
Короткий адрес: https://sciup.org/143166978
IDR: 143166978 | УДК: 341.1 | DOI: 10.19073/2658-7602-2019-16-2-133-140
Текст научной статьи Международно-правовое регулирование и проблемы внутригосударственного правового регулирования языковых правоотношений
В современных демократических государствах нормативное правовое регулирование языковых и национально-культурных отношений строится на основе в той или иной мере имплементированных принципов и норм таких важнейших международно-правовых актов, как Всеобщая декларация прав человека1, Международный пакт о гражданских и политических правах2, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах3, а также различных международных договоров взаимодействующих государств в области обеспечения прав и свобод человека.
Права национальных меньшинств для государств – членов Совета Европы, а также в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее – ОБСЕ) были в общем виде сформулированы в Документе Копенгагенской встречи Конференции по человеческому измерению (1992 г.) и отражены в целом ряде рекомендаций, принятых по инициативе Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, а именно: Гаагских рекомендациях о правах национальных меньшинств в области образования (1996 г.)4; Ословских рекомендациях о языковых правах национальных меньшинств (1998 г.)5; Лундских рекомендациях об эффективном участии национальных меньшинств в общественно-политической жизни (1999 г.)6; Больцанских рекомендациях о нацио- нальных меньшинствах в межгосударственных отношениях (2008 г.)7.
Рекомендации по использованию языков меньшинств в телерадиовещании (2003 г.)8 были уже разработаны с учетом технического прогресса и развития современного телевидения, радиовещания и информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Кроме того, в них же были учтены и возрастающие возможности использования нескольких языков в области коммуникаций. Наиболее важным документом в сфере этноязыковой политики Европейского союза признается Европейская хартия о региональных языках и языках меньшинств 1992 г. (далее – Хартия)9.
Однако в связи с тем, что многие страны отказались от ее ратификации, сегодня Хартия все еще не может считаться действенным инструментом международно-правового регулирования рассматриваемых правоотношений. Во Франции, например, подписание и ратификация Хартии были предметом даже политических конфликтов. Она была подписана Францией при правительстве Л. Жоспена, но Конституционный Суд Франции в своем решении от 15 июня 1999 г. счел, что она содержит положения, противоречащие Конституции Франции10. В этом решении Конституционного Суда Франции отмечается, что использование французского языка является обязательным для всех субъектов, а частные лица не могут ссылаться на право использовать другой язык в отношениях с властями и публичными службами [7, с. 45]. Суд счел, что Хартия, предоставляя особые права группам, пользующимся региональными языками или языками меньшинств, посягает на конституционные принципы неделимости (indivisibilite) Республики, равенства перед законом и целостности (unicite) французского народа. Данные положения также были сочтены противоречащими ст. 2 Конституции («Язык Республики – французский»), поскольку они признают право использовать иной язык, помимо французского, не только в частной, но и в общественной жизни [7, c. 41–45].
Кроме того, Хартия не может стать действенным инструментом международно-правового регулирования языковых правоотношений еще и потому, что главным средством ее обеспечения является система представления периодических отчетов, по результатам изучения которых могут подготавливаться рекомендации Комитета министров Совета Европы, невыполнение которых может иметь неблагоприятные последствия.
Хартия представляет собой международный договор, технико-юридически относящийся к обязательственным документам, который не устанавливает гарантии соблюдения прав, а во многом обязывает государства-участников выполнять обязательства, для которых необходимые условия осуществления еще не созданы либо они противоречат внутригосударственным принципам.
В основу механизма выполнения обязательств по Хартии, помимо уже упомянутой периодической отчетности и заключений Комитета экспертов Совета Европы, как отмечает С. В. Соколовский, положена идея постоянного совершенствования системы обязательств, нацеленных на постепенное развитие языков и обеспечение языковых прав граждан государств-участников [8, с. 98]. По мере прохождения новых циклов отчетности и решения очередных задач управления языковым многообразием практически у всех государств-участников появлялись новые задачи и цели, под защитой Хартии оказывались и новые, прежде неучтенные языковые сообщества, и их число постоянно растет
[8, с. 102]. Россия подписала Хартию в 2001 г., но до сих пор не ратифицировала ее.
Необходимо отметить, что важное место в системе международно-правовых документов в рассматриваемой области занимает Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года. Наиболее ярко позиция международно-правового сообщества государств в области обеспечения прав народов и национальных меньшинств, в том числе в отношении языковых прав, сформулирована в ст. 27 указанного Пакта: «В тех странах, где существуют этнические, религиозные и языковые меньшинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть отказано в праве совместно с другими членами той же группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным язы-ком»11.
Помимо вышеназванных, существует целая группа международно-правовых документов, непосредственно направленных на удовлетворение прав народов и национальных меньшинств в области их национально-культурного и языкового развития. Наибольшее значение среди них имеют Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам (1992 г.)12; Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств (1995 г.)13; Конвенция Международной организации труда 1989 г. № 169 «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах»14.
В Российской Федерации языковое законодательство прошло сложный путь, начиная с 1991 г., когда все политическое устройство нашего государства подверглось полной деформации, реформации и преобразованию. Оно построено на базовых международно-правовых принципах, принятых, подписанных и ратифицированных Россией, но все же имеет существенные особенности и даже противоречия.
Изучение Российской Федерацией международного опыта проведения языковой политики позволило внедрить некоторые разработки зарубежных стран в данной сфере. Например, были созданы и развиваются лингвистические образовательные учреждения, своеобразные центры социальной адаптации для мигрантов, которые являются аналогом израильской системы ульпанов – профессиональных или любительских курсов по изучению языка иврит. Хотя требование о минимальном уровне владения русским языком для приобретения гражданства мигрантами в российском законодательстве весьма расплывчато и детально не проработано.
Введение обязательного экзамена по русскому языку, истории России, основам законодательства Российской Федерации для трудящихся-мигрантов, за исключением высококвалифицированных специалистов, проводится в соответствии с подп. «б» п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»15 в целях гармонизации межнациональных отношений, укрепления единства многонационального народа Российской Федерации и обеспечения условий для его полноправного развития.
Вместе с тем четких требований о таком необходимом минимальном уровне знания русского языка российское законодательство не содержит. Отсутствуют в нем и четкие правовые ориентиры развития языкового многообразия нашей страны. Напомним, что в самой Российской Федерации на сегодняшний день используются 277 языков и диалектов, в государственной системе образования используются 89 языков, из них 30 – в качестве языка обучения, 59 – в качестве предмета изучения.
Широчайшая языковая палитра народов России – это благо. В этом залог спасения идентичности и неповторимости такого огромного многонационального государства. Но такая данность требует скрупулезного, внимательного, последовательного и очень осторожного управления и регулирования, отсутствующего сегодня в России. Иначе эта же национально-региональная уникальность станет яблоком раздора.
Необходимо с сожалением констатировать, что единообразная политика, направленная на сохранение и развитие национальных языков народов России, сегодня отсутствует. По данным ЮНЕСКО, 136 языков России находятся в опасности. Из них 22 – в критическом состоянии, 29 – в серьезной опасности, 49 – под угрозой исчезновения. ЮНЕСКО проводит значитель- ную работу по изучению языковой ситуации, складывающейся сегодня в мире, в соответствии с оценкой, присваиваемой включенным в «Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения» (Atlas of the World’s Languages in Danger) языкам на основе 9 критериев, из которых наиболее важным считается передача языка между поколениями.
В связи с этим особую актуальность приобретает проводимое в настоящее время изменение системы и структуры федеральных органов исполнительной власти в Российской Федерации, реализующих в том числе и государственную языковую политику. Вновь созданное Министерство просвещения Российской Федерации требует более внимательного отношения к формированию перечня его полномочий по рассматриваемым вопросам деятельности и детального их описания.
Учитывая довольно сложную ситуацию, сложившуюся на настоящий момент в России относительно вопросов сохранения и развития миноритарных и исчезающих языков, было принято решение о проведении в 2019 г. Года языков Российской Федерации. Основой для этого стало решение Организации Объединенных Наций об объявлении 2019 г. Международным годом языков коренных народов в целях поддержки, поощрения и активизации данных языков. Инициативу поддержали все государства-члены, включая Российскую Федерацию.
Придавая особое значение проблеме разработки наиболее оптимальной и эффективной модели языковой политики в Российской Федерации в целях сохранения и развития миноритарных и исчезающих языков, Президент Российской Федерации инициировал создание Фонда по поддержке изучения родных языков. Деятельность Фонда должна учитывать вопросы развития системы преподавания национальных языков, подготовки экспертизы соответствующих программ, учебной литературы, разработки федеральных образовательных программ по изучению родных языков, однако в настоящее время его функционал остается все еще неопределенным.
Кроме того, вступившие в силу изменения в ст.ст. 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (14 августа 2018 г.)16 устанавливают, что федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов России, изучения государственных и родных языков республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного. Разрабатываемая в настоящее время Концепция преподавания родных языков требует всестороннего, полноценного и объективного анализа с точки зрения состояния языков народов России и места России в Атласе исчезающих языков ЮНЕСКО. В связи с этим должно быть представлено доктринальное научно обоснованное понимание Концепции преподавания на основе анализа информации и статистических данных, полученных в соответствии с оценкой, присваиваемой ЮНЕСКО, которое пока не разработано.
В настоящее время в России издается энциклопедический словарь-справочник «Красная книга языков народов России», аналог Красной книги ЮНЕСКО по исчезающим языкам, что соответствует Хартии, которая предписывает принятие неотложных мер со стороны государства для возрождения и поддержания функционирования языков меньшинств, находящихся на грани исчезновения. И хотя банк данных, содержащий информацию о динамике функционирования русского языка, который будет отражать реальную языковую картину страны, уже формируется, система периодического мониторинга и анализа баланса национально-русского двуязычия в субъектах Российской Федерации все еще не создана.
В последнее десятилетие в органах власти, в общественных и научных кругах идут дискуссии по поводу возможности применения стратегии Хартии в урегулировании языковых правоотношений Российской Федерации, а именно в деятельности органов государственной власти, в сфере образования, бытового обслуживания, средствах массовой информации, культурной, экономической и общественной жизни. При этом данные обязательства применимы ко всем региональным и миноритарным языкам в пределах государства, а Российская Федерации должна будет отчитываться в Совете Европы о мерах, предпринятых по их выполнению.
Обсуждения по поводу ратификации Хартии проходили на федеральном уровне с привлечением представителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, реализующих государственную языковую политику, а также экспертно-научного сообщества, однако прийти к компромиссу не удалось. Вместо этого было высказано мнение о возможности разработки собственной государственной программы по урегулированию, организации языковой жизни в России, но такой программы сегодня также нет.
Как отмечает А. Н. Биткеева [2, с. 80–88], факторами, препятствующими ратификации Хартии в России, являются следующие: недостаточность социально-коммуникативной системы России; статус языков (общегосударственный язык, государственные языки республик, миноритарные языки и т. д.); численность народов, характер их расселения (компактный/дисперс-ный), которые являются важными социальными факторами расширения социальных функций; неравномерное социальное и культурное развитие российских территорий; нежелательность перевода темы языка в политическую плоскость в регионах со значительным конфликтным потенциалом; существенные финансовые затраты, которые могут последовать после ратификации.
Например, существуют сложности с переводом на национальные языки в сфере делопроизводства (здесь возникает вопрос о целесообразности этого шага, поскольку не так велико количество лиц, владеющих родным языком, во многих республиках), возникают терминологические проблемы по отношению к национальным языкам в субъектах Российской Федерации, которые предлагается называть региональными (некоторые народы этот вариант не приемлют, например Республика Татарстан).
Стоит отметить также, что Хартия ориентирует законодательство государств-участников решать проблемы миноритарных языков как таковых, а не проблемы этнических общин. У нас же традиционно сложилось понимание того, что объектом государственно-правового регулирования должны быть именно этнические сообщества, что автоматически позволяет сохраняться их культуре. На наш взгляд, такой подход является предпочтительным.
За последние годы в мире проведено много научных исследований, направленных на изучение современной языковой политики, языковых правоотношений и конституционно-правовых основ развития языкового законодательства, в том числе историко-правовых.
Одним из важных итогов этих исследований, как отмечают Е. С. Гриценко, А. В. Кирилина [3, с. 95–101], стал вывод о том, что в новых геополитических условиях, характеризующихся глобализационными сдвигами и транснациональной экспансией, а также ростом локальных национа-лизмов, риску подвергается культурный и языковой суверенитет крупных государств, коммуникативно мощных региональных неанглийских языков; происходит теоретическое дезавуирование культур и этносов через ослабление позиций языка и политизацию его концепций.
Что же касается исследований становления и развития российской государственной языковой политики, необходимо отметить доклад К. Замятина [6, с. 159–163], в котором рассматриваются возможные причины установления государственных языков в российских республиках в начале 1990-х гг. Предполагается, что наряду с его символической функцией в качестве одного из признаков национальной государственности институт государственных языков республик как элемент институциализованной этничности реализовывал политическое соглашение региональных элит по поводу «политики признания» и баланса интересов «народов республики», а также был призван служить механизмом распространения практического использования титульных языков в публичной сфере.
В 1992 г. был подготовлен проект Концепции Государственной программы по сохранению и развитию языков народов Российской Федерации. Как отмечает Е. М. Доровских [4, с. 62], в качестве главной цели авторами проекта была заявлена смена политической парадигмы, создание действительно благоприятных условий для свободного развития всех языков народов России. Следует отметить определенную общность идей, положенных в основу законодательных актов – республиканских законов о языках, Закона о языках народов Российской Федерации, проекта Концепции.
Идеи, получившие свое выражение в Концепции и активно использовавшиеся на протяжении всего последнего времени, не дали ощутимого позитивного результата при решении проблем языковых отношений. Более того, в случае последующего их развития в современных программных документах можно предположить нарастание дисбаланса в языковых отношениях, что таит в себе потенциальную угрозу межнациональному согласию [4, с. 63].
Чтобы кардинально изменить ситуацию в области развития национальных языков, в Концепции была сделана попытка совместить несовместимое: соблюсти принцип равенства в языковых отношениях, создав равные условия для развития и использования всех языков, и в то же время утвердить приоритет развития государственных языков республик, построенных по национально-территориальному принципу. Это внутреннее противоречие, заложенное в Концепции, предопределило и содержание предложенных в ней мер по поддержке, развитию и использованию национальных языков [4, с. 65].
Следует отметить, что закрепление в ряде случаев в качестве государственного, наряду с русским, и других языков народов, традиционно проживающих в конкретной республике, до сих пор не становится гарантией проведения сбалансированной языковой политики в отдельных республиках. Так, острый конфликт, возникший по поводу преподавания, изучения и обучения на татарском языке в Республике Татарстан, детерминировал принятие Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”», о чем речь шла выше.
Проблема языковой ситуации относится к числу весьма сложных явлений, не зависящих от конкретного языка, места его функционирования. Она носит многоаспектный характер, затрагивает различные стороны социокультурной жизни носителей языков. Требуются научные исследования речевой деятельности, системы языка, его функционирования, взаимодействия с другими языками; а также создание научно обоснованного комплекса учебных материалов, разработка отвечающей современным требованиям лингводидактики методов обучения языкам [2, с. 85].
Однако наиболее важным аспектом современной политической лингвистики, или социо-образовательной геополитики, является общее достижение современной педагогики и филологии: осознание того, что уникальное формирование личности происходит в той языковой среде, в которой человек рождается и вырастает. Основа формирования личности – осознание своей уникальной национальной и языковой идентичности и построение собственного ментального мировоззрения с помощью родных языковых средств и национально-культурных традиций и обычаев. И только после этого личность должна уметь выразить свои взгляды с помощью какого-либо общего «лингва-франка». Поэтому вопрос билингвального образования является основополагающим в современном мире. Он немыслим без вопросов сохранения и развития национальных (миноритарных) языков.
Большинство зарубежных исследователей сходятся во мнении о необходимости развития билингвального образования [9–12]. Как отмечает профессор З. М. Загиров [5, с. 75], этнокультурное образование – это образование, направленное на сохранение этнокультурной идентичности личности путем приобщения к родному языку, культуре, традициям и обычаям своего народа с одновременным освоением ценностей мировой культуры. Этнокультурное образование – это составляющая общего начального образования, которая обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников самосознания национальной идентичности, системы позитивных национальных ценностей, в том числе духовно-нравственного, социального, общекультурного и интеллектуального развития личности.
Поэтому можно с уверенностью говорить, что основа национальной безопасности любого государства – это каждая конкретная личность, выросшая в родных условиях и получившая образование на родном языке, которая с благодарностью воспринимает государство, сохранившее и позволившее впитать свой национальный менталитет, которая ощущает себя частью большой многонациональной семьи. Сохранить для следующих поколений национальную культуру, традиции невозможно без родного языка и его языковых средств, которые сформировали дорогой каждому индивиду конкретный менталитет.
Государство должно создавать условия для сохранения, поддержания и развития миноритарных языков. Основным средством достижения оптимального баланса между языковыми группами, с точки зрения лингвистической безопасности, является проработанная система законодательства, обеспечивающая четкий и понятный механизм правового регулирования языковых правоотношений, а также совершенствование системы преподавания русского языка в образовательных организациях республик, входящих в состав России, с учетом региональных и этнокультурных особенностей.
Необходимо, наконец, осознать, что в ситуации с давно и систематически ощутимой нехваткой учебных пособий, разработанных на основе поликультурной и полиязыковой ситуаций, сложившихся в нашей стране, учителю справиться с поставленными задачами будет весьма сложно. Безусловно, требуется создать билингвальные учебные пособия и сопоставительные грамматики, способствующие скорейшему усвоению фонетико-фонологических, лексико-семантических и морфолого-синтаксических особенностей русского и иных национальных (миноритарных) языков Российской Федерации [5, с. 76].
Опыт зарубежного, в частности европейского, законодательства представляет собой в этом смысле наиболее ценный и приемлемый источник.
Список литературы Международно-правовое регулирование и проблемы внутригосударственного правового регулирования языковых правоотношений
- Биткеев П. Ц. Трехступенчатая теория сохранения и развития языков в современных условиях полилингвальности или Концепция «Живой язык»//Языковая политика и языковые конфликты в современном мире: междунар. конф. (Москва, 16-19 сент. 2014 г.): доклады и сообщения/отв. ред. А. Н. Биткеева, В. Ю. Михальченко. М.: Ин-т языкознания РАН, 2014. С. 52-59.
- Биткеева А. Н. Национально-языковая политика России: новые вызовы, последние тенденции//Языковая политика и языковые конфликты в современном мире: междунар. конф. (Москва, 16-19 сент. 2014 г.): доклады и сообщения/отв. ред. А. Н. Биткеева, В. Ю. Михальченко. М.: Ин-т языкознания РАН, 2014. С. 80-88.
- Гриценко Е. С., Кирилина А. В. Языковая политика в условиях глобализации//Языковая политика и языковые конфликты в современном мире: междунар. конф. (Москва, 16-19 сент. 2014 г.): доклады и сообщения/отв. ред. А. Н. Биткеева, В. Ю. Михальченко. М.: Ин-т языкознания РАН, 2014. С. 95-101.
- Доровских Е. М. Правовые аспекты национально-языковой политики в РФ//Журнал российского права. 2008. № 11. С. 53-69.
- Загиров З. М. К вопросу об этнокультурном образовании в многоязычном Дагестане//Совершенствование законодательства в сфере реализации государственной языковой политики: сб. материалов круглого стола (Москва, 6 окт. 2017 г.)/сост. Д. В. Бондаренко. М.: ФЦОЗ, 2017. С. 74-81.
- Замятин К. Три стадии установления государственных языков в российских республиках//Языковая политика и языковые конфликты в современном мире: междунар. конф. (Москва, 16-19 сент. 2014 г.): доклады и сообщения/отв. ред. А. Н. Биткеева, В. Ю. Михальченко. М.: Ин-т языкознания РАН, 2014. С. 159-163.
- Сампиев И. М. Международно-правовые и внутригосударственные основы современной этноязыковой политики//Вестник Казахского национального университета. Сер. филологическая. 2013. № 4 (144). С. 41-45.
- Соколовский С. В. Международный опыт имплементации Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств//Этнографическое обозрение. 2010. № 4. С. 94-102.
- Egan A., Maguire R., Christophers L., Rooney B. Developing Creativity in Higher Education for 21st Century Learners:
- A Protocol for a Scoping Review//International Journal of Educational Research. 2017. Vol. 82. P. 21-27.
- Nair-Venugopal S. Linguistic Ideology and Practice: Language, Literacy and Communication in a Localized Workplace Context in Relation to the Globalized//Linguistics and Education. 2013. Vol. 24, iss. 4. P. 454-465.
- Prout S., Hill А. Situating Indigenous Student Mobility Within the Global Education Research Agenda//International Journal of Educational Research. 2012. Vol. 54. P. 60-68.
- Rogers V., McLeod W. Autochthonous Minority Languages in Public-Sector Primary Education: Bilingual Policies and Politics in Brittany and Scotland//Linguistics and Education. 2006. Vol. 17, iss. 4. P. 347-373.