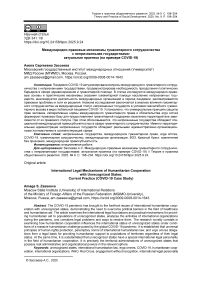Международно-правовые механизмы гуманитарного сотрудничества с непризнанными государствами: актуальная практика (на примере COVID-19)
Автор: Зассеева А.С.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 9, 2025 года.
Бесплатный доступ
Пандемия COVID-19 актуализировала вопросы международного гуманитарного сотрудничества с непризнанными государствами, продемонстрировав необходимость преодоления политических барьеров в сфере здравоохранения и гуманитарной помощи. В статье исследуются международно-правовые основы и практические механизмы оказания гуманитарной помощи населению непризнанных государств, анализируется деятельность международных организаций в период пандемии, рассматриваются правовые проблемы и пути их решения. Новизна исследования заключается в анализе влияния гуманитарного сотрудничества на международный статус непризнанных государств в условиях масштабного гуманитарного вызова в виде глобальной пандемии COVID-19. Установлено, что универсальные принципы защиты прав человека, императивные нормы международного гуманитарного права и обязательства erga omnes формируют правовую базу для предоставления гуманитарной поддержки населению территорий вне зависимости от их правового статуса. При этом обосновывается, что непризнанные государства обладают специальной международной правосубъектностью в сфере гуманитарного сотрудничества. Именно территориальные администрации непризнанных государств обладают реальными административно-организационными полномочиями в соответствующей сфере.
Непризнанные государства, международное гуманитарное право, erga omnes, COVID-19, гуманитарное сотрудничество, международные организации, ВОЗ, Красный Крест, вовлечение без признания, международная правосубъектность
Короткий адрес: https://sciup.org/149149191
IDR: 149149191 | УДК: 341.1/8 | DOI: 10.24158/tipor.2025.9.24
Текст научной статьи Международно-правовые механизмы гуманитарного сотрудничества с непризнанными государствами: актуальная практика (на примере COVID-19)
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России (МГИМО), Москва, Россия, ,
Понятие непризнанных государств . Феномен непризнанных государств является одной из значимых проблем современного международного права, поскольку они представляют собой образования, обладающие основными атрибутами государственности при отсутствии или ограниченности признания таких атрибутов со стороны суверенных государств-членов ООН.
Под непризнанными государствами понимаются территориальные образования, которые провозгласили свою независимость и обладают основными атрибутами государственности согласно критериям Конвенции Монтевидео 1933 г.1 – постоянным населением, определенной территорией и эффективной властью, – однако не получили широкого международного признания, что исключает реализацию четвертого критерия государственности: способности вступать в отношения с другими государствами (Фельдман, 1965).
Правовое положение подобных образований отличается внутренней противоречивостью: обладая фактической независимостью, собственными институтами управления, правовой системой и государственной символикой, они одновременно остаются исключенными из формальных рамок международно-правовой системы.
Данный дуализм создает особую правовую ситуацию, при которой территориальные образования де-факто выполняют функции государственной власти, но де-юре лишены возможности полноценного участия в международных отношениях.
Сложность разрешения соответствующей проблематики связана, в частности, с наличием в подобных ситуациях конфликта между принципом территориальной целостности государств и правом народов на самоопределение, которые в случае возникновения де-факто государств вступают в противоречие (Гончарова, 2021).
Как следствие, в доктрине международного права отсутствует единый взгляд на проблематику непризнанных государств. Современная доктрина международного права выделяет две основные концепции признания государств: декларативную и конститутивную (Барышев, 2023). Согласно декларативной теории, государство существует независимо от его признания другими субъектами международного права (опирается на принцип самоопределения народов), в то время как конститутивная теория утверждает, что признание является необходимым условием для приобретения государством международной правосубъектности.
При этом в юридической науке термин «непризнанные государства» используется не только в широком (охватывая как полностью непризнанные, так и частично признанные государства), но и в узком смысле – как государства, не признанные ни одной из стран-членов ООН.
Если следовать широкому подходу, необходимо классифицировать непризнанные государства по степени международного признания, разделяя их на государства, не признанные ни одним государством-членом ООН (например, Приднестровье), и частично признанные государства, получившие признание от ограниченного числа государств-членов ООН (например, Россия признала независимость и суверенитет Абхазии и Южной Осетии в 2008 г., установив с ними дипломатические отношения, как и ряд других стран).
Важно также отличать непризнанные государства от аннексированных территорий, поскольку условия их функционирования имеют принципиальные отличия. Аннексированные территории находятся под контролем другого государства, в то время как непризнанные государства обладают тремя критериями в соответствии с Конвенцией Монтевидео (Abirbek, 2022).
Такая дифференциация имеет принципиальное значение для определения правовых возможностей взаимодействия с данными образованиями, в том числе и в гуманитарной сфере, поскольку объем их международной правосубъектности существенно различается в зависимости от степени признания.
Тем не менее в настоящем исследовании под непризнанными государствами понимаются как полностью непризнанные, так и частично признанные государства, которые соответствуют критериям постоянного населения, определенной территории и эффективной власти.
Правовые основы гуманитарного сотрудничества с непризнанными государствами . Проблема сотрудничества с непризнанными государствами связана с коллизией принципов территориальной целостности и права народов на самоопределение.
В силу принципа территориальной целостности взаимодействие с непризнанными государствами является игнорированием территориального суверенитета государств, в рамках официальных границ которых создано и функционирует непризнанное государство. Хотя на практике непризнанные государства вступают в отношения с другими непризнанными и частично признанными государствами, имеют отношения с суверенными государствами, эти отношения не носят официального характера.
Исключение, однако, составляет гуманитарная сфера. Возможность гуманитарного сотрудничества с непризнанными государствами проистекает из признания универсальности прав человека и необходимости обеспечения гуманитарных потребностей людей, вне зависимости от политического и правового статуса территорий, на которых они находятся. На данных идеях базируется международное гуманитарное право (Пикте, 1994).
Также допустимость сотрудничества с любыми субъектами для оказания гуманитарной помощи обосновывается императивными нормами международного права ( jus cogens ), к которым относятся основные права человека, включая право на жизнь.
В этом контексте принципиальным является решение Международного суда ООН по делу «Barcelona Traction»1. В рамках данного дела Суд постановил, что важно выделять отдельную категорию обязательств государств – erga omnes , которые адресованы ко всему международному сообществу. Подобные обязательства действуют в отношении соблюдения императивных норм международного права для обеспечения защиты ключевых прав человека. Суд подчеркнул, что по причине значимости таких прав все государства и международное сообщество имеют интерес в их защите.
В отношении гуманитарного сотрудничества с непризнанными государствами наличие отмеченных обязательств означает, что необходимость реализации мер по защите ключевых прав человека не зависит от статуса территории, где проживает население.
В связи с этим, даже если исходить из конститутивной теории признания государств и верховенства принципа территориальной целостности, предоставление гуманитарной помощи не может рассматриваться как незаконное вмешательство во внутренние дела государства, в официальных границах которого располагается непризнанное государство, при условии, что соответствующая помощь не выходит за пределы гуманитарных целей.
Как отмечает Ф. Швендиман, подобное сотрудничество, для признания его гуманитарного характера, должно соответствовать трем ключевым принципам: гуманности, беспристрастности и недопущению дискриминации (Швендиман, 2011):
-
1. Принцип гуманности предполагает, что вмешательство может осуществляться исключительно по причине страдания людей и предпринимаемые действия могут быть направлены только непосредственно на удовлетворение гуманитарных потребностей населения с целью предотвращения такого страдания (Пикте, 1997).
-
2. Беспристрастность состоит в том, что сторона, оказывающая гуманитарную помощь, не должна отдавать предпочтения какой-либо из сторон конфликта.
-
3. Недопущение дискриминации предполагает запрет на использование дискриминационных критериев при оказании гуманитарной помощи.
В контексте пандемии это означает, что медицинские препараты, средства индивидуальной защиты и вакцины должны распределяться на основе потребности, а не политического признания.
Подобная позиция о допустимости сотрудничества по оказанию гуманитарной помощи подтверждается и в практике Международного суда ООН. В деле «Никарагуа против США»2 Суд постановил, что если сотрудничество с какими-либо силами внутри суверенного государства ограничивается исключительно оказанием гуманитарной помощи, то оно не может рассматриваться в качестве незаконного вмешательства во внутренние дела. При этом Суд подчеркнул, что не имеет значения, какую политическую направленность и цели имеют группы, которым предоставляется помощь.
Таким образом, даже в рамках приоритета принципа территориальной целостности государств и конститутивной теории гуманитарное сотрудничество с непризнанными государствами допускается на основаниях положений, регулирующих оказание гуманитарной помощи населению в рамках внутренних вооруженных конфликтов.
Опыт гуманитарного сотрудничества с отдельными непризнанным государствами в период пандемии COVID-19. Особенности политико-правового контекста, в котором функционирует большинство непризнанных государств, оказали существенное влияние на их положение и стратегии поведения в ходе борьбы с коронавирусом. Введение многими странами карантинных ограничений сказалось на экономических взаимодействиях, которые в случае с непризнанными государствами изначально были существенно ограничены.
В этих условиях большое значение приобрела поддержка «государств-партнеров» , которые либо официально признают самопровозглашенные государства, либо фактически поддерживают их неофициально. Так, например, ключевую роль в оказании гуманитарной помощи Южной Осетии и Абхазии сыграли поставки вакцины «Спутник V» со стороны России1, которая, как говорилось выше, признала их независимость и суверенитет еще в 2008 г.
Тем не менее значительный вклад в обеспечение гуманитарного сотрудничества с непризнанными государствами в период пандемии COVID-19 внесли специализированные международные организации . Именно данные организации наиболее активно сотрудничали с непризнанными государствами в формате гуманитарных поставок и экспертно-консультационной помощи. Соответствующая деятельность не рассматривалась как признание независимости этих территорий, а осуществлялась в рамках гуманитарного мандата организаций.
Что примечательно, Международный комитет Красного Креста (далее ‒ МККК) исходил из позиции, что если какие-либо политические силы, вне зависимости от их направленности и целей, осуществляют стабильный контроль над территорией и фактически исполняют функции власти, то они должны нести ответственность за здоровье населения и, соответственно, принимать меры по организации вакцинации (Туров, Зотова, 2022). Однако в соответствующих документах МККК в отношении гуманитарной помощи во время COVID-19 подчеркивалось, что сотрудничество с такими политическими силами не означает их легитимации2.
Схожий подход можно заметить и у государств, которые формально не признавали непризнанные государства , но тем не менее оказывали им гуманитарную помощь.
Ярким примером, демонстрирующим особенности подобного взаимодействия, является гуманитарное сотрудничество Европейского союза (ЕС) и Абхазии. ЕС принимал активное участие в гуманитарной поддержке Республики во время пандемии, несмотря на отсутствие официального признания как со стороны государств-членов ЕС, так и самого интеграционного объединения.
Помощь со стороны ЕС преподносилась в рамках концепции «вовлечения без признания» ( engagement without recognition ) (Visoka, 2019). С одной стороны, она предполагает отсутствие намерения признавать независимость непризнанных государств. С другой стороны, данная политика поощряет взаимодействие с гражданским обществом непризнанных государств в рамках поддержки их развития и разрешения проблем гуманитарного характера. Данная концепция также применяется ЕС в отношениях с другими самопровозглашенными государствами (например, в отношениях с Приднестровьем) (Visoka, 2019).
Таким образом, ЕС обеспечивает возможность сотрудничества с непризнанными государствами, хотя оно носит крайне ограниченный характер (исключительно гуманитарная помощь и поддержка гражданского населения). Тем не менее такое сотрудничество приобретает некоторые формальные признаки, в частности, упоминания о нем можно найти в официальных документах, регулирующих отношения ЕС с Грузией3.
Хотя такой подход не приближает непризнанные государства к официальному признанию, он видится менее маргинализирующим по отношению к непризнанным государствам, чем приравнивание их гуманитарной поддержки к взаимодействию с гражданским населением на территории под контролем террористических вооруженных формирований.
Кризисная ситуация во время пандемии также в отдельных случаях способствовала увеличению напряженности в отношениях между непризнанными государствами и странами, в официальных границах которых они расположены .
Предоставление помощи со стороны таких государств могло рассматриваться как способ укрепления влияния и увеличения шансов на установление контроля над территориями непризнанных государств. Так, именно по причине страха усиления зависимости Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье отказались от предлагаемой гуманитарной помощи со стороны Грузии и Молдовы соответственно (Туров, 2022).
Однако стоит отметить, что готовность оказывать помощь демонстрировали не все государства, в официальных границах которых располагались непризнанные государства. Так, Азербайджан не предпринимал активных мер для поддержки Нагорного Карабаха (Хаше, Абдоллахи, 2021; Lozka, 2021).
В целом, проведенный анализ демонстрирует, что в рамках гуманитарного сотрудничества непризнанные государства могут взаимодействовать с государствами-партнерами; со специализированными международными организациями и неправительственными организациями; с государствами, которые официально их не признают; а также с государствами, в официальных границах которых они расположены.
Гуманитарное сотрудничество как путь к укреплению международной субъектности непризнанных государств . Гуманитарное сотрудничество с непризнанными государствами на сегодняшний день осуществляется на основании норм международного гуманитарного права, которое регулирует взаимодействие с гражданским населением, находящимся на территориях, контролируемых негосударственными формированиями в рамках немеждународных вооруженных конфликтов.
Таким образом, наличие гуманитарного сотрудничества с формальной точки зрения нельзя рассматривать как фактор частичной легитимации непризнанных государств.
Однако в контексте перспектив влияния гуманитарного сотрудничества на международную субъектность непризнанных государств следует отметить противоречивую природу данного процесса.
С одной стороны, активное участие в международных гуманитарных программах позволяет непризнанным государствам демонстрировать эффективность своего контроля над территориями, устойчивость институтов публичной власти и способность к международному взаимодействию. Опыт COVID-19 показал, что правительства таких непризнанных государств, как Косово, Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье, смогли организовать координацию с международными организациями, обеспечить распределение гуманитарной помощи и поддержание общественного порядка в кризисных условиях.
С другой стороны, сама необходимость обращения за гуманитарной помощью подчеркивает ограниченность ресурсов и международных связей непризнанных государств, что может восприниматься как свидетельство их нежизнеспособности в качестве независимых субъектов международного права.
Парадокс заключается в том, что успешное получение и распределение международной гуманитарной помощи одновременно укрепляет легитимность власти непризнанного государства и демонстрирует его зависимость от внешней поддержки.
Однако, в любом случае, гуманитарное сотрудничество создает прецеденты прямого взаимодействия представителей публичной власти непризнанных государств с международными организациями и зарубежными официальными лицами. Эти контакты, ограниченные гуманитарными вопросами, на практике способствуют формированию каналов международного взаимодействия, что может иметь долгосрочное значение для развития фактического правового статуса конкретного непризнанного государства.
Пандемия COVID-19 актуализировала необходимость сотрудничества с органами управления непризнанных государств для обеспечения координации предоставления гуманитарной помощи, а также реализации программ вакцинации населения. Хотя международные организации могли сотрудничать с местными некоммерческими организациями и гражданским обществом напрямую, последние не обладали такими же фактическими властными полномочиями, как органы публичной власти непризнанных государств. Следовательно, такие организации, как МККК, возлагали на лиц и органы, фактически исполняющие функции власти в непризнанных государствах, ответственность за защиту здоровья населения и организацию вакцинации.
Таким образом, опыт пандемии показал, что на непризнанные государства фактически распространяются обязательства erga omnes в отношении защиты и гарантий осуществления прав человека на контролируемых ими территориях. Наличие таких обязательств позволяет предполагать присутствие некоторой ограниченной правосубъектности у непризнанных государств.
Подобная ограниченная правосубъектность, как минимум, включает обязанность обеспечения защиты прав человека, а также право и обязанность на запрос гуманитарной помощи в тех случаях, когда непризнанные государства не могут обеспечить защиту прав населения самостоятельно.
Соответствующая правосубъектность формально-юридически отрицается в силу наличия угрозы принципу территориальной целостности государств, в официальных границах которых располагаются непризнанные государства. Однако, как показала пандемия, в кризисных ситуациях международное сообщество вынуждено сотрудничать с непризнанными государствами, в результате чего они, по сути, выступают в качестве квази-субъектов международных отношений.
Иными словами, в рамках гуманитарного права непризнанным государствам может быть присвоен формальный правовой статус, соответствующий фактически имеющемуся у них набору прав и обязанностей (например, специальный международно-правовой статус «непризнанных территориальных образований»).
Такой подход позволил бы отойти от использования права вооруженных конфликтов в качестве международно-правовой основы гуманитарного взаимодействия с непризнанными государствами. Опора на специальный международно-правовой статус в большей мере соответствует современным особенностям непризнанных государств на международной арене по сравнению с правовым статусом вооруженных формирований, удерживающих контроль над территориями за счет применения силы.
Заключение . Международное признание универсального характера прав человека, нормы международного гуманитарного права, а также обязательства по защите прав человека erga om-nes создают прочную концептуально-правовую основу для оказания гуманитарной помощи населению любых территорий независимо от их политического статуса.
Соответствующая база позволяет непризнанным государствам вступать в международноправовое взаимодействие с субъектами международного права в гуманитарной сфере. Ключевым условием подобного взаимодействия является соблюдение деполитизированного характера предоставления гуманитарной помощи.
При этом стороной международного гуманитарного сотрудничества являются именно органы публичной власти непризнанных государств в силу наличия у них фактических властно-распорядительных полномочий, позволяющих организовывать процесс получения, распределения и контроля гуманитарной помощи.
Как следствие, непризнанные государства (в лице своих органов публичной власти) наделяются ограниченной международной правосубъектностью, включающей в себя: 1) обязанность соблюдать и защищать права человека; 2) право и обязанность на осуществление гуманитарного сотрудничества в целях обеспечения защиты и эффективного осуществления прав человека на подконтрольных территориях.
Таким образом, непризнанные государства обладают специальным (ограниченным) международно-правовым статусом, который нуждается в дополнительной детализации и официальном закреплении.
Учитывая необходимость соблюдения принципа территориальной целостности государств, в официальных границах которых располагаются непризнанные государства, соответствующий специальный правовой статус может быть обозначен как правовой статус «непризнанных территориальных образований».