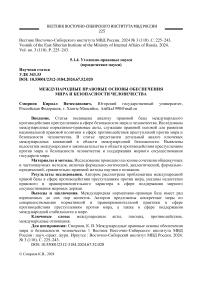Международные правовые основы обеспечения мира и безопасности человечества
Автор: Смирнов К.В.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Уголовно-правовые науки (юридические науки)
Статья в выпуске: 3 (110), 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение: статья посвящена анализу правовой базы международного противодействия преступлениям в сфере безопасности мира и человечества. Исследованы международные нормативно-правовые акты, служащие правовой основой для развития национальной правовой политики в сфере противодействия преступлений против мира и безопасности человечества. В статье представлен детальный анализ ключевых международных конвенций в области международной безопасности. Выявлены недостатки международного законодательства в области противодействия преступлениям против мира и безопасности человечества, и поддержания мирного сосуществования между государствами мира.
Международные акты, геноцид, противодействие, международные отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/143183366
IDR: 143183366 | УДК: 343.33 | DOI: 10.55001/2312-3184.2024.67.52.020
Текст научной статьи Международные правовые основы обеспечения мира и безопасности человечества
-
5.1.4. Criminal Law Sciences (legal sciences)
Original article
INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK FOR ENSURING PEACE AND SECURITY OF MANKIND
Kirill V. Smirnov
Introduction: the article is devoted to the analysis of the legal framework for international counteraction to crimes in the field of security of the world and humanity. International legal acts that serve as the legal basis for the development of national legal policy in the field of combating crimes against the peace and security of mankind have been studied. The article presents a detailed analysis of key international conventions in the field of international security. The shortcomings of international legislation in the field of combating crimes against the peace and security of mankind, and maintaining peaceful coexistence between the states of the world have been identified.
Materials and Methods: the study was carried out on the basis of a combination of general scientific and specific scientific methods, including formal logical, dialectical, formal legal, comparative legal methods of scientific knowledge.
The Results of the Study: the author examined the problems of the international legal framework in the field of combating crimes against peace, indicated the shortcomings of a legal and law enforcement nature in the field of maintaining peaceful coexistence between world powers.
Findings and Conclusions: the international regulatory framework has a number of aspects that have not yet been resolved. The author has proposed specific measures to improve regulatory and law enforcement practices in the field of combating crimes against peace, as well as in maintaining international stability in the world.
Вопросы международного противодействия преступлениям в сфере безопасности мира и человечества подлежали рассмотрению на страницах специальной литературы [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. В рамках учебной литературы получили освещение составы преступлений против мира и безопасности человечества [8]. Неотъемлемой частью противодействия любому виду преступности является система и четкое исполнение принятых нормативных правовых актов, начиная от международных и заканчивая национальными.
Российская империя неуклонно исполняла нормы, закрепленные в Женевских конвенциях XIX века и в Гаагских конвенциях, принятых в начале XX века. Так, в октябре
1914 г. в разгар боев Первой мировой войны в России было утверждено положение о военнопленных 1 . В нем подчеркивалось, что с военнопленными как с законными защитниками своего Отечества надлежит обращаться человеколюбиво. Нами не было обнаружено случаев нарушений со стороны России когда-либо норм международного права и принятых актов внутри Российской империи.
После Октябрьской революции, 4 июня 1918 года, советское правительство во главе с В. И. Ульяновым-Лениным признало все международные конвенции о Красном Кресте, признанные Россией до октября 1915 года [9]. Необходимо отметить, что во время Гражданской войны в России нормы международного гуманитарного права соблюдались условно, что повлекло большую массу жертв с обеих сторон.
В области международного гуманитарного права Советский Союз, ратифицировал некоторые договоры: Женевский протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых и других подобных газов в 1925 году и Женевскую конвенцию 1929 года об облегчении участи раненых и больных в армиях. Но они рассматривались как часть буржуазного права войны и исполнялись только с учетом воли советского руководства. СССР отказался ратифицировать конвенцию 1929 года о военнопленных, что имело далеко идущие последствия.
Женевские конвенции регулируют вопросы, связанные с правовым статусом всех участников вооруженных конфликтов и вовлеченных в них лиц, перечень которых достаточно широк, начиная от солдат воюющих государств, заканчивая представителями духовенства. Отдельные положения в конвенциях посвящены правовому статусу медицинских работников и корреспондентов средств массовой информации. В этом и есть их главное отличие от Конвенций и Деклараций, принятых международным сообществом в Гааге (1899 и 1907 г.).
Советское правительство ратифицировало Женевские конвенции 1949 года только в 1954 году, а в 1989 – оба протокола. Необходимо отметить, что в 1990 году был издан приказ Министра обороны СССР № 75 об объявлении Женевских конвенций 1949 года в войсках. Данный приказ действует и сегодня2.
В России сложилась обширная международная правовая база, имеющая целью регулирование отношений между государствами в период международных и немеждународных вооруженных конфликтов. Необходимость соблюдения норм международного права, в том числе и международного гуманитарного права, прямо прописана в Конституции Российской Федерации с обязательным приоритетом норм международного права над национальным правом России. На сегодняшний день Российская Федерация является участницей всех основных актов международного и международного гуманитарного права.
Важное значение в противодействии любому явлению имеет четкий план действий. Не становятся исключением и международные отношения. План противодействия в них, как и в юриспруденции, оформляется в виде конвенций и деклараций. Декларация носит призывный (общий) характер, конвенция же содержит в себе понятийный и составной аппарат, а также меры ответственности за нарушение установленных в конвенции правил.
За время развития международных отношений было принято немало конвенций и деклараций как на уровне Организации Объединенных Наций, так и при ее участии в рамках ст. 102 Устава ООН. Другой вопрос в том, как они исполнялись на практике. Особенное значение имеют конвенции и декларации, регулирующие и обеспечивающие международный мир и безопасность.
При рассмотрении, в частности, Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1 следует отметить, что конвенция, несмотря на свое «громкое название», регулирует ответственность за сооружение и эксплуатацию атомных реакторов в рамках развития мирного атома. Интересно, что конвенция содержит широкий перечень расшифровок понятий, даже разграничены практически в одном смысле понятия: «ядерный ущерб» и «ядерный инцидент». Причем в обоих понятиях содержатся признаки наступления последствий в виде смерти человека либо ином другом повреждении в результате ядерного происшествия. Подобные неточности понятийного аппарата, по нашему мнению, с одной стороны, разграничивают, но с другой – одновременно запутывают и создают неоднозначности в трактовке отличий одного от другого. Данное обстоятельство считаем недостатком, присущим большинству из конвенций.
Конвенцией предусмотрена ответственность для операторов ядерных установок, одновременно установлена субсидиарная ответственность в случае, если установкой реактора занимались лица, назначенные государствами, т. е. операторами, с целью установки реакторов. Установлены случаи, при которых не будет наступления ответственности за ядерное происшествие. К ним относятся:
– вооруженный конфликт на территории государства, в котором осуществлена установка ядерного реактора;
– восстание на территории государства;
– наступление стихийного бедствия и иных случаев, наступление которых не зависит от человека.
При этом установлено, что для оператора установки как физического лица возможно наступление ответственности за ядерный ущерб в результате стихийного бедствия, но только при условии наличия такой ответственности в государствах, отвечавших за установку оборудования.
Интерес представляет мера финансовой ответственности для операторов за наступление ядерного ущерба. Конвенцией установлена финансовая ответственность. Конвенцией установлен минимум, который должно уплатить физическое лицо (оператор установки) в результате ядерного инцидента, – это сумма не менее 5 миллионов долларов США. Установить подобное ограничение вправе государство, отвечавшее за установку ядерных реакторов. Причем, что интересно, Конвенцией установлен порядок расчета ущерба, исходя исключительно из курса доллара. При этом курс доллара является расчетной единицей, эквивалентной стоимости доллара Соединенных Штатов по его золотому паритету на 29 апреля 1963 года, то есть 35 долларов США за одну тройскую унцию чистого золота. Хотя одновременно установлено, что суммы возмещения ущерба, судебные, страховые и иные расходы должны выплачиваться в валюте пострадавшего государства. Одновременно установлено, что в судебных решениях о ядерных инцидентах не может быть прецедентов, т. е. каждый подобный случай рассматривается отдельным судом.
Считаем, что с учетом современных реалий, положение данной конвенции, касающееся порядка расчета ущерба с привязкой к курсу доллара США, а особенно 1963 года, является не отвечающим интересам Российской Федерации, ратифицировавшей данную Конвенцию в 2005 году. Поэтому считаем целесообразным денонсировать данную Конвенцию либо предложить мировому сообществу внести соответствующие изменения, хотя в последнее верится с трудом ввиду отношения мирового сообщества к современным предложениям России по вопросам совершенствования международных нормативных правовых актов.
Вступление в силу Конвенции 1997 года, дополнявшей меры гражданской ответственности за ядерные инциденты, на сегодняшний день не вступившей в силу по причине нератификации ее пятью государствами, располагающими минимум 400 000 единиц установленной ядерной мощности, также не сняло бы ряд проблем, выявленных в ходе исследования1.
Кстати, ни в одном соглашении, посвященном запрещению либо ограничению вооружений, не был прописан минимум наличия того же самого ядерного вооружения. Мы отдаем себе отчет в том, что ни одно из ныне обладающих ядерным оружием государство не сможет (даже, условно говоря, не имеет политической воли) отказаться от него вовсе. Ядерное оружие с самого начала его разработки было призвано стать своего рода «дубинкой», силы которой должен бояться каждый потенциальный агрессор. Вполне оправданно появление ядерного оружия, но ведь можно было предусмотреть запреты передачи для государств технологий по его созданию между собой. И нормативно целесообразно было бы закрепить минимальный объем наличия ядерного оружия, необходимого сугубо для обеспечения своей глобальной безопасности. Однако до сих пор так называемый «клуб ядерных держав» не ограничен мировыми державами, создавшими ООН, и по сей день развивается его поражающая мощь. Данное обстоятельство является одним из элементов, могущих привести ко всеобщему разрушению хрупкого международного мира.
Конвенцией 1997 года предусмотрено, что валюту специальных прав на заимствования определяет Международный валютный фонд (далее – МВФ), следовательно, и валюту ущерба определяет тоже МВФ, а это, напомним, не отвечает интересам России и общемировому тренду, в котором расчеты ведутся в национальных валютах. Возможно, что данный аспект мешает вступлению в силу данной Конвенции.
К проблемным аспектам Конвенции 1997 года считаем возможным отнести наличие регресса для операторов. Данное положение, по нашему мнению, вообще сводит на нет необходимость ответственности за данные деяния и ставит под сомнение наличие регулирования ядерных аспектов на международном уровне. Считаем целесообразным установить сумму возмещения в валюте государств без привязки к МВФ.
К положительным сторонам Конвенции можно отнести обязанность сторон создать фонд возмещения возможных ядерных инцидентов. Формировать его обязаны государства, желающие вступить в соглашение. Минимальный размер взноса 300 млн. Исходя из содержания конвенции 1997 года, были предусмотрены выплаты пострадавшим физическим лицам от ядерного инцидента, причем независимо от гражданства. Данное положение является, на наш взгляд, положительным, но затратным для любого государства, хотя порой совершенствование, в том числе ядерного оружия, стоит дороже.
Конвенцией предусмотрено, что возмещению подлежат случаи, произошедшие в том числе в морских районах и на борту морских суден государств. В предыдущей Конвенции не было предусмотрено подобных положений.
Немаловажным считаем положение Конвенции 1997 года о наличии в уголовных законодательствах ответственности за совершение ядерных инцидентов, начиная с 1 января 1995 года. В УК РФ такая уголовная ответственность предусмотрена за террористический акт в отношении объектов атомной энергетики. Более того, УК РФ предусматривает ответственность за деяния, сопряженные с посягательством на объекты использования атомной энергии, потенциально опасные биологические объекты либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических веществ или патогенных биологических агентов (п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Считаем данный факт объективной стороны еще одним подтверждением перевода ст. 205 УК РФ в 34 главу УК РФ, с учетом уровня общественной опасности возможных последствий от совершения подобных деяний.
Конвенцией 1963 года был установлен временной ограничитель обращения в судебные инстанции в случае наступления ядерного ущерба – 10 лет с момента совершения ядерного инцидента. В случае если ядерный инцидент произошел с материалами, похищенными для совершения ядерного инцидента, установлен срок обращения – 20 лет со дня хищения ядерного материала. В то же самое время срок исковой давности в виде трех лет установлен, если потерпевшее государство знало о наступлении данного последствия.
Конвенцией установлено, что обращаться с исками в суды нужно в судебные органы пострадавшей от ядерного инцидента государства. Если сложно определить территориальность инцидента, то тогда подсудность передается в суды государства-оператора.
Считаем целесообразным установить четкую компетенцию подобных дел за Международным Судом ООН ввиду тяжести последствий наступления ядерных инцидентов и одновременно ввиду возможной предвзятости сторон судебного разбирательства по подобному делу. Подобное предложение можно было бы реализовать, если бы не современная политическая позиция западных государств относительно предложений, выносимых на мировую арену Российской Федерацией. Ведь каждая из сторон, особенно в подобных судебных разбирательствах, будет стремиться снять с себя ответственность. А ведь в мире действует Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое имеет право реализовывать гарантии нераспространения ядерного оружия, в том числе путем сбора информации и составления независимого заключения по результатам сбора данных. Международный Суд ООН может учитывать в том числе и мнение МАГАТЭ. Данное право необходимо только нормативно закрепить.
Конвенцией также предусмотрен механизм страхового и финансового обеспечения работ для государств, с помощью которых можно было бы потом в том числе компенсировать ущерб. При этом нет четкой обязанности составления страхового и финансового обеспечения подобных работ. Считаем целесообразным установить обязанность государств по формированию страхового и финансового обеспечения проекта по возведению и проведению работ, связанных с установками и функционированием ядерных реакторов.
По нашему мнению, данная обязанность выступила бы дополнительной гарантией не только для возмещения ущерба государству, пострадавшему от ядерного инцидента, но и могло бы покрыть затраты, связанные с социальными гарантиями государств для населения, связанными с ядерными инцидентами.
В государства, где в фонды страхования входят и расходы за ядерные инциденты, и расходы за возмещение последствий от несчастных случаев на ядерных производствах, основания выплат определяются законодательством этих государств либо правилами межправительственных организаций, но только при наступлении определенных последствий, а именно:
-
а) если лицу, являющемуся гражданином договаривающегося государства, за исключением оператора, выплачено возмещение ядерного ущерба с последующей компенсации затрат ему;
-
б) ничто не должно мешать в возмещении затрат за счет механизмов страхования, понесенные затраты оператора на возмещение ущерба в результате ядерного инцидента от государства, отвечавшего за установку реактора.
Считаем нецелесообразным установление регресса для оператора установок, поскольку в таком случае теряется суть ответственности за аварии на ядерных объектах. В этой связи считаем целесообразным пересмотреть и статью 10 Конвенции, перечисляющую случаи, при которых на сегодняшний день предусмотрен регресс для операторов.
Положение о возможности применения национального законодательства, с одной стороны, является положительной стороной, поскольку международным принципом является мирное регулирование конфликта. Но с другой стороны, на момент подписания конвенции (60-е годы XX века) полноценно отсутствовала международная нормативноправовая база по вопросам регулирования ответственности за нарушения правил пользования ядерными материалами в мирных целях. Но о том же можно сказать и в отношении национальных (внутренних) законодательств государств.
Данные обстоятельства, по нашему мнению, являются основанием для обновления подобной конвенции. К тому же, считаем целесообразным разработать конвенцию на уровне ООН, в которой была бы предусмотрена гражданская ответственность не только для лиц, наносящих ядерный ущерб нарушением правил эксплуатации мирного атома, но и за совершение на территории государств ядерных взрывов с целью совершенствования ядерного оружия массового поражения, внеся изменения либо в рассматриваемую конвенцию, либо в договор 1968 года о нераспространении ядерного оружия.
Одной из гарантий ответственности регулируемой конвенции является положение о том, что денонсация договора не снимает ответственности с виновных в ядерных ущербах, наступивших до денонсации Конвенции.
Несмотря на ряд положительных моментов рассматриваемой конвенции, имеются и проблемные аспекты в виде установления подсудности дел о ядерных инцидентах в Международный Суд ООН как главный судебный орган организации, отвечающий за сохранение мира и безопасности на планете. Возможность регресса для операторов, ответственных за ядерные инциденты, и механизм оплаты ущерба с привязкой к доллару США либо в валюте, определяемой МВФ, при наличии возможности оплаты ущерба в валюте пострадавшего государства, является противоречивым положением и требует изменений. Есть и иные пути решений проблемных вопросов, регулируемых данной конвенцией. Ныне действующие дополняющие положения Конвенции 1997 года также не снимают ряд проблем.
Следом после Конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб державы – победительницы во Второй мировой войне (СССР, Великобритания и США), желая достичь соглашения о полном разоружении и всеобщем контроле в рамках целей
ООН, подписали между собой договор о запрещении проведения ядерных испытаний в атмосфере, в космосе и под водой1. Государства, подписав данный Договор, брали на себя обязательства по предотвращению и недопущению ядерных взрывов в своих юрисдикциях, по недопущению поощрения или проведения каких-либо ядерных испытаний, в том числе в космосе. То есть мировые державы осознавали будущее значение космического пространства для ведения боевых действий. Конечно, произошло это на фоне первого полета человека в космос, совершенного 12 апреля 1961 года советским космонавтом Ю. А. Гагариным. Но как показывает практика, мировым державам удалось понять перспективы космоса на долгие десятилетия вперед. Данное обстоятельство считаем уникальным, произошел редчайший случай, когда юриспруденции и международным отношениям удалось заглянуть в будущее, а не догонять его.
В договоре было предусмотрено право любого государства присоединиться к данному соглашению. Одновременно был предусмотрен механизм свободного выхода из договора в случае, если сторона решила, что исключительные обстоятельства ставят под угрозу интересы страны. Был предусмотрен и механизм внесения изменений в договор при необходимости.
Однако в договоре не было предусмотрено мер ответственности стран за его нарушение, что можно назвать его отрицательной стороной. Двояко можно интерпретировать и положение о возможности выхода государства из договора в случае возможного наступления угрозы национальной безопасности стран и не отвечать высшим интересам государств.
Следовательно, такое положение заранее «поставило крест» на эффективности реализации такого договора. То есть, с одной стороны, мировые державы как создатели современной на тот момент системы мировой безопасности и мирного сосуществования между государствами, осознавали вред как человеку, так и природе от производства ядерных испытаний, с другой стороны, они заранее расписались в том, что могут и не исполнять положения данного договора. И практика подтвердила подобное желание мировых держав: по данным Организации Объединенных Наций, в период с 1945 по 1996 годы во всем мире было осуществлено более 2 000 ядерных испытаний, из них:
– Соединенные Штаты провели 1 032 испытания в период 1945–1992 гг.;
– Советский Союз осуществил 715 испытаний в период 1949–1990 гг.;
– Великобритания осуществила 45 испытаний в период 1952–1991 гг.;
– Франция провела 210 испытаний в период 1960–1996 гг.;
– Китай провел 45 испытаний в период 1964–1996 гг.;
– Индия провела 1 испытание в 1974 году.
Из более чем 2 000 ядерных взрывов, которые осуществлялись во всем мире в период 1945–1996 гг., 25 %, или более 500 бомб, были взорваны в атмосфере.
Количество ядерных арсеналов в мире в течение «холодной войны» стремительно росло: с 3 000 единиц в 1955 году до более чем 37 000 единиц в 1965 году (Соединенные Штаты – 31 000 и Советский Союз – 6000), с 47 000 в 1975 году (Соединенные Штаты – 27 000 и Советский Союз – 20 000) до более чем 60 000 на конец 1980-х годов (Соединенные Штаты – 23 000 и Советский Союз – 39 000).
Считаем такие «двойные стандарты» международного регулирования недопустимыми, а подобные соглашения – «пустыми» по своей сути. По нашим данным, данный договор остается действующим и имеющим свою юридическую силу (по состоянию на 1 октября 1996 года – 137 государств-участников), что подтверждается приведенной выше практикой реализации данного действующего соглашения.
Понимая сложность реализации на практике положений договора 1963 года, государства мира в 1968 году заключили новый договор о нераспространении ядерного оружия1. Он предусматривал обязательство для государств, ратифицировавших его (в том числе СССР в 1969 году), в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем. Кстати, международный договор о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем не принят до сих пор.
Принимая, подписывая и ратифицируя данный договор, страны-участники осознавали опасность ведения «гонки вооружений» в том числе и ядерных, начавшейся, по сути, после знаменитой речи У. Черчилля в г. Фултон штата Миссури 5 марта 1946 года, когда уже находившийся на тот момент в отставке Премьер-министр Великобритании ознаменовал начало «Холодной войны» между Западом и СССР. Таким образом и началась «Холодная война», окончившаяся только распадом СССР в 1991 году. Речь У. Черчилля, находившегося в отставке, показала уровень влияния его слов на ход мировых событий и развитие международных отношений, несмотря на отставку премьер-министра. Данное обстоятельство, по нашему мнению, еще раз подтвердило роль субъекта права, говоря юридическим языком, в обеспечении мира либо в развязывании мирового противостояния между странами и даже континентами. Следовательно, ход истории, несмотря на самые правильно составленные акты, зависит от человека, и порой не облеченного властью.
Договор 1968 года предусматривал возможность проведения исследований с целью развития исключительно мирного атома, в остальном Договор 1968 года подтвердил и несколько развил договор 1963 года. В частности, государства, не владеющие ядерным оружием, были обязаны заключить соглашения с МАГАТЭ либо с другими государствами, но обязательно уведомив МАГАТЭ о заключении соглашений по развитию экономики и технологий с применением ядерных технологий исключительно в мирных целях. Таким образом, в договоре впервые была прописана хоть сколько-то четко роль международной организации атомной энергии, созданной в том числе для реализации целей, провозглашенных государствами – создателями ООН.
Договором 1968 года, в частности, было предусмотрено проведение в качестве гарантий один раз в пять лет международной конференции по соблюдению Международного договора 1968 года. Безусловно, данное положение является положительно влияющим фактором. Так, в 1975 году, по истечении пяти лет после вступления в силу договора, в г. Женева (Швейцария) прошла международная конференция по контролю за исполнением Договора 2 . На конференции государства подтвердили принципы договора, в том числе по недопущению развития ядерного вооружения. На конференции государства были призваны усилить экспортный контроль за передачей ядерных материалов и т. д.
Однако, как и в договоре 1963 года, в договоре 1968 года не были предусмотрены четкие меры ответственности для государств и физических лиц за создание ядерного оружия или помощи в таковом, с описанием судебных процедур по рассмотрению таких споров. Считаем отсутствие таких положений в договоре, регулирующем ядерные вопросы, отрицательно влияющим на практику реализации данных договоров.
Одновременно примерно с 2005 года, то есть через 37 лет после принятия Договора 1968 года, мировое сообщество осознало необходимость совершенствования системы контроля за его исполнением и его норм. Однако до сих пор мировому сообществу не удается прийти к единому мнению по вопросам дальнейшей реализации данного соглашения. А соглашение это можно и нужно реанимировать во имя поддержания мира на планете, через запрет в данном случае развития ядерного оружия, способного уничтожить все живое на планете.
В частности, конференция 2015 года по рассмотрению действия Договора не смогла согласовать субстантивный итоговый документ главным образом из-за разногласий по вопросу о путях продвижения вперед в осуществлении резолюции 1995 года по Ближнему Востоку1. Тем не менее государства-участники провели перспективный диалог по всем трем основным компонентам Договора, в том числе обсудили возможные меры по достижению ядерного разоружения.
По нашему мнению, сведение решений вопросов по таким существенным вопросам, как ядерное разоружение, к проведению обычных диалогов ни к чему не может привести, поскольку такие диалоги не имеют под собой никаких правовых и иных международных основ. Международное право в силу своего влияния всегда должно быть подкреплено документами, имеющими юридическую силу.
Одними международными конвенциями и декларациями международные отношения и международное регулирование не ограничиваются. После заключения глобальных (на уровне ООН) международных актов, часто общего плана, государства должны, по нашему мнению, подкреплять их принятием соглашений одного государства с другим. Именно из Деклараций и конвенций ООН и других организаций и, что немаловажно, из дальнейших соглашений между государствами складывается механизм международной безопасности и других вопросов, регулируемых на международном уровне.
Одними из таких составных элементов всеобщей международной безопасности и были ряд соглашений между мировыми державами (СССР, США, Великобритания, Франция).
Рассмотрим ряд соглашений между СССР и США, заключенных с целью ограничения и попыток всеобщей отмены оружия массового поражения друг у друга.
Две сверхдержавы с 1946 года вступили в конфронтацию друг с другом, совершая «гонку вооружений». Направлена данная «гонка» была на создание новых и совершенствования имевшихся видов оружия массового поражения. Процесс принятия актов по взаимному сдерживанию друг друга был весьма трудным. Однако в целом две мировые державы осознавали свою роль и ответственность за сохранение «хрупкого мира» и опасность возможных напряженностей и применения различных видов оружия массового поражения.
В период с 1946 по 1991 год и в дальнейшем был принят ряд международных соглашений по сдерживанию вооружения. Начиная от соглашения о запрещении всяческих ядерных взрывов в различных сферах земного шара и заканчивая, к сожалению, пока неудачной попыткой налаживания всеобщего контроля за оружием массового поражения, имеющегося у мировых держав1.
Так, начиная с 1972 года был подписан ряд международных актов между СССР и США, касавшихся ограничения противоракетной обороны и стратегических наступательных вооружений государств2.
В частности, в Договоре между СССР и США были предусмотрены обязательства по ограничению системы противоракетной обороны и неразвертыванию системы ПРО на территории своих государств. Государства были вправе развертывать системы ПРО не далее, как на расстоянии сто пятьдесят километров от столицы в центре обороны с ней. Установлено ограничение по количеству развернутых пусковых установок противоракет и не более ста противоракет, которые могут находиться на старте, с целью предупреждения и отражения возможной атаки. Радиолокационные станции ПРО должны были формироваться в количестве не более шести в диаметральном расположении не более трех километров. Также государства были вправе установить две, но крупные РЛС ПРО с фазированной решеткой по аналогии по потенциалу с находившимися в боевом составе на дату подписания Договора, т. е. 26 мая 1972 года, и не более восемнадцати РЛС ПРО меньшей мощности.
Государства обязаны были остальные компоненты ПРО убрать с боевого дежурства, а также как минимум прекратить строительство, реконструкцию и разработку составных элементов ПРО. Государства были обязаны не развертывать и не создавать больше системы ПРО и его компоненты. Отдельно запрещалось испытывать и развертывать автоматические или полуавтоматические и их аналоги средств скоростного перезаряжания пусковых установок противоракет.
Договором был установлен запрет для США и СССР по выстраиванию противоракетной обороны государств с расположением РЛС за пределами территорий. Данное положение было закреплено с целью неповторения подобных Карибскому кризису 1962 года событий, когда в ответ на действия США по размещению своей системы ПРО в Турции с целью отражения возможного нападения стран Варшавского договора на США СССР разместил свои системы ПРО на территории Кубы. Данные события привели великие державы к «сползанию» к возможной Третьей мировой войне. Избежать ее получилось только благодаря политической воле, выдержке и благоразумию двух глав США и СССР – Дж. Кеннеди и Н. С. Хрущева, которые сначала провели телефоннотелеграфные переговоры, а затем и личную встречу, на которой пришли к разрешению кризиса. Было решено взаимно вывести системы ПРО великих держав с территории Турции и Кубы соответственно.
Государства также взяли на себя обязательство по непередаче своих технологий другим государствам. Все не отвечающие системы ПРО подлежали уничтожению. Каждая из Сторон обязалась не принимать никаких международных обязательств, которые противоречили бы данному Договору. Стороны должны были продолжать переговоры между собой по поводу ограничений стратегических наступательных вооружений.
Была установлена возможность контроля за исполнением данного соглашения между государствами. Каждое государство имело право вести контроль за соблюдением данного Договора. Не должно было быть препятствий для проведения контроля одного государства за другим в рамках соглашения, а также не должно было проводиться никаких мероприятий по маскировке ПРО с целью укрытия возможных нарушений договора.
Но исполнению практически всех конвенций и соглашений, по нашему мнению, мешают разногласия государств о системах контроля за исполнением соглашений. Нередко одни государства заранее отказываются пускать международных наблюдателей на свои объекты, аргументируя это тем, что присутствие международных наблюдателей угрожает или ставит под сомнение суверенитет государства.
Было решено создать для содействия исполнению договора Постоянную консультационную комиссию государств, в круг обязанностей которой было решено включить вопросы, в том числе:
-
а) касающиеся выполнения принятых обязательств, а также связанные с этим ситуации, которые могут считаться неясными;
-
б) предоставлять на добровольной основе информацию, которую каждое из двух государств считает необходимой для обеспечения уверенности в выполнении принятых обязательств;
-
в) согласовывать процедуры и сроки уничтожения или демонтажа систем ПРО или их компонентов в случаях, предусматриваемых положениями Договора, и другие вопросы.
Таким образом, договор можно было бы считать практически идеальным за всю историю дипломатии, если бы не несколько моментов с «двойными стандартами», которые были минимизированы государствами в Протоколе и временном соглашении к рассматриваемому Договору 1972 года, в частности положение о том, что:
-
– Советский Союз не будет развертывать систему ПРО или ее компоненты в районе размещения шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет (МБР), как это разрешено пп. «б» ст. 3 Договора, а Соединенные Штаты Америки не будут развертывать систему ПРО или ее компоненты в районе с центром, находящимся в их столице, как это разрешено пп. «а» ст. 3 Договора;
-
– Советский Союз имеет право демонтировать или уничтожить систему ПРО и ее компоненты в районе с центром, находящимся в его столице, и развернуть систему ПРО или ее компоненты в районе расположения шахтных пусковых установок Межконтинентальных баллистических ракет (далее-МБР), как это разрешается пп. «б» ст. 3 Договора, а Соединенные Штаты Америки имеют право демонтировать или уничтожить систему ПРО и ее компоненты в районе расположения шахтных пусковых установок МБР и развернуть систему ПРО или ее компоненты в районе с центром, находящимся в их столице, как это разрешается пп. «а» ст. 3 Договора.
Помимо протокола СССР и США заключили временное соглашение сроком на пять лет1, которым предусматривалась обязанность сторон также не переоборудовать пусковые установки легких МБР наземного базирования и его старых видов. Тем же временным соглашением предусматривалась возможность модернизации и замены стратегических наступательных баллистических ракет и пусковых установок к ним, на которые распространялось действие основного договора.
Несмотря на наличие порой неудобных, в том числе для СССР, положений Договора и его Протокола, СССР, а затем и Российская Федерация были готовы исполнять данный Договор.
Хотя, как и в других соглашениях, в Договоре 1972 года об ограничении систем ПРО, несмотря на наличие указаний минимальных требований к количеству ПРО, которые разрешалось странам оставить на боевом дежурстве, даже на нормативном уровне отсутствовало закрепление меры конкретной ответственности для государств и их должностных физических лиц, а также отсутствовало описание действий, направленных на разрешение межгосударственного конфликта по реализации данного соглашения в судебных органах. Наличие возможности обращения в том числе в международные суды отвечало бы, по нашему мнению, мирному урегулированию споров как одному из способов мирного решения споров, особенно учитывая откровенное неисполнение решений, изложенных в рассматриваемом международном договоре.
Однако США фактически так и не выполняли положений данного договора, а также договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 1993 года и 13 июня 2002 года вышли из данного соглашения. В связи с выходом США из двух означенных Договоров в рамках «зеркальных мер», не видя возможности дальнейшего их исполнения ввиду отсутствия цели и предмета соглашений, из них вышла и Российская Федерация в 2002 году, выпустив по этому поводу соответствующее Заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации2.
Хотя была возможность внесения изменений, как и в любой международный договор, однако действия США свели на нет все усилия по составлению, подписанию целого ряда соглашений, не только касающихся ядерного сдерживания. Такие односторонние действия, безусловно, негативно влияют на судьбу человечества.
Еще одним ключевым мероприятием международного характера, целью которого было поддержать всеобщий мир на Земле, было Хельсинское совещание 1975 года. На нем был принят практически всеми государствами мира так называемый «Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе»3. Данный документ указывал на то, что государства должны в своей деятельности руководствоваться строго Уставом ООН, был установлен приоритет Устава ООН над другими международными соглашениями и актами. Акт предусматривал взаимное уважение государствами мира независимости, территориальной целостности и суверенитета, а также обязательство государств решать свои споры исключительно мирными путями, в том числе с помощью арбитража.
Кроме вопросов глобального характера Актом предусматривалось, что государства должны уважать права человека, провозглашенные Всеобщей декларацией 1948 года, и, несмотря на свои правовые и идеологические различия, способствовать воссоединению семей, находящихся в разных государствах. Подобного положения более нигде не было прописано на международном уровне. Государства взаимно признавали границы, в том числе сложившиеся по итогам Второй мировой войны. Государства должны были сотрудничать друг с другом, в том числе посредством направления специалистов из одной страны в другую для налаживания разного рода сотрудничества. Акт исключал возможность военного решения любых споров.
Хельсинкские соглашения регулировали как публичные, так и частно-публичные и частные отношения. Регулирование отдельных вопросов впервые было нормативно закреплено практически всеми государствами. Однако опять-таки подписание практически всеми государствами данного, безусловно, важнейшего Акта не гарантировало миру отсутствие военных способов решения конфликтов. Подтверждением тому служат Боснийский кризис 1992 года и бомбардировки Белграда и в целом Югославии в 1999 году, приведшие к началу, по сути, гражданской войны на территории бывшей Югославии. Каждая из указанных операций ознаменована фактическим вмешательством во внутренние дела одного государства другим известным государством, которое фактически стало депозитарием ООН. Хотя всяческое вмешательство во внутренние дела государств со стороны других государств прямо запрещено Хельсинкскими соглашениями 1975 года, действующими и в данный момент времени. Опять мы видим расхождение положений международного права с практикой их реализации.
В 1979 году США и СССР подписали договор, дополняющий, по сути, Договор 1972 года об ограничении стратегических наступательных вооружений. Срок действия договора 1979 года истекал в 1985 году. Договор 1979 года устанавливал количественные и качественные характеристики стратегического наступательного вооружения, которое подлежало ограничению либо уничтожению. По договору СССР и США должны были уничтожить пусковые установки МБР, пусковые установки БРПЛ, тяжелые бомбардировщики, а также БРВЗ суммарным количеством, не превышающим 2 400 единиц. Суммарное количество боеприпасов должно было быть не больше 2 250 единиц. В процессе модернизации и замены шахт пусковых установок МБР не должно было увеличиваться их количество больше чем на 32 %. Стороны были обязаны не проводить испытаний МБР, БРПЛ, БРВЗ. Был установлен числовой ограничитель для развертывания на тяжелых бомбардировщиках для нанесения ударов крылатыми ракетами дальностью свыше 600 км производственной мощностью 28. Также Договором 1979 года было установлено ограничение по установке пусковых установок для МБР и БРПЛ, оснащенных индивидуальной системой наведения; количество тяжелых бомбардировщиков не должно превышать 1 320 единиц; ограничить количество установок для ММБР и БРПЛ с системой самонаведения в количестве не более 1 200 единиц; ограничить количество пусковых установок для самонаводящиеся МБР в суммарном количестве не более 820 единиц. Все перечисленные виды вооружений сверх меры подлежали уничтожению.
Среди недостатков данного договора можно отметить возможность развертывания пусковых установок МБР и БРПЛ, а также пусковых установок для космических летательных аппаратов. Пункт о возможности размещения пусковых установок баллистических ракет в космос свидетельствует как минимум об одностороннем желании милитаризировать космическое пространство. А ведь возможности милитаризации космического пространства нельзя допустить ни в коем случае. В таком случае какое-либо государство сможет без особых усилий из космоса угрожать любому объекту земного шара. Стороны обязались не проводить летных испытаний крылатых ракет с дальностью больше 600 км или БРВЗ с летательным аппаратом, не являвшимся бомбардировщиком. Под такое далеко идущее определение, как не являющиеся бомбардировщиком, можно отнести даже современные беспилотные летательные аппараты. Таким образом, государства осознавали уровень и скорость развития военно-технологических разработок.
Одновременно СССР и США обязались не создавать, не развертывать и не использовать:
-
– баллистические ракеты с дальностью свыше 600 км для установки на плавучих средствах, не являющихся подводными лодками, а также пусковые установки таких ракет;
-
– средства для вывода на околоземную орбиту ядерного оружия или любых других видов оружия массового уничтожения, включая частично орбитальные ракеты и другие виды оружия массового поражения.
Договором 1979 года были установлены даже сроки ликвидации превышающего количества каждого отдельного вида вооружения, входящего в состав оружия массового поражения.
Так, в частности:
-
– четыре месяца для пусковых установок МБР;
-
– шесть месяцев для пусковых установок БРПЛ;
-
– три месяца для тяжелых бомбардировщиков и т. д.
Более четко было прописано положение о том, что государства должны не обходить ограничений, прописанных договором, через иностранные государства или каким-либо иным образом. Скорее всего, имелась в виду в том числе возможность закупки запрещенного и ограниченного в качестве видов вооружений через его импорт.
На смену Договорам 1972 и 1979 годов по ограничению стратегических видов наступательных вооружений пришли еще ряд международных соглашений между США и СССР 1 (с 1991 года Российской Федерации) 2 . Однако реализации каждого из них объективно мешали недружественные действия США, которые то отказывались ратифицировать такие соглашения, то оттягивали всячески их исполнение, то объявляли о своем одностороннем выходе из них.
Российской Федерацией последовательно были подписаны ряд двусторонних соглашений с Соединенными Штатами Америки относительно сокращения стратегических вооружений 1 . Так, ныне приостановленный Российской Федерацией 2 Договор о сокращении стратегических видов наступательного вооружения 2010 года3 уже предусматривал ограничение до:
-
а) 700 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых тяжелых бомбардировщиков;
-
б) 1 550 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками;
-
в) 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков.
Но отрицательной стороной Договора 2010 года считаем возможность для подписавших государств самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений. Данное положение, считаем, обнуляет всю суть данного и подобных соглашений. Определяя самостоятельно структуру вооружений, государства смогут в том числе скрывать подпадающие под действие договора виды вооружения или оспаривать их реальные тактико-технические характеристики.
В качестве предложения считаем возможным предусмотреть запрет для государств по выходу их из договоров об уничтожении и ограничении стратегических видов наступательных вооружений, вплоть до ядерного. А государства, обладающие наибольшим или излишним количеством видов стратегических вооружений, принудительно обязать заключать подобные соглашения. Возможность выхода из них должна присутствовать, по нашему мнению, только при наличии сведений о неисполнении соглашений одной из заключивших его сторон, и только при условии, если порядок исполнения подобных соглашений после поступления сведений о его неисполнении одной из сторон был рассмотрен на заседаниях СБ или ГА ООН. Также считаем необходимым исключать еще на стадии проекта международных договоров по вопросам ограничения или уничтожения стратегических видов вооружений наличие норм, могущих поставить под сомнение возможность выполнения таких межгосударственных договоров.
В то же время считаем возможным более активно использовать механизм внесения необходимых согласованных изменений. Подписание отдельных, но порой дублирующих норм конвенций, деклараций и договоров, по нашему мнению, негативно влияет на их юридическое толкование и последующую правоприменительную практику.
Нельзя не отметить и положительные случаи выполнения заключенных договоров в сфере ограничения или уничтожения оружия массового поражения. Ведь получилось, например, у Российской Федерации выполнить свои обязательства 1 [9] в рамках Конвенции 1993 года, предусматривавшей обязанность государств по уничтожению химического оружия2.
Но не все государства выполняют свои обязательства. В частности, США, которые обещали ликвидировать свои запасы к 2023 году, до сих пор не уничтожили свои запасы химического оружия. А ведь еще действует и международная конвенция о необходимости запрета разработки и хранения биологического оружия государствами3. Но исполнению ее, как и практически всех подобных конвенций и соглашений, по нашему мнению, мешают разногласия государств в вопросах системы контроля за исполнением соглашений.
Нередко одни государства заранее отказываются пускать международных наблюдателей на свои объекты, аргументируя это тем, что присутствие международных наблюдателей угрожает или ставит под сомнение суверенитет государства, а некоторые требуют неравномерного присутствия международных наблюдателей в одних государствах, в отличие от других. Подобная позиция государств в лице их руководителей делает невозможным заключение необходимых международных актов, призванных регулировать вопросы, в том числе касающиеся сохранения и поддержания всеобщего мира на планете, путем необходимости взаимного ограничения количества оружия массового поражения, имеющегося у государств, особенно у мировых держав.
К тому же подобное поведение государств может, по нашему мнению, затормозить процесс хотя бы правового закрепления ограничений не только на уже имеющиеся виды оружия массового поражения, но и на те, которые могут появиться в будущем. Особенно если учесть скорость военно-технического развития, в том числе инженерной науки, и уровень военно-технологического потенциала как минимум ведущих держав мира.
Считаем, что наши предложения усилят меры ответственности для государств по сохранению всеобщего мира, в том числе для мировых держав как государств – создателей ООН, несущих особую ответственность за сохранение мира. Считаем, безусловно, лучшим фактором выполнения любого соглашения явное желание государства, и в первую очередь руководства, выполнять соглашения, заключенные в рамках международного права. Нормы конвенций, деклараций и договоров могут быть прекрасно изложены, но акты могут не исполняться вследствие их банального игнорирования руководством стран.
СПИСОК ИС ТОЧНИКОВ
-
1. Авдеева, О. А., Авдеев, В. А. Правовая политика Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности мира и человечества // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2023. № 1 (104). С. 102–112.
-
2. Смирнов, К. В. Уголовно-правовая характеристика планирования, подготовки, развязывания или ведения агрессивной войны // Современность в творчестве начинающего исследователя : мат-лы науч.-практ. конф. молодых ученых (Иркутск, 24 марта 2023 года). Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России, 2023. С. 200–204.
-
3. Смирнов, К. В. Роль юридической науки в условиях новых угроз и обеспечения безопасности // Государство и право: эволюция, современное состояние, перспективы развития (к 25-летию Санкт-Петербургского университета МВД России) : мат-лы XX междунар. науч.-теорет. конф. (Санкт-Петербург, 27–28 апреля 2023 года) : в 2 ч. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет МВД России, 2023. С. 423–427.
-
4. Смирнов, К. В. Международно-правовые основы противодействия преступлениям против мира и безопасности человечества // Закон и право. 2023. № 1. С. 220–223.
-
5. Смирнов, К. В. Теоретико-правовой анализ проблем противодействия геноциду // Закон и право. 2023. № 12. С. 267–270.
-
6. Смирнов, К. В. Защита интересов Российской Федерации в иностранных и международных судах // Закон и право. 2023. № 3. С. 237–240.
-
7. Смирнов, К. В. Великая Отечественная война: современные интерпритации победы над фашизмом // XXIV Всерос. студ. науч.-практ. конф. Нижневартовского гос. унта (Нижневартовск, 5–6 апреля 2022 года). Нижневартовск : Нижневартовский гос. ун-т, 2022. Ч. 5. С. 316–322.
-
8. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник для бакалавров / В. А. Авдеев, И. А. Клепицкий, Л. В. Иногамова-Хегай и др.; изд. 2-е, перераб. и доп. М. : Общество с ограниченной ответственностью "Проспект", 2016. 624 с. ISBN 978-5-39221098-5.
-
9. Борисов, А. В. Нюрнбергский процесс : сборник документов (приложения). М., 2019. 1424 с.
Список литературы Международные правовые основы обеспечения мира и безопасности человечества
- Авдеева, О. А., Авдеев, В. А. Правовая политика Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности мира и человечества // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2023. № 1 (104). С. 102-112. EDN: ENTIJF
- Смирнов, К. В. Уголовно-правовая характеристика планирования, подготовки, развязывания или ведения агрессивной войны // Современность в творчестве начинающего исследователя: мат-лы науч.-практ. конф. молодых ученых (Иркутск, 24 марта 2023 года). Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2023. С. 200-204. EDN: EMXCEO
- Смирнов, К. В. Роль юридической науки в условиях новых угроз и обеспечения безопасности // Государство и право: эволюция, современное состояние, перспективы развития (к 25-летию Санкт-Петербургского университета МВД России): мат-лы XX междунар. науч.-теорет. конф. (Санкт-Петербург, 27-28 апреля 2023 года): в 2 ч. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2023. С. 423-427. EDN: QURHVA
- Смирнов, К. В. Международно-правовые основы противодействия преступлениям против мира и безопасности человечества // Закон и право. 2023. № 1. С. 220-223. EDN: ZSJMHJ
- Смирнов, К. В. Теоретико-правовой анализ проблем противодействия геноциду // Закон и право. 2023. № 12. С. 267-270. EDN: MQLCWU
- Смирнов, К. В. Защита интересов Российской Федерации в иностранных и международных судах // Закон и право. 2023. № 3. С. 237-240. EDN: DTCYEJ
- Смирнов, К. В. Великая Отечественная война: современные интерпритации победы над фашизмом // XXIV Всерос. студ. науч.-практ. конф. Нижневартовского гос. ун-та (Нижневартовск, 5-6 апреля 2022 года). Нижневартовск: Нижневартовский гос. ун-т, 2022. Ч. 5. С. 316-322. EDN: UHJOZH
- Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для бакалавров / В. А. Авдеев, И. А. Клепицкий, Л. В. Иногамова-Хегай и др.; изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Общество с ограниченной ответственностью "Проспект", 2016. 624 с. ISBN: 978-5-392-21098-5 EDN: USTXQU
- Борисов, А. В. Нюрнбергский процесс: сборник документов (приложения). М., 2019. 1424 с.