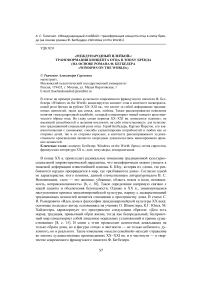"Международный плейбой": трансформация концепта отца в эпоху бренда (на основе романа Ф. Бегбедера "Windows on the world")
Автор: Ткаченко Александра Сергеевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Концепты в литературе
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье на примере романа культового современного французского писателя Ф. Бегбедера «Windows on the World» анализируется концепт отца в контексте всевозрастающей роли бренда на рубеже ХХ-XXI вв., что влечет за собой деформацию традиционных ценностей, таких как семья, дом, любовь. Также рассматривается появление понятия «международный плейбой», который олицетворяет новый концепт архетипического образа отца. Во главу семьи периода ХХ-XXI вв. возводится гедонист, не имеющий способностей и желания возложить на себя ответственность для исполнения традиционной социальной роли отца. Герой Бегбедера, Картью Йорстон, его взаимоотношения с сыновьями, способы удовлетворения потребностей в любви как со стороны детей, так и со стороны взрослых, в контексте рассматриваемого художественного произведения являются очередным доказательством нивелирования прежних ценностей.
Концепт, бегбедер, бренд, мотив сиротства, французская литература хх в, дом, симулякры, десакрализация
Короткий адрес: https://sciup.org/148316600
IDR: 148316600 | УДК: 82.0
Текст научной статьи "Международный плейбой": трансформация концепта отца в эпоху бренда (на основе романа Ф. Бегбедера "Windows on the world")
В конце ХХ в. происходит радикальное изменение традиционной культурносоциальной мировоззренческой парадигмы, что метафорически можно увидеть в знаковой деформации известнейшей идиомы Б. Шоу, которая из «дома, где разбиваются сердца» превращается в мир, где «разбиваются дома». Согласно одной из характеристик этого понятия, данной отечественным литературоведом В. С. Непомнящим, «дом — это жилище, убежище, область покоя и воли, независимость, неприкосновенность» [6, с. 30]. Такое определение напрямую связано с идеей защиты и обеспечения безопасности. Однако в ХХ в., знаменующемся наступлением кризиса западноевропейской культуры, наряду с десакрализацией традиционных ценностей меняется отношение к пространству дома. В статье С. Н. Рымаровича «Идея дома в философии западноевропейской культуры ХХ века: основные подходы» автор, основываясь на учениях О. Шпенглера, К.Г. Юнга, М. Хайдеггера, характеризует это пространство следующим образом: «Дом есть норма, традиция, привычный образ жизни, тогда как беспредельный, бесприютный мир олицетворяет собой лишенное моральных установлений и границ существование» [8, с. 15]. В связи с этим происходит ценностная девальвация не только образа дома, но и фигуры «отца» в частности — не только небесного, духовного, но и реального. Такое изменение «мысли семейной» находит отражение во многих художественных произведениях XX–XXI вв. и в частности — в творчестве современного французского писателя Ф. Бегбедера.
В одном из своих романов, «Windows on the World», Ф. Бегбедер создает автобиографический образ героя-нарратора, Картью Йорстона. Он представляет собой универсального героя, воспитанного по законам общества потребления, где удовлетворение любой потребности достигается с помощью различных симулякров: «…он (человек) больше не хозяин построенного им мира, наоборот, этот мир, созданный человеком, превратился в хозяина, перед которым человек склоняется» [9, с. 15]. В контексте романа отсутствие у Йорстона отца и воспоминаний о детстве в целом становится главным препятствием для удовлетворения страстной потребности героя в любви, которая реализуется посредством двух антиномичных явлений — это магазины игрушек и бары. В любви нуждаются не только Картью, но и его дети, Джерри и Дэвид.
Пора «бездомности» отражается в исповеди Картью Йорстона: «Тысячелетиями все было иначе. В доме был папа, была мама и были их дети. Всего сорок лет назад мы решили убрать из дома отца и теперь хотим, чтобы все шло как прежде? Чтобы все шло как прежде, нужны тысячелетия. Я — результат этого исчезновения отца» [3, с. 198]. Утрата отца объясняется в романе возникновением концепта «международный плейбой» [3, с. 202], появившегося благодаря основателю одноименного бренд-журнала — Хью Хефнеру. Плейбой мыслился как человек, предоставленный себе и своим удовольствиям: «Свобода уничтожила брак и семью, супружество и детей» [3, с. 204]. Однако, несмотря на такое необремененное существование, в погоне за удовлетворением своих нереализованных желаний «международный плейбой» «никого не любит, особенно самого себя, потому что отрицает страдание и боится потерять лицо» [3, с. 205]. Страдание и страх он старается нивелировать путем нескончаемых вечеринок, легкодоступных женщин и полной неограниченности своих действий.
Будучи отвергнутым своим отцом, «плейбой» не обладает способностью любить. Подобно ребенку, он требует беспрекословной любви. Соответственно такому мировосприятию, Картью Йорстон не находит в себе способностей к достойному воспитанию своих детей: «Наши дети плохо воспитаны, потому что не воспитаны вовсе. Да и воспитывали их не мы, а мультяшные сериалы. Спасибо “Дисней-каналу”, всепланетной няньке!» [3, с. 39]. Вместо родителей у детей конца ХХ в, есть бренды, на которые возложена ответственность за воспитание — Disney и огромные магазины игрушек (упоминаемые в романах «Сворс» и «Тойз-Ар-Ас»), посредством которых отец и мать, будучи «травмированными детьми травмируют своих детей» [3, с. 171], как бы искупают вину перед детьми. В попытках восполнить недостаток любви, реализовать потребность в любви и признании ребенок находит для себя новую форму проявления этого чувства — игрушки.
Как отмечает В. Е. Яровая в статье «Представления детей дошкольного возраста о магазине: от организации пространства к распределению ролей», «ребенок расценивает поход в подобный магазин как мероприятие, объединяющее семью» [10, с. 3], призванное для актуализации «мысли семейной», возникшей в контексте эпохи. По мнению соавторов работы «Потреблятство. Болезнь, угрожающая миру» Дж. Граафа, Д. Ванна, Т. Нэйлора, «дети так же, как и взрослые, рассматривают торговые центры как место, естественным образом предназначенное для того, чтобы чем-то заполнить скучную жизнь» [ 4, с. 213]. В романе
«Windows on the World» герой сожалеет, что предпочел потребности своих детей в любви (воплощающуюся в игрушках и соответствующих магазинах) удовлетворить потребность физиологическую, пригласив мальчиков на завтрак в ресторан. «Такая тенденция манипулирования детским сознанием напрямую влияет на индустрию торговли, вынуждая взрослых приобретать понравившиеся их детям товары», — утверждает В. Е. Яровая [10, с. 2].
В момент трагедии Джерри и Дэвид сами будто становятся игрушками, задействованными в большой игре: «Я возвращаюсь к детям, подышать свежим воздухом. Восседая на плечах Лурдес, громко читающей молитвы, они повторяют за ней слова. В свое время на зданиях для защиты устанавливали горгульи, как на Крайслер-билдинге. Эти скульптуры, изображавшие драконов, чудовищ, демонов, как на башнях Нотр-Дам, должны были отпугивать чертей и захватчиков. Дети мои, две маленькие светленькие горгульи, висящие над бездной; хватит ли им сил отогнать злых духов?» [ 3, с. 213].
Для готической архитектурной традиции было характерно изображение каменной скульптуры в виде химер (горгулий). При полной статичности башни наблюдается «нарастание миметических тенденций» [ 5, с. 126], которые осуществляются при наделении несуществующих, но предполагающихся архитектурных сооружениях характеристиками живых существ. То есть в данном случае дети Йорстона олицетворяют это динамическое начало, призывая к жизни и башни-близнецы. Упоминание фигуры горгульи обращает также к библейской символике, сигнализирующей пробуждением каменных чудовищ о приближении Демона, великого Зверя Апокалипсиса — самолета. Таким образом, будущее, которое должно защитить и сберечь, погибает в настоящем. Отсутствие опоры в прошлом (в связи с тем, что Картью не помнит своего прошлого: «У меня проблема: я не помню детства» [ 3, с. 201]) и веры в будущее объясняется в романе отсутствием стремления у героя в продолжении рода: «Я думал, что делать детей — лучший способ победить смерть. Ничего подобного. Можно умереть вместе с ними, и тогда никого из нас как будто и не было на свете» [ 3, с. 196]. Джерри и Дэвид как олицетворение будущего «отравлены» эпохой: они получают все, чего пожелают. Смерть их будто сопряжена с вопросом о том, нужно ли будущее, центральными фигурами которого становятся избалованные дети-потребители.
Ф. Бегбедер дает ответ на этот вопрос посредством еще одной метафоры. Он вновь обращается к образу Ваала, Повелителя мух, но теперь он не соотносит это божество с конкретным персонажем, а наделяет его свойствами универсума в целом. «В Карфагене ему (Ваалу) пытались приносить жертвы, сжигая детей, но в этом не было смысла, потому что он не делает скидок и сжигает всех подряд» [ 7, с. 154] — эта догма, выраженная в романе отечественного писателя В. Пелевина, коррелирует с тем, что дети Картью Йорстона становятся частью подобного ритуала сожжения, где описываемая Ф. Бегбедером Америка является новой версией Карфагена. Однако вслед за ними такой же участи подвергаются все остальные герои. Дети, ставшие олицетворением эпохи потребительства, уносят за собой праотцов, сформировавших такую зыбкую и разрушительную основу для будущего.
Наряду с тем, как Картью Йорстон старается компенсировать недостаток любви и внимания по отношению к своим детям посредством удовлетворения их желаний (новой игрушки, вкусной еды, одежды с модным принтом), сам герой, страдающий от «бездомности» и «безотцовства», находит заполнение этой лакуны в пространстве баров. Будучи убежденными в том, что его жизнь — это «вечеринка, на которую никто не пригласил» [3, с. 165], где его никто не ждал, Кар-тью создает свою вечеринку, где он занимает центральное положение. Бар становится симулякром утраченного дома, где человек, хоть и не чувствует себя защищенным на внутреннем плане, но на внешнем, сливаясь с социумом, обретает временный покой. Кроме того, пространство бара располагает к открытости человека миру посредством различных вспомогательных средств, организующих изменения на метафизическом уровне. Поддавшись их воздействию, человек чувствует себя раскрепощенным, свободным и, что самое главное, — способным любить и быть принятым. Герои романов, подобно блудным сыновьям, ищут дорогу домой, но постоянно оказываются на той, что травестируется в так называемую «кокаиновую дорожку».
В романах «99 франков» и «Windows on the World» Ф. Бегбедер обращается к некоторым названиям баров, олицетворяющих квинтэссенцию похоти, разврата, вседозволенности: «The Greatest Bar on Earth» («Лучший бар на свете»), Red Light» («Красный свет»), «Naked Lunch» («Голый завтрак»), «Бальтазар». Семантика перечисленных наименований брендов имеет негативную коннотацию и подразумевает развитие апокалептического начала. Бары будто призваны для вечного напоминания о греховной сущности человека, но никто слышит и не замечает этого за громкой музыкой, управляемой ди-джеем.
Примечательно, что пространство упоминаемых баров расположено в небоскребах, среди которых башни-близнецы и подобная им французская башня Монпарнас: «Ночью башня напоминает мне монолит из “Космической одиссеи — 2011”: черный вертикальный прямоугольник, якобы символизирующий вечность. Вчера вечером я сводил мою невесту в ночной бар в подвале башни. В свое время тамошняя дискотека называлась “Ад”, но недавно они переименовали ее в “Красный свет”, Red Light» [3, с. 48]. Черный вертикальный прямоугольник, который мог бы служить осью мира XXI в., больше напоминает образ гроба, предназначенного для захоронения эпохи, растрачивающей свою жизнь на удовлетворение любого желания. Красный цвет, наряду с черным гробом-башней, сигнализирует об опасности и разрушительной силе человеческих страстей и возвращает к теме Апокалипсиса. То же происходит и в американской Северной башне: «В то время «Windows on the World» после полуночи превращался в логово всяких негодяев, причем название у него было действительно наглое: “The Greatest Bar on Earth” (“Лучший бар на свете”) [3, с. 117]. При наступлении определенного времени люди как будто снимают с себя маски, демонстрируя настоящую природу своих внутренних проявлений.
Ф. Бегбедер создает образ Ада на земле, Ада, о котором не должен забывать человек. Он должен помнить, что это гораздо ближе и ощутимее, чем может показаться. Вместе с этим актуализируется и традиционный образ Вальпургиевой ночи, когда «по окончании трапезы начинается бешеная пляска, под звуки необыкновенной музыки» [1, с. 164]. В романе Ф. Бегбедер именует это явление
«наступлением всеобщей дискотекизации мира» [2, с. 164]. Пространство бара, символизирующего ад, приобретает таким образом более значительные масштабы. Спускаясь в подвал башни за тем, чтобы «вырваться за пределы верности, брака, изобрести способы любить иначе, не жертвуя своим желанием» [2, с. 265], человек нивелирует собственное превосходство, которое он сам же и позиционирует, провозглашая себя «центром мироздания».
Утратив веру в Отца, лишившись отца и, как следствие, семьи и опоры, герои Ф. Бегбедера, Картью Йорстон и Октав Парнго, жаждущие удовлетворить потребность в любви, сами не имея способности подарить кому-то любовь, бросаются на поиски того, что смогло бы восполнить это чувство в их душе. Однако вновь они выбирают лживые, лишенные истины способы, бездумно отдаваясь миру брендов, воплотившихся в игрушечных и игровых знаках и символах, в пространствах баров и клубов. В надежде найти толику любви там, герои обрекают себя, подобно Агасферу, на вечные скитания и поиски. Утратив прочную опору в виде семьи, герои Бегбедера не могут выстроить гармоничные отношения и со своими детьми: Октав отказывается от ребенка, когда узнает о нем от своей подруги Софи, Картью уходит из семьи, где оставляет двоих сыновей, лишь изредка встречаясь с ними на нейтральной территории. Для Картью и Октава бегство от любви заканчивается в пределах бара — здесь им не надо ни с кем делиться любовью, они платят за то, чтобы ее получить: «Продажные девки обходятся тебе дорого, но ты платишь, чтобы сэкономить самого себя. Ты слишком изнежен, чтобы еще раз влюбиться <…> Теперь для тебя самое романтичное приключение — это визит к блядям. Лишь тонко организованные существа испытывают потребность платить за любовь, дабы избежать риска страдать от любви» [2, с. 102]; для их детей (в частности, для Джерри и Дэвида) пространство любви воплощено в магазине игрушек, в виртуальных играх и образах, которые свидетельствуют о беспрекословной любви к своему обладателю.
ХХ век, знаменующийся разрушением прежних морально-нравственных ценностей, способствует формированию нового типа человека, концепта «международного плейбоя», который представляет собой лабильного гедониста, стремящегося к удовлетворению эгоистических желаний и потребностей и совершенно не способного искренне обеспечить другого тем, в чем нуждается сам.
Список литературы "Международный плейбой": трансформация концепта отца в эпоху бренда (на основе романа Ф. Бегбедера "Windows on the world")
- Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: в 3 т. Москва: Индрик, 1994. Т. 1. 840 с.
- Бегбедер Ф. 99 франков. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. 288 с.
- Бегбедер Ф. Windows on the World. Москва: Иностранка, 2005. 430 с.
- Ванн Д., Нэйлор Т. Х., Де Грааф Дж. Потреблятство. Болезнь, угрожающая миру. Екатеринбург: Ультра. Культура, 2005. 375 с.
- Кузнецова А. И. Пространственные мифологемы в творчестве У. Голдинга: дис.. канд. филол. наук. Москва, 2004. 232 с.
- Непомнящий В. С. Поэзия и судьба. М.: Советский писатель, 1987. 446 с.
- Пелевин В. Generation П. Москва: АСТ, 2017. 352 с.
- Рымарович С. Н. Идея дома в философии культуры XX века: основные подходы // Учен. зап. Электронный научный журнал Курск. Гос. ун-та. 2013. № 2 (26). С. 144-153 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_19084866_23913857.pdf (дата обращения: 08.10.2019).
- Фромм Э. Бегство от свободы. Москва: АСТ, 2017. 288 с.
- Яровая В. Е. Представления детей дошкольного возраста о магазине: от организации пространства к распределению ролей // Теория и практика общественного развития. 2018. № 11 [Электронный ресурс]. URL: http://teoria-practica.ru/rus/files/ arhiv_zhurnala/2018/11/sociology/yarovaya.pdf (дата обращения: 08.10.2019).