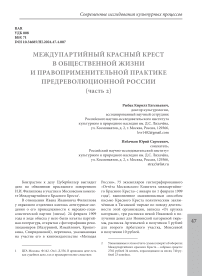Междупартийный красный крест в общественной жизни и правоприменительной практике предреволюционной России
Автор: Рыбак К.Е., Избачков Ю.С.
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Современные исследования культурных процессов
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
На примере представителей трех революционных партий показывается деятельность правоохранительной системы царской России в отношении Междупартийного Красного Креста, который оказывал разными способами помощь ссыльным и заключенным. Отмечается относительная эффективность работы полиции, излишняя бюрократизация, осложненная проявлениями коррупции в правоохранительной и судебной системе.
Короткий адрес: https://sciup.org/170207748
IDR: 170207748 | УДК: 008 | DOI: 10.34685/HI.2024.47.4.007
Текст научной статьи Междупартийный красный крест в общественной жизни и правоприменительной практике предреволюционной России
Контрастом к делу Цубербиллер выглядит дело по обвинению присяжного поверенного И.И. Филиппова в участии в Московском комитете Междупартийного Красного Креста1.
В отношении Ивана Ивановича Филиппова у охранного отделения имелись агентурные сведения о его принадлежности к народно-социалистической партии (энесы). 24 февраля 1909 года в ходе обыска у него были изъяты партийная литература, открытки с фотографиями революционеров (Мазуриной, Измайлович, Кропоткина, Спиридоновой), переписка, указывающая на участие его в книгоиздательстве «Молодая
Россия», 75 экземпляров гектографированного «Отчёта Московского Комитета межпартийного Красного Креста» с января по 1 февраля 1909 года2, выполненное машинописным способом письмо Красного Креста политическим заключённым в Таганской тюрьме по поводу деятельности этой организации, записка «От кружка каторжан», три расписки некой Ивановой в получении денег для Новинской каторжной тюрьмы, расписка Артемьевой в получении 5 рублей для второго Арбатского участка, Моисеевой в получении 10 рублей.
Допрошенный в качестве обвиняемого 5 августа 1909 г. Филиппов3 объяснил, что найденные у него отчёты и нелегальная литература не его, а оставлены в его отсутствие неизвестным ему лицом. Обнаружив их, он положил их в портфель, желая расследовать, кем именно они оставлены. Письмо заключённым, постановления и известия народно-социалистической партии он нашёл в дверном почтовом ящике, и положил в карман, желая в дальнейшем с ними ознакомиться. Насчёт расписок он не припомнил, откуда они у него появились. В отношении других бумаг он пояснил, что они касаются ведения дел его клиентов или его коллег.
Сравнение почерка не проводилось, обозначенные инициалами в письмах и заметках лица не были установлены, граждане, прямо указанные в записках, не были установлены и допрошены, даже несмотря на указание прокурора, отправившего дело на доследование.
То, что указанные печатные материалы были обнаружены в портфеле Филиппова на его письменном столе в его доме, а письмо Красного Креста политическим заключённым в Таганской тюрьме вместе с партийными постановлениями обнаружены в кармане его пиджака являлись вполне достаточными доказательствами для его осуждения за участие в заведомо неразрешённой организации.
Объяснения Филиппова, хоть и выглядят неубедительно, но были подтверждены его коллегами, которые на суде показали, что к нему часто приходили неизвестные лица, а его письмоводитель Жарова прямо показала, что в день обыска к нему приходил какой-то неизвестный человек, принёс сверток, положил на стол и ушёл, не назвав фамилии, именно этот свёрток и нашла полиция. Обвинительный акт был составлен 26 августа 1910 года.
В целом, доказательственная база очень похожа на дело Цубербиллеров, однако признательные показания Владимира Цубербиллера оказались более значимыми, чем оправдывающие присяжного поверенного показания его работницы.
Дело рассматривалось без участия присяжных заседателей, что в данном случае могло сыграть существенную роль. В делах Московской Судебной Палаты (вышестоящая судебная ин- станция по отношению к Московскому Окружному Суду) есть хорошо сохранившаяся сводная отчётность по рассматриваемым делам. Например, в прокурорской переписке с Вологодским Окружным Судом находим статистику оправдания подсудимых: в суде присяжных — 40,6 % приговоров, без участия присяжных заседателей — 19,2 % приговоров4.
Если же брать конкретные уголовные дела, рассмотренные Московским Окружным Судом с участием присяжных заседателей, то нередко встречаются случаи, когда присяжные оправдывали даже лиц, задержанных с поличным на месте преступления, которые потом придумывали версии событий, ещё менее правдоподобные, чем версия Филиппова5.
Можно отметить, что судебные следователи не вдавались в выяснение связей обвиняемого в революционной среде6, а ограничились формальными следственными действиями, достаточными для осуждения исходя из существовавших в то время стандартов доказывания. Прокурор, хоть и отправил один раз дело на доследование, но приложил минимум усилий для ведения дела. Судьи сочли минимальную доказательную базу достаточной для осуждения. По приговору Московского Окружного Суда от 12 апреля 1912 года Филиппова оштрафовали на 100 рублей. При этом производство по делу заняло более трёх лет.
Оценивая эффективность работы системы в целом, следует учитывать агентурную и аналитическую работу корпуса жандармов, сведения о которой применительно к этому делу, к сожалению, не сохранились. Однако можно предположить, исходя из понимания методов их работы, что наружное наблюдение велось за несколько недель до и после обыска. Кроме того, нужно принимать во внимание затраты на направление многочисленных письменных запросов по местам жительства установленных контактов подозреваемых лиц.
В деле Филиппова видим много усилий, затраченных властями. При этом по характеру и количеству изъятых в ходе обыска материалов, профессии обвиняемого (присяжный поверенный), дающей дополнительные возможности для связи с арестованными революционерами, можем предположить, что он был значимым узлом партийной сети. Принятыми мерами этот узел не был эффективно нейтрализован. Штраф в сумме 100 рублей никак нельзя признать действенной мерой.
Третье дело касается ареста и административной высылки слушательницы М.В.Ж.К. (Московские Высшие Женские Курсы) дворянки Раисы Аполлинариевны Головачёвой7.
У нас нет прямых подтверждений её партийной принадлежности в феврале-марте 1912 года. Однако, судя по полицейской «Ведомости о лицах, задержанных и доставленных в отделение по охране общественной безопасности и порядка в гор. Москве с 19-ого по 25-е февраля 1912 г. включительно»8, она была членом РСДРП. Из этого документа узнаём, что Головачёва «обыскана по агентурным сведениям, указывающим на участие в группе, имеющей целью помощь политическим каторжанам и ссыльным, и арестована по результатам обыска, подтвердившего изложенные выше сведения. Содержится в порядке охраны».
Часть изъятых в ходе обыска у Головачёвой материалов косвенно подтверждает её приверженность идеологии РСДРП.
Необходимо отметить наличие в ГА РФ большого количества дел, касающихся ареста Головачёвой, включая сохранившиеся вещественные доказательства, которые оказались весьма важными в контексте поставленной нами задачи разобраться в эффективности деятельности правоохранительной системы тех лет9.
Итак, 21 февраля 1912 года Головачёва была обыскана и арестована, поскольку подтвердились агентурные сведения полиции о причастности её к революционной деятельности. Среди прочего у неё изъяли бланки почтовых переводов ссыльным. Причём у части переводов были вырезаны или тщательно замараны адресаты. Полиция справилась на почтамте о возможности идентифицировать переводы по номерам квитанций, но там ответили, что корешки квитанций хранятся только один месяц, поэтому установить всех получателей переводов не представляется возможным.
Из сохранившихся нетронутыми квитанций установлено, что Головачёва направляла деньги Александре Прокофьевне Чефроновой (ссыльная в Великом Устюге, на допросе заявила, что Головачёву не знает, документов о связи при обыске в ссылке не обнаружено), Фёдору [Тимофеевичу] Маличу (эсер, ссыльный в Енисейской губернии, был обыскан в ссылке, его связь с Головачёвой не была доказана), Анне Петровне Товбин (ссыльная в Олонецкой губернии), Алексею Ивановичу Герцеву (ссыльный в Олонецкой губернии). Кроме этого жандармы обнаружили у Головачёвой квитанции ещё на 19 переводов с отрывочными данными людей, которых они не смогли установить.
Свидетельница Нина Смирнова показала полиции, что её знакомая курсистка Головачёва действительно помогает политическим ссыльным и каторжным из своих собственных средств, поскольку она зарабатывает уроками больше 100 рублей в месяц. Состоит ли Головачёва в группе лиц, оказывающих организованно помощь таким лицам, ей неизвестно.
В переписке, отобранной при обыске у Головачёвой, оказалось письмо студента Московского университета Николая Николаевича Бух-гольца10 на имя Раисы Головачёвой, в котором год). Д.10 ч. 61; Ф.102. Оп.209 (Д-7, 1912 год). Д.427; Ф.1167. Оп.2. Д.881, 882, 884; Ф.1167. Оп.3. Д.1448, 1449
сообщается о посылке 15 рублей в первую Тобольскую каторжную тюрьму.
Допрошенный по содержанию этого письма студент Николай Бухгольц объяснил, что «брат некой Былинской, которая была подругой Нины Александровны Смирновой, с которой свидетель состоит в гражданском браке, находится в ссылке или каторге и очень нуждается, причём его сестра, названная Былинская, обратилась с просьбой к Смирновой о помощи её брату....Головачёва находится в близких отношениях к студенту Аркадию Владимировичу Стойлову, причём последний … много зарабатывает уроками греческого языка». Бухгольц отметил, что Головачёва из милосердия помогает не только политическим, но и уголовным ссыльным11.
В основном, свидетели по её делу ограничивались туманными объяснениями об условиях жизни и деятельности Головачёвой. Показания свидетелей не были скоординированы по содержанию, однако жандармы никак не смогли использовать разницу в их показаниях.
Сама же Головачёва объяснила, что живёт на средства от уроков (приблизительно 150 рублей в месяц), учится на медицинском факультете М.В.Ж.К. Её жених, студент Аркадий Стойлов, также преподаёт иностранные языки частным лицам. Головачёва отрицала причастность к ка- ким-либо революционным сообществам и партиям, действующим против правительства, участия в группе лиц, поставивших себе целью оказывать организованно помощь ссыльным и каторжным, не принимала.
«Кому пересылались деньги по тем почтовым квитанциям, которые обнаружили у меня при обыске, я не знаю, т.к. они перечислялись не мною. Не знаю также, кем они посылались в виду того, что квитанции эти получены от неизвестного мне лица, которое я встретила на почте, и который обратился ко мне с просьбой о том, не могу ли я послать денежных средств лицам, которые были на квитанциях. Ответив этому лицу отказом, я всё же взяла эти квитанции, т.к. лицо это убедило меня посмотреть, как много денег посылается ссыльным, и обещал зайти ко мне за ними, но не зашёл до настоящего времени. Это было месяц или полтора тому назад. На вопрос, поставленный вами о том, каким образом встреча эта могла произойти месяц или полтора назад, если последняя квитанция от 6 сего февраля, отвечаю, что встреча эта могла быть и позднее, точно я не помню, когда именно. Лично я посылаю деньги из своих средств только четырём своим знакомым, на имя которых у меня заготовлены бланки переводов»12.
Ознакомление с личными делами Р.А. Головачёвой по месту учёбы в Повивальном институте при Московском Императорском Воспитательном Доме13 и на медицинском факультете М.В.Ж.К.14 позволило нам обнаружить множество прошений Головачёвой о рассрочке внесения платы за обучение, обосновываемых тяжёлым материальными положением, необходимостью ухаживать за больной сестрой, недостаточностью средств получаемых частных уроков. Этими же обстоятельствами Головачёва объясняла малое количество сдаваемых экзаменов. То есть мы видим, что аргумент об использовании собственных средств для помощи политическим заключённым выдуман.
Самым серьёзным изобличающим доказательством связи Головачёвой с деятельностью Междупартийного Красного Креста стала обна- руженная у неё записка, из которой следовало, что если столовая15 М.В.Ж.К. сдавалась для организации собраний студентов, то 10 % от платы подлежала передаче политическим заключённым. В этой записке упоминался Красный Крест.
Жандармы допрашивали знакомых Головачёвой, чтобы получить больше подтверждений о её причастности к деятельности этой организации. Однако свидетели отвечали уклончиво и никаких дополнительных сведений собрать не удалось.
Студент Московского университета Илио-дор Николаевич Покровский показал, что «под Красным Крестом, в который студенты постановили отчислять 10 % от суммы, получаемой по устройству собраний общества филологов для помощи голодающим и что фактически эти деньги посылаются не в Красный Крест, а в Самарскую губернию, записка эта была дана им Головачёвой, которая просила о сборе пожертвований для голодающих и в этом случае согласилась хлопотать о предоставлении для вышеуказанных собраний студентов помещений столовой слушательниц Московских Высших Женских Курсов». Далее он объяснил, «что по делу Головачёвой ему ничего не известно, что в данном случае под красным крестом, о котором идёт речь в его записке, ни в коем случае нельзя подразумевать межпартийного красного креста, так как о существовании такого ему положительно не известно».
По поводу записки Илиодора Покровского о 10 % отчислениях в пользу Красного Креста, Головачёва заявила, что «записка носит шуточный характер и под красным крестом надо разуметь помощь голодающим».
Несмотря на собранные доказательства в административной высылке Головачёвой полиции было отказано. Тем не менее, жандармы продолжали подозревать Головачёву в революционной деятельности, временами устанавливая за ней наружное наблюдение16. В постоянном наблюдении не было необходимости, учитывая активную деятельность Марии Мароши в деятельности их кружка.
Следует обратить внимание на связь между гражданской профессией Головачёвой (студентка медицинского факультета) и её революционной активностью (Междупартийный Красный Крест).
Исследуя архивные дела, мы также хотели найти свидетельства связи Раисы Головачёвой и Ольги Цубербиллер. Московские Высшие Женские Курсы — это их очевидная точка пересечения.
Анализируя дошедший до нас комплекс документов, касающихся революционной деятельности Головачёвой, отмечаем тщательность, с которой подготовлены материалы для административной высылки Головачёвой за пределы Москвы. Аккуратно заполненные на печатной машинке формуляры с описанием биографических данных, содержание показаний самой Головачёвой и ключевых свидетелей по делу, подробные описания изъятых писем и квитанций из протоколов осмотров и сами протоколы осмотра. Все эти сведения повторяются из документа в документ.
В числе прочего в формулярах обнаружена повторяющаяся запись: «4. Петровские ворота 1 Знаменский 10, 4 Лид Вл. Эр. /неразборчиво/». Кто такая эта «Эр.» жандармы не смогли установить.
Большая удача, что сохранились вещественные доказательства по делу — те самые квитанции и записные книжки, изъятые у Головачёвой17. В одной из записных книжек находим, что указанная «Эр.» — это Людмила Владимировна Эрарская.
Записи сделаны мелким почерком, но фамилия «Эрарская» довольно хорошо различима, кроме того Людмила Владимировна Эрарская указана в записной книжке четыре раза.
В ходе выяснения социальных связей арестованной Головачёвой следователем были направлены запросы по всем найденным у неё адресам: как по лицам, которым адресовались денежные переводы, так и по данным из её за- писных книжек18. Из дома по 1-му Знаменскому переулку пришёл ответ, что там проживает Ера-ская19 Людмила Владимировна, девица 20 лет, дочь отставного генерал-майора, вместе с Ера-ской Надеждой Павловной женой отставного статского советника 57 лет и сестрой Ераской Верой Владимировной, дочерью отставного генерал-майора 28 лет, артисткой.
На это жандармы тоже не обратили внимание. Между тем именно сёстры Эрарские20 — это общие знакомые и тот самый мостик, который мог связывать Головачёву и Цубербиллер21. В данном случае, преследуя революционеров, государственная машина в лице жандармов пыталась следовать высоким стандартам документирования результатов расследования. Однако тщательность заполнения многочисленных процессуальных документов приводила к таким досадным упущениям22.
Система захлёбывалась в бюрократических формальностях (дело Головачёвой). При этом, проявляя признаки предвзятости (дело Цу-бербиллер), система не могла эффективно бороться с революционной активностью: право-нарушители23 уходили от ответственности или получали незначительные, символические наказания.
Стоит также отметить несовершенство системы криминалистических учётов того времени. Революционеры, стремясь запутать полицию, менялись своими биографическими данными. Например, под именем Эрика Норд-шрема (брат Эмиля Нордштрема, тоже эсер) долгое время действовал другой революционер — Вильгельм-Альберт Завинский24. Другой пример касается перлюстрированной переписки этого же Нордштрема с неким «Николаем»25. В полицейском деле 1914 года имеется долгая переписка относительно того, кем же может быть некий «Николай», с которым Нордштрем связан революционной работой. Разумеется, это был Николай Витка.
Тем не менее, приложив значительные усилия, правоохранительной системе Российской Империи удалось в 1914 году практически полностью подавить революционное движение. Мы видим это в рапортах полиции26, а также в пись- мах самих революционеров27. Вместе с тем стратегической ошибкой было считать достигнутый результат удовлетворительным и не предложить социально активным членам общества альтернативу революционному пути. Уже через несколько лет внешние условия по отношению к социальной системе изменились настолько, что потребовалось приложить усилия для удержания революционной активности, однако ресурсов для этого уже было недостаточно.
На примере трёх революционных партий видим, что для этой работы по линии Между-партийного Красного Креста революционерами подбирались достаточно подготовленные люди соответствующих навыков и профессий: студентка-медик, участие которой в деятельности Красного Креста не является чем-то удивительным; присяжный поверенный, в обязанности которого входит посещение тюрем и общение с арестантами; преподаватели, родственники работников правоохранительной системы, которых мало кто мог заподозрить в симпатиях революционерам. Мы также упомянули Лидию Злобину, связь с которой, будь она установлена, могла сильно изменить ситуацию в деле Ольги Цубербиллер. Злобина тоже был медиком28.
Что же касается упомянутой Марии Владимировны Мароши, то её деятельность заслужива- ет отдельной статьи29. Мы можем отметить лишь её сложное происхождение30, неудачный брак31, осуждение приговором Междупартийного суда от 24 мая 1917 года (лишена политических прав и оставлена под стражей до созыва Учредительного собрания)32, повторное осуждение и расстрел в 1924 году.
Вот как описывается её судьба после Октябрьской революции в заметке «Женщина-охранник»33. «В октябре 1923 г. служащая завода «Красная ракета», Сергиевского уезда, М.В. Михайлова-Мароши явилась в МГО34 и подала объёмистое заявление, в котором сообщала о своей работе в московской охранке в период 12–17 гг. В этом заявлении она подроб- но излагала свою биографию и описывала свою «деятельность» в охранке. Михайлова-Мароши писала о том, что она чувствует в настоящий момент угрызения совести и, ссылаясь на своей 5-летний «стаж», предлагала свои услуги МГО. Она была арестована. Отдел Государственного архива прислал в МГО свыше 50 агентурных записок — сведений, которые Михайлова подавала в охранку. Выяснилось, что, поступив в 12-м году в московское охранное отделение, она сейчас же по поручению полковника Мартынова выехала в Париж с экскурсией московских учителей. Целью поездки было констатировать связь русской общественности с эмиграцией35. На суде, впрочем, Михайлова утверждает, что реальных результатов поездка эта не дала. Чем далее, тем более развёртывается «деятельность» Михайловой. Сейчас же по возвращении её из-за границы она сообщает в охранку о ряде партийных групп, освещает жизнь революционно настроенной части студенчества и выдаёт работу «Междупартийного красного креста»36. В 1915 г. Михайлова доносит о Пресненской группе РСДРП, причём принимает самое живое участие в ликвидации этой группы. В 15 г. у неё на даче состоялось совещание представителей Пресненской группы с представителями с.-д. о создании единого политического центра. Михайлова выдала это собрание охранке, результатом чего явились аресты видных деятелей Пресненской группы т.т. Меницкого, Канделаки и др. За этот «успех» Михайлова получила повышение. Будучи допрошена при Керенском «Комиссией по обеспечению нового строя», Михайлова открыто заявила, что в своей «деятельности» она находила удовлетворение и призвание. Дело о Михайловой-Мароши разбиралось вчера в московском Губсуде под председательством тов. Сината. Михайлова приговорена к вышей мере наказания — расстрелу без применения амнистии».
Сравнивая дела наружного наблюдения за революционерами, в которых фигурирует Ма- роши («Роза»37) в 1915 году38 с её личным делом из Московской городской управы39, видим, что жандармы, очевидно, подозревали революционеров в использовании легального общества «Красного Креста» для прикрытия своей деятельности. Мароши была одним из основных агентов, через которую жандармы отслеживали деятельность РСДРП в этом направлении. С одной стороны, её служебная деятельность в Московской городской управе была связана с оказанием помощи раненым и их семьям, с другой стороны, она активно контактировала с революционерами, которые работали в структурах общества «Красного Креста» на Никитском бульваре, дом 1140.
Также темой отдельного исследования может стать и жизненный путь агента охранного отделения Анны Егоровны Серебряковой, в том числе с обращением к революционной деятельности выпускницы М.В.Ж.К. Елизаветы Петровны Дурново (в замужестве Эфрон, мать Сергея Эфрона, мужа Марии Цветаевой) (1853–1910). Они были хорошо знакомы между собой. Елизавета Петровна была казначеем организации московских максималистов, «имела на руках огромные суммы денег, превышающие 100 тысяч рублей, составляла сметы комиссий и бюро [Оппозиционной фракции ПСР]»41, с середины 1880-х г. вела работу в политическом Красном Кресте. В 1904 (1905?) году примкнула к партии эсеров. В июле 1906 г. была арестована, в ходе обыска изъяты документы партии эсеров, пакеты с деньгами и чековые книжки, подложные паспорта, фотографии, письма, записные книжки, записки о денежных расчётах и др. В изъятых бумагах Елизаветы Петровны «по словам прокурора Московской судебной палаты было найдено около 160 адресов и явок»42. В марте 1907 г. освобождена под залог в сумме 15 тысяч рублей, внесённый дворянкой фон Вендрих. В газете «Сибирская жизнь» от 29 мая 1910 г. на сей счёт есть интересная заметка. Поскольку её объём невелик процитируем полностью: «Вопрос о судебном залоге. В общем собрании уголовного кассационного департамента сената заслушан принципиальный вопрос о судебном залоге. Жена инженера Эфрон, привлечённая по 102-й ст. Уг. Улож. была оставлена на свободе под залог 15000 руб., внесённый г-жею фон Вендрих. Однако, г-жа Эфрон на суд не явилась, г-жа же фон Вендрих умерла раньше вызова судебной палатой Эфрон в суд. Судебная палата определила обратить залог 15000 руб. в доход казны. Это решение было обжаловано в сенат, причём кассатор доказывал, что залог не может считаться сделкой имущественного характера, и должен быть приравнен к поручительству, т.е. обязательству личному, прекраща- ющемуся со смертью обязавшегося лица. Сенат, однако, согласился с обер-прокурором в том, что залог является обязательством имущественного характера и постановление палаты утвердил».
Оценивая в целом деятельность правоохранительной системы царской России на примере противодействия Междупартийному Красному Кресту, следует отметить в целом компетентность правоохранительных органов, но даже эффективное внедрение агентов не позволяло им иметь всю полноту информации о революционном движении в предреволюционные годы. Реконструируемые нами сведения с привлечением дополнительных источников тоже не дают полной картины, однако показывают сложный характер связей внутри революционных организаций.
Список литературы Междупартийный красный крест в общественной жизни и правоприменительной практике предреволюционной России
- Алексеев И.В. Провокатор Анна Серебрякова. М., 1932.
- Членов С.Б. Московская охранка и ее секретные сотрудники. По данным Комиссии по обеспечению нового строя. М., 1919.
- Шаламов А.Ю. Московская полиция. 1905-1907. 2022. EDN: HXDDYU