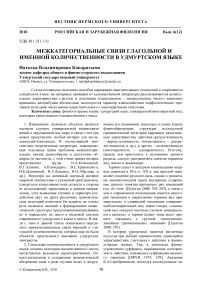Межкатегориальные связи глагольной и именной количественности в удмуртском языке
Автор: Кондратьева Наталья Владимировна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 6 (12), 2010 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена описанию способов выражения квантитативных отношений в современном удмуртском языке: на материале примеров из художественной литературы рассматриваются аспектуальные характеристики глаголов и оппозиция «единственное - множественное число»; выявлены принципы дистрибуции абсолютива; исследуются характер взаимодействия морфологических признаков категории числа имени существительного с многократными глаголами.
Финно-угорские языки, удмуртский язык, однократный/многократный вид, категория единственного/множественного числа
Короткий адрес: https://sciup.org/14728958
IDR: 14728958 | УДК: 811.511.131
Текст научной статьи Межкатегориальные связи глагольной и именной количественности в удмуртском языке
категория единственного/множественного числа.
-
1. Взаимосвязь языковых объектов является частным случаем универсальной взаимосвязи вещей в окружающем нас мире, в связи с чем она может представлять особый интерес для исследователей-языковедов. В отечественной лингвистике теоретическая литература, затрагивающая отдельные грани проблемы межкатегориальных связей, разнообразна и достаточно обширна (в частности, с этой точки зрения интерес представляют труды Н.А.Козинцевой, В.Г.Адмони, А.В.Бондарко, B.C.Храковского, И.Б.Долининой, Н.А.Луценко, Ю.С.Маслова и др.). Несмотря на активный научный интерес мировой лингвистики к указанной проблематике, удмуртское языкознание пока остается в стороне от исследований, проводимых в данном направлении, хотя выявление степени и характера воздействия друг на друга различных грамматических категорий позволило бы выявить не только роль языковых явлений в формировании семантической структуры предложения/высказывания, но и определить их место в языковой системе современного удмуртского языка в целом. В связи с этим в данной статье попытаемся определить межкатегориальные связи именной и глагольной количественности, которые еще не были объектом пристального внимания удмуртских лингвистов.
-
2. Глагольная количественность в удмуртском языке, помимо категории множественного числа, представлена видовыми характеристиками. Однако раздвоение в содержании грамматической абстракции вида в ряде случаев ведет к затруд-
- нению его понимания, поскольку в одних языках формообразующие структуры исследуемой грамматической категории выражают качественную характеристику действия (результативность – иррезультативность, интенсивность – рассредоточенность и др.), в других – количественную (многократность – однократность). Поэтому, прежде чем приступить к изложению данного раздела, следует разграничить понятия терминов вид, аспект и акционсарт.
Термин aspect в западном языковедении впервые появился в 30-е гг. ХХ в. как простой эквивалент понятию русского вида, однако с развитием лингвистической науки внутреннее содержание данного понятия претерпело ряд изменений (см. об этом: [Плунгян 2000: 292–293], в связи с чем в современном языкознании имеется некоторая тенденция к закреплению термина вид применительно к славянской оппозиции совершен-ный/несовершенный вид, иначе говоря, «славянский вид оказался частным случаем универсального аспекта», а термин аспект чаще всего принято связывать с группой «качественнолинейных грамматических значений» [Плунгян 2000: 293].
В истории уралистики имеются различные подходы при выборе терминологии, касающейся характеристики глагольного действия в финноугорских языках. Так, в советском финноугроведении суффиксы, выражающие повторяемость действия, назывались суффиксами видового значения [ОФУЯ 1974: 359]. Академик Б.А.Серебренников, исследуя аспектуальные ха-
рактеристики глагола в удмуртском языке, разграничивает «собственно вид» и «видовые классы»: к первой группе он относит «такие образования, показатели которых имеют тотальное распространение. Ко второй категории относятся образования, показатели которых имеют видовое значение, но не имеют тотального распространения. Их распространенность может иметь различные степени, начиная от недостаточной полноты и кончая крайне незначительной степенью распространения, не превышая иногда одного десятка глаголов» [Серебренников 1960: 24]. В современном зарубежном финно-угроведении принято разграничивать категории вида (аспекта) и способ протекания действия (Aktionsart) (см. подробнее: [Сааринен 2002: 203]). Подобное стремление к разграничению видовых и акцион-сартных образований характерно также для современной тюркологии (см. об этом подробнее: [Лебедев 2003: 48–63]). В данной работе мы будем использовать дефиницию аспект.
Финно-угорские языки относятся к языкам, аспектуальная характеристика в которых указывает на квантитативные отношения: их основным значением является выражение кратности и/или степени длительности действия. В этом отношении в удмуртском языке, говоря о суффиксах, выражающих аспектуальные отношения в синхроническом аспекте, мы можем указать наличие в группе глагольных основ двух рядов: (1) словообразовательном ( копаны ‘копать’ ~ копы ш-ты ны ‘немного копнуть’ ~ копа лты ны ‘копнуть’), где глагол отличается от своей производящей основы лексическим оттенком, и (2) формообразующем, где глагол отличается от своей производящей основы только значением вида – многократностью (многокр.), повторяемостью совершаемого процесса ( коп а ны ‘копать’ ~ ко-па лля ны (многокр.) , копы шты ны ‘немного копнуть’ ~ копы шты лы ны (многокр.) , копа лты ны ‘копнуть’ ~ копа лты лы ны (многокр.). При этом словообразовательные суффиксы могут участвовать в актуализации следующих аспектуальных характеристик: ингрессивных (начинательных), ограничительных, аттенуативных (смягчительных), кумулятивных, семельфактивных (одноактных), интеративных (фреквентативных), мультипликативных (многоактных) и др. (см. об этом: [Алатырев 1959: 164–204; Тепляшина, Лыткин 1976: 182–186; Кондратьева 2007: 25– 34]).
Схематически парадигматику и синтагматику простейших видовых отношений внутри родственных глаголов суффиксального образования можно изобразить следующим образом: однократные глаголы многократные глаголы шоканы ’дышать’ шокчыны ‘букв. дыхнуть’ шокыштыны ‘вдохнуть’ или:
шонаны ’махать’ шон ты ны ‘махнуть’
↔ шока лля ны
↔ шок чылы ны
↔ шокыштылыны шоналляны
↔ шон тылы ны
шона лты ны ‘размахнуться’ ↔ шона лтылы ны
Отдельного внимания требует группа глаголов, сопоставляемая между собой посредством суффиксов -а-/-я- и -ы: кынманы ‘простужаться’ ~ кынмыны ‘простудиться’, лэзьяны ‘кидать’ ~ лэзьыны ‘кинуть’, лобаны ‘летать’ ~ лобыны ‘лететь’, потаны ‘выходить’ ~ потыны ‘выйти’, пыраны ‘заходить’ ~ пырыны ‘зайти’, тубаны ‘подниматься’ ~ тубыны ‘подняться’ и др., например: Кöлан дэрем коже, кутчаськытэк, кыре потüз (ЧП, 197). ‘В одной ночной рубахе, без обуви, она вышла на улицу’. ~ Выльысь но выльысь потаз кышномурт кенос азе, потамез-лы быдэ малы ке тунгон борды кутскылüз (ЧП, 197). ‘Снова и снова женщина выходила в сени и каждый раз почему-то дотрагивалась до замка’.
Вопрос об отнесении морфем -а-/-я- и -ы- к формобразующим или словообразовательным суффиксам на данном этапе развития языкознания кажется несколько проблематичным. С одной стороны, учитывая, что варьирование членов данной оппозиции представляет собой частное деление вида и не затрагивает самой семантики глагола, кажется целесообразным рассматривать данные аффиксы как формообразующие. Но, с другой стороны, противопоставление -а-/-я- и - ы- на сегодня уже полностью подверглось лекси-кализации: наличие вариантов характерно лишь для определенных лексических единиц, что позволяет причислять данные показатели к словообразовательным суффиксам. Кроме того, в пользу последнего довода немаловажное значение имеет и тот факт, что каждый член исследуемой оппозиции может присоединять к себе суффиксы, выражающие многократное действие: бертыны ‘возвратиться’ > бертылыны ‘возвращаться (многокр.)’; бертаны ‘возвращаться’ > берталляны ‘возвращаться (многокр.)’.
С точки зрения синтагматики, употребление маркеров -л(ы(-) и -лля- , выражающих многократность действия, в современном удмуртском языке зависит от основ спряжения глагола: -лы(-) добавляется к полной основе глаголов I спряжения; -лля- присоединяется к основе глаголов II спряжения: кельты- лы -ны ‘оставлять’, ужа- лля -ны ‘работать (многкр.)’, например: Короленко учкы л э соос шоры (Петр., 327). ‘Короленко часто посматривает на них’; Мон но тани уйлы быдэ гуртме вöта лля й (Серг., 177). ‘Вот и мне каждую ночь снился отчий дом’.
Рассмотрим основные семантические значения вербальных единиц, выражающих способ протекания действия и имеющих в своей морфологической структуре формообразующие суффиксы - лы (-) и - лля (-).
-
А. Вербальные единицы, характеризующиеся отсутствием аспектуальных маркеров, в современном удмуртском языке чаще всего выражают однократное действие: Тани пичи пиналъёс ны-рысьсэ вамышто классэ (Вал., 127). ‘Вот малыши впервые входят в класс’; Вераськыны медам люкеты шуыса, кенер вöзы пукси (Серг., 25). ‘Чтобы не помешать беседе, я пристроился у ограды’.
Отсутствие в морфологической структуре слова суффиксов с аспектуальным значением позволяет также выражать такую повторяемость действий, которая приобретает значение постоянной характеристики деятельности конкретного субъекта: Калык ушъя тонэ, Насьтü (Серг., 25). ‘Народ хвалит тебя, Настя’; Митрей витетü этажын улэ (Шир., 104). ‘Дмитрий проживает на пятом этаже’ Данное значение в научной литературе принято еще рассматривать как характерологическое.
Глагольные формы, характеризующиеся отсутствием аспектуальных суффиксов, могут также выражать континуативное действие, или действие, которое началось в прошлом, но продолжает совершаться до момента речи. В этом случае характер протекания действия поддерживается контекстом, в частности формами эгрессива: Пичи дыр ысеным нянь будэтüсьёслэн школаязы дышетскисько (Шир., 102). ‘Я с детства обучаюсь в школе хлебороба’; Со дыр ысен , улмоез зынъякум, лул пушкын ик маиз ке бугырске кадь, синкылиос потыны курисько (Серг., 97). ‘С тех пор, когда я слышу запах яблок, я начинаю волноваться, на глазах выступают слезы’.
Кроме вышеуказанных значений, не маркированные аспектуальными суффиксами вербальные единицы могут указывать на действие, совершаемое более одного раза. В этом случае многократность протекания действия актуализируется либо через обстоятельственные и субъектнообъектные формы, либо же через контекст: Яб-локпуос нош, доразы öтьыса сямен, котькуд аре трос яблок сёто (РГ, 21). ‘А яблони, словно притягивая к себе, каждый год плодоносят’; Яна по-тэмезлэсь азьло нуналлы быдэ кадь керетüзы, даллашизы (Петр., 353). ‘Прежде чем разойтись, они чуть ли не каждый день ссорились и ругались’.
На наличие/отсутствие аспектуальных суффиксов в морфологической структуре предиката определенное влияние могут оказывать и аспектуальные характеристики других отглагольных форм, а также контекст: Шöмаськыса бертылы-куз, пуныеныз адямиен сямен лад-лад вераське вал (Вал., 130). ‘Когда возвращался, бывало, домой в нетрезвом состоянии, [он] беседовал со своей собакой, как с человеком’.
Б. Суффиксы -л(ы)- и - лля(-) в структуре вербальной единицы могут выражать различные типы множественности. Рассмотрим некоторые из них:
-
а) указание на повторяющееся во времени действие или выражение собственно многократного значения: Куддыр та улонын астэ ачид но валамысь дугды л üськод (Серг., 96). ‘Иногда в этой жизни ты перестаешь понимать и самого себя’; Собере колыс бича лля й (РГ, 51). ‘А потом я собирала борщевик’;
-
б) выражение узуального значения. Наличие обстоятельства времени в этом случае позволяет определять периодичность протекания действия либо указывать на условия протекания действия: Сьöртыын дыръяз угось арня нуналъёсы соос татчы шутэтскыны ветлы лü зы (Пер., 98). ‘Когда он работал в д.Сьöрты, по воскресеньям они часто приходили сюда отдыхать’; Герги котькуд экзаменэз бöрсьы «Юпитераз» пуксе но анаез доры больницае дырты л э (АС, 22). ‘После каждого экзамена Герги садится за руль своего «Юпитера» и торопится (многокр.) в больницу к своей матери’.
Узуальное значение может актуализироваться также в том случае, если в структуре предложения употребляются отглагольные обороты, а также придаточные предложения цели, времени или условия: Уно аръёс ортчыса но, Паганиниез кылзыкуз , Иван тодаз вайы л üз пустыня но гу-резьёс вискы ёркам городэз (Серг., 106). ‘Даже спустя многие годы, слушая музыку Паганини, Иван часто вспоминал город, затерявшийся между пустыней и горами’;
-
в) выражение мультипликативной множественности, когда «единство мультипликативной ситуации обеспечивается тем, что отдельные действия направлены на части одного объекта, а вся сумма действий воспринимается как единый процесс, направленный на этот целостный объект» [Долинина 1996: 134]: Амалыз ке луысал, со сюлэмзэ пичиен-пичиен калыклы люкы лы сал (Петр., 69). ‘Была бы его воля, он бы свое сердце небольшими кусочками раздал народу’; Кинлы ке зарни-азвесьмы сярысь потты л üд ке – кылдэ вандо! (РГ, 138). ‘Если кому-то проболтаешься о наших драгоценностях (букв.: серебре-золоте) – язык отрежу’;
К данному же типу можно отнести случаи рассредоточенности действия среди множества объектов: Шуба кисыысьтыз зарни сüньысэн бинем кузесь кампетъёс поттüз но нылпиослы люкы л üз (Петр., 84). ‘Он достал из карманов своей шубы обвернутые золотыми нитями длинные конфеты и раздал детям’; Пиньме куртчи, саесъ-ёсме пужал ля й (РГ, 116). ‘Стиснув зубы, я засучила рукава’; Одüгтэм ыбы л оно соосты (Петр., 310). ‘Их до единого надо расстрелять’;
-
г) указание на дистрибутивную множественность (см. об этом также: [Серебренников 1960: 91]):
– при наличии множественности субъектов действия: Векчи куско, паськыт пельпумо, коть-ку мыньпотüсь пияш шоры вань нылъёс жальма-са учкы л üзы (Серг., 154). ‘На стройного, широкоплечего, с улыбчивым взглядом молодого человека заглядывались все девушки’; Ёзъёсы тüни институтъёсты но быдты л üзы ни (Серг., 160). ‘Мои сверстники уже успели окончить институты’; Пужымъёс, кызъёс ултü тулыс ворд-скем кечпиос бызьы л о (Шир., 194). ‘Под елями и соснами резвятся появившиеся на свет весной зайчата’;
– при рассредоточенности действия в пространстве, когда в качестве субъекта действия выступают дискретные предметы: Шильтыр-шальтыр усьы л üзы мисьтаськон но мычиськон тüрлыкъёс (Серг., 74). ‘С бренчанием повалились приборы для бритья и умывания’; Коркаос азе котыртэм палисадникъёс пушкын турлы сяськаос мертты л эмын (Крас., 8). ‘В палисадниках перед домами посажены разные цветы’;
– при рассредоточенности действия в пространстве, когда в качестве субъекта действия выступают имена, указывающие на вещество ( ву ‘вода’ , кеньыр ‘крупа’ , лымы ‘снег’ и т. д.), или неисчисляемые предметы: Куасьмем музъем пут-пут пилиськылэмын (Сам., 47). ‘Высохшая земля потрескалась’; Солэн (кутэмняньлэн ) ым-ныре шунытэз лыктэ, пинь улысь кенэм тачыр-тачыр! пильы л üське (ЧП, 253). ‘Свежеиспеченный хлеб отдает теплом, семена конопли скрипят под зубами’; Кымесаз пöсям вуэз чилекты л э, баблес погмаськем йырсиосыз ветлонъяз лобак-лобак луы л о (Серг., 164). ‘На его лбу выступает пот, его нерасчесанные кудрявые волосы при ходьбе словно взлетают’.
Следует заметить, что семантические оттенки глагольной множественности можно выявить только исходя из контекста. В ряде случаев они могут объединять несколько семантических характеристик, в частности, указание на множественность субъектов действия и многократность действия содержится в следующих примерах:
Учкисьёс олокöня пол ини, артистъёсты сцена вылэ öтьыса, кизэс чабыны кутскы л üзы (Вал., 62). ‘Зрители уже несколько раз, приглашая артистов на сцену, начинали аплодировать’; Озьы-гес ик вазьы л üзы со шоры семьяысь мукетъёсыз но (Хр., 63). ‘Таким же образом к нему обращались и другие члены семьи’. Подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что на наличие морфологических маркеров многократного вида в морфологической структуре вербальной единицы в современном удмуртском языке определенное влияние оказывают следующие характеристики предложения:
-
а) сосредоточенность/рассредоточенность
действия во времени;
-
б) сосредоточенность/рассредоточенность
действия в пространстве;
-
в) наличие одного/множества субъект(а/ов) действия;
-
г) сосредоточенность действия на одном объекте / рассредоточенность действия среди множества объектов.
-
3. В современном удмуртском языке морфологическая категория числа имен существительных как словоизменительная грамматическая категория выражается в системе двух противопоставленных рядов форм – единственного и множественного числа. Следует однако подчеркнуть, что «единственность/множественность» как бинарный признак морфологического уровня структуры языка не всегда совпадает с «единст-венностью/множественностью» логико
семантического порядка. Так, в отношения асимметрии могут вступать: а) морфологическая «единственность» с «множественной субстант-ностью» как совокупным логико-семантическим признаком или б) морфологическая «множественность» с логико-семантическим комплексом «единственная/парная субстантность». В данной работе мы не будем рассматривать семантические функции словоформ числа (см. об этом: [Кондратьева 2010: 92–101; Lytkin 1930: 76–77]), а остановимся лишь на тех моментах, которые имеют прямую зависимость с глагольной множественностью.
Единственное число, как член морфологического противопоставления «единич-ность/множественность», в современном удмуртском языке характеризуется отсутствием формальных показателей: Укноø дурын бамзэø миськыса пуке коџышø (Хайд., 96). ‘На подоконнике, умываясь, сидит кошка’; Гурезьø йылын ик, сюрес дурын, вöл-вöл вож куаро бадярø сылэ (Загр., 321). ‘На горе у дороги растет раскидистый клен с зеленой листвой’. Морфологическими маркерами множественного числа являются суффиксы -ос/-ёс: Жингыр-куангыр! куашказы горшокъёс (Хайд., 56). ‘С грохотом покатились горшки’; Ортчизы нуналъёс, толэзьёс (Хайд., 108). ‘Прошли дни, годы’;
В диахронии имена существительные без формальных показателей множественного числа, по-видимому, можно рассматривать как немаркированную форму в отношении признака коли-чественности, т.к. для уральского праязыка было характерно использование абсолютного числа (см. об этом подробнее: [Майтинская 1979: 80– 93]). В частности, с точки зрения венгерского исследователя М.Кёвеши, признаки неединственного числа образовались в поздней стадии уральского праязыка; до этого для выражения квантитативных характеристик использовались слова со значением ‘мало’, ‘много’, ‘два’, ‘три’ и т. д.: «Az alapnyelv korai szakaszában még nem alakult ki a numerusok kötött morfémákkal való jelölése. Feltehetően mennyiséget jellentő szavak és számnevek (kevés, sok, néhány, kettő, három stb.) szolgáltak a duális és plurális jelölésére az ún. “nu-merus absolutus” mellett» [Kövesi 1970: 43] (‘На раннем этапе развития языка-основы морфологические маркеры множественного числа еще не были сформированы. Для выражения значения двойственности и множественности использовались лексемы со значением количественности, а также имена числительные (мало, много, несколько, три и т.д.) наряду с так называемыми «numerus absolutus»’.
С точки зрения синхронии, признаки абсолютного числа в системе современного удмуртского языка сохранились в следующих позициях:
-
а) в случае дистрибуции имени существительного в сочетании с количественными именами числительными (см. об этом также: [Стрелкова 2009: 147–150]): Куать корка ( ø ) выжытэм сутыса быдтэмын (Конов., 26). ‘Шесть домов сожжено дотла’; Собере корка пушкысь куинь адямиез ( ø ) поттüзы (Конов., 59). ‘Потом из дома вывели троих людей’. Следует заметить, что в указанном контексте возможно также употребление имен существительных в форме множественного числа: Кык эшъ ёс нюлэскы, шур дуре ветлüзы (АС, 193). ‘Два товарища часто ходили в лес, [спускались] к реке’; Кыкназы ик сьöд дüськутъёсын дüсяськемын, кык монашка ос сы-ло кожалод (Гряз., 269). ‘Обе они одеты в черное, можно подумать, что стоят две монахини’;
-
б) в случае дистрибуции имен существительных, выражающих семантические множества (например, обозначение парных частей тела, парных предметов одежды, групповых частей тела и др): Камайлэн синм ( ø ) ыз йöназ уг ад œ ы ни (Конов., 96). ‘Камай (букв.: глаз Камая) уже ви-
- дит с трудом’; Азвесен вуам выллем тöдьы чи-лясь баблес йырси(ø)ез каллен гинэ тöлъя шудэ (Конов., 3). ‘Его седые, словно покрытые серебром, волнистые волосы развеваются по ветру’. С точки зрения синхронии, в данном случае также возможно употребление форм множественного числа: Синъёсыз [солэн] сутэръёс кадь сьöдэсь (АС, 81). ‘Ее глаза черны, как смородинки’; Тани киосыд кужмоесь луозы – тракторен ужалод, гырод-кизёд (АС, 221). ‘Вот окрепнут твои ручки – и станешь ты трактористом, будешь работать на поле’.
-
4. Проанализировав современные художественные тексты, мы пришли к выводу о том, что на наличие/отсутствие показателей множественного числа немаловажное значение оказывает глагольная количественность. Как уже отмечалось выше, глагольная множественность в удмуртском языке затрагивает как пространственно-временные отношения, так и субъектнообъектные характеристики действия. В этом ряду облигаторное морфологическое оформление с точки зрения присутствия маркеров множественного числа характерно лишь при выражении субъектных значений, т.к. субъект и предикат предложения в системе удмуртского языка кон-груируются с точки зрения числовых характеристик. Также наличие показателей множественного числа обязательно при выражении посессивных отношений, т. к. в этом случае они актуализируют отношения обладателя (обладателей) к обладаемому (обладателям): Нош тайзэ суредм е учкы ай (АС, 192). ‘А теперь посмотри на этот мой рисунок’. Ср.: Пияш эшезлы суредъ ёс с э возьматъяз (АС, 192). ‘Мальчик своему товарищу показывал свои рисунки’.
В остальных случаях допускается факультативное использование суффиксов множественного числа в контексте с вербальными единицами многократного вида.
Так, формы единственного числа при глаголах многократного вида широко распространены в структуре прямого дополнения: Куасьтэм ню-лэс(ø)эз тылатылüзы вазь тулыс (Гриш., 125). ‘Высохший лес (~ высохшие леса) сжигали ранней весной’; Мон тани арысь аре отличник вал, весь газет(ø) поттылü (Пукр., 104). ‘Я, к примеру, каждый год был отличником, всегда выпускал газеты (букв.: газету)’; Недоимка чотэ нуылüзы гидысь ыж(ø)ез, ветыл(ø)эз, скал(ø)эз яке толэс(ø)эз (Гриш., 120). ‘В счет недоимки уводили с хлева овец, телок, коров или жеребят (букв.: овцу, телку, корову, жеребца)’. По-видмому, в аналогичных примерах «форму единственного числа с нулевым аффиксом можно рассматривать как немаркированную в отноше- нии признака расчлененности» [Молчанова 1976: 135]; это по сути дела обозначение и единичного, и общего объекта – класса предметов, обладающих сходным качеством.
Данное явление при отсутствии видовых характеристик глагола характерно лишь в случае, если в функции прямого объекта выступают имена, сохранившие позиционные признаки абсолютного числа (см. выше): Со нуналэ ик, мага-зинэ мыныса, кирза сапег ( ø ) басьтüз (Вал., 106). ‘В тот же день он купил в магзине кирзовые сапоги’; Кладовщик зöк портфельысьтыз куинь банка консерва ( ø ) , колбаса ( ø ) , сыр ( ø ) поттüз (Сад., 46). ‘Кладовщик достал из своего портфеля три банки консервов, колбасу, сыр’. Наличие показателей множественного числа в последнем случае может указывать на дистрибутивное множество или другие вторичные значения граммем множественного числа: Но берло вакыт чорыг ( ø ) весь ичигес шедьыны кутскиз (ПГ, 251). ‘А в последнее время улова (букв.: рыбы) стало меньше’. Ср.: Отчы [ прудэ ] олокыче но чорыгъ ёс лэзи (Загр., 348). ‘Туда [в пруд] я выпустил различные виды рыб’.
Преобладающее использование форм единственного числа характерно и при выражении рассредоточенного во времени или в пространстве действия: Анай-атаез солы нялтас котьку са-лам ( ø ) лэзьы л о вал, сюлэмшугъясько одüг пизы сярысь (Серг., 175). ‘Родители часто отправляли ему гостинцы (букв. гостинец), беспокоились о своем единственном сыне’; Улыг интыосын нош тöдьы кечсин сяська бирды но адскы л э (Серг., 117). ‘В низинах виднеются белые подснежники (букв.: белая пуговка подснежника)’.
Таким образом, на выбор морфологических маркеров единственного/множественного числа в современном удмуртском языке существенное влияние оказывает не только распределение объектов на дискретные и континуативные, что типично для большинства языков мира, но и аспектуальные характеристики вербальной единицы.
INTERCATEGORIAL RELATIONS
OF VERBAL AND NOMINAL QUANTITY IN THE UDMURT LANGUAGE
Natalja V. Kondratjeva
Associate Professor of General and Finno-Ugric Linguistics Department
Udmurt State University
Список литературы Межкатегориальные связи глагольной и именной количественности в удмуртском языке
- АС -Ар-Серги В. Ноктюрн: Веросъёс. Ижевск: Удмуртия, 2003. 304 с.
- Вал. -Валишин Р.Г. Инвожо уйшоре но пиштэ: Повесть. Ижевск: Удмуртия, 1974. 156 с.
- Гриш. -Гришкина М.Г., Корепанов К.И. Дауръёс пыр: Вашкала-вашкала удмуртъёс сярысь очеркъёс. Ижевск: Удмуртия, 1997. 190 с.
- Гряз. -Грязев Г.Г. Кирень куректон: Очеркъёс, повестьёс. Ижевск: Удмуртия, 1996. 280 с.
- Загр. -Загребин Е.Е. Тулыс зор: Пьесаос, веросъёс/послесловиез А.Г.Шкляевлэн. Ижевск: Удмуртия, 1997. 416 с.
- Конов. -Коновалов М.А. Гаян: Роман. Ижевск: Удм. кн. изд-во, 1958. 230 с.
- Крас. -Красильников Г.Д. Тонэн кылисько: Роман. Повесть. Ижевск: Удмуртия, 1991. 390 с.
- ПГ -Перевощиков Г.К. Шелеп: Повестьёс, верос; Жестокосердие: Повести. Трилогия/пер. с удм. Вл. Емельянова. Ижевск: Удмуртия, 2004. 464 с.
- Пер. -Перевощиков Г.К. Йыбыртты музъемлы: Роман-тетралогия. Ижевск: Удмуртия, 1992. Т. 1. 496 с.
- Петр. -Петров М.П. Вуж Мултан. Роман/Азькылэз Ф.Ермаковлэн. Устинов: Удмуртия, 1987. 360 с.
- Пукр. -Пукроков Ф.П. Кизили ныл: Роман, повестьёс. Ижевск: Удмуртия, 1997. 312 б.
- РГ -Романова Г.В. Жужыт-жужыт гурезе…: Верос сузьет, серемес веросъёс, выжыкылъёс, сценкаос. Ижевск: Удмуртия, 2000. 160 с.
- Сам. -Самсонов С.А. Тау тыныд, адями. Ижевск: Удмуртия, 1963. 84 с.
- Сад. -Садовников В.Е. Кошкизы но -öз берытске: Повесть, очерк, веросъёс. Ижевск: Удмуртия, 1995. 142 с.
- Серг. -Серегеев В.В. Лыдъя, лыдъя кикые: Повестьёс, веросъёс. Ижевск: Удмуртия, 1988. 208 с.
- Хайд. -Хайдар Р.О. Ачим: Веросъёс, юморескаос, скетчъёс. Ижевск: Удмуртия, 1999. 200 с.
- Хр. -Христолюбова Л.С. Калык сямъёсты чакласа. Ижевск: Удмуртия, 1995. 212 с.
- ЧП -Чернов П.К. Казак воргорон: Повестьёс. Ижевск: Удмуртия, 1996. 480 с.
- Шир. -Широбоков В.Г. Ошмес жильыртэ ваньмызлы. Ижевск: Удмуртия, 1980. 240 с.
- Алатырев В.И. О некоторых способах выражения категории вида в удмуртском языке//Вопросы удмуртского языкознания. Т. 1. Ижевск, 1959. С. 164-204.
- Долинина И.Б. Консрукции с «посессивными актантами»//Теория функциональной грамматики: Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность. СПб.: Наука, 1996. С. 127-137.
- Кондратьева Н.В. Туала удмурт кылысь каронтус каблэн пöрмемез но кутüськемез//Вестник УдГУ. Филологические науки. 2007. Выпуск 5. Часть 1. С. 25-34.
- Кондратьева Н.В. К вопросу о грамматической категории числа имен существительных в удмуртском языке//Вестник Удмуртского университета. Сер. История и филология. 2010. Выпуск 2. С. 92-101.
- Лебедев Э.Е. Состав и классификация акционсартовых значений в чувашском языке//Взаимодействие урало-алтайских языков. Язык и культура: Материалы международной конференции (4-6 октября 2001 г., Шубашкар)/Под ред. А.П.Хузангая. Чебоксары, 2003. С. 48-63.
- Майтинская К.Е. Историко-сопоставительная морфология финно-угорских языков. М.: Наука, 1979. 264 с.
- Молчанова Е.К. Категория числа в таджикском языке//Индийская и иранская филология: Вопросы грамматики. М., 1976. С. 133-138.
- ОФУЯ 1974 -Основы финно-угорского языкознания: Вопросы происхождения и развития финно-угорских языков/АН СССР. Ин-т языкозн. М: Наука, 1974. 484 с.
- Плунгян В А. Общая морфология. Введение в проблематику. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 283 с.
- Сааринен С. Фреквентативность (многократность) в марийском и удмуртском языках//Пермистика 5: Сб. статей/Удм. гос. ун-т. Ижевск: Изд. дом «Удм. ун-т», 2002. С. 203-207.
- Серебренников Б.А. Категория времени и вида в финно-угорских языках пермской и волжской групп. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 300 с.
- Стрелкова О.Б. Имена числительные удмуртского языка (в историко-типологическом аспекте): дис… канд. филол. наук. Ижевск, 2009. 217 с.
- Тепляшина Т.И., Лыткин В.И. Пермские языки//Основы финно-угорского языкознания: Марийский, пермские и угорские языки. М.: Наука, 1976. С. 97-228.
- Kövesi M. Az uráli alapnyelv többesjeleiről//NyK (Budapest). 1970 (LXXII). Ol. 31-44.
- Lyktin V. A többesszám -jas (-jos) és -jan képzöi a permi nyelvekben//Magyar Nyelvör. 1930 (LIX). III-IV füz. Ol. 76-77.