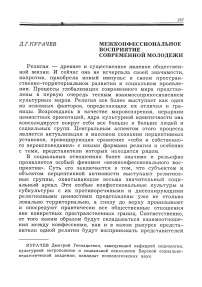Межконфессиональное восприятие современной молодежи
Автор: Курачев Дмитрий Геннадьевич
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Социология региона
Статья в выпуске: 3 (52), 2005 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются межконфессиональное восприятие современной молодежи, его феноменологическая сущность, проблемы и основные пути его оптимизации.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222179
IDR: 147222179
Текст научной статьи Межконфессиональное восприятие современной молодежи
Религия — древнее и существенное явление общественной жизни. И сейчас она не исчерпала своей значимости, напротив, приобрела новый импульс в своем пространственно-территориальном развитии и социальном проявлении. Процессы глобализации современного мира представлены в первую очередь тесным взаимосоприкосновением культурных миров. Религия все более выступает как один из основных факторов, определяющих их отличия и границы. Возрождаясь в качестве мировоззрения, иерархии ценностных ориентаций, ядра культурной идентичности она консолидирует вокруг себя все больше и больше людей и социальных групп. Центральным аспектом этого процесса является актуализация в массовом сознании перцептивных установок, провоцирующих сравнение «себя и собственного вероисповедания» с иными формами религии и особенно с теми, представители которых находятся рядом.
В социальных отношениях более значимо и рельефно проявляется особый феномен «межконфессионального восприятия». Суть его заключается в том, что субъектом и объектом перцептивной активности выступают религиозные группы, охватывающие весьма значительный социальный ареал. Эти особые конфессиональные культуры и субкультуры с их противоречивыми и диссонирующими религиозными ценностями представлены уже не столько локально территориально, а снизу до верху пронизывают и опосредуют практически все общественные отношения вне конкретных пространственных границ. Соответственно, от того каким образом будут складываться взаимоотношения между конфессиями, как и в каком ракурсе представители одной религии будут воспринимать представителей
КУРАЧЕВ Дмитрий Геннадьевич, заведующий кафедрой социологии, культурной антропологии и социальной психологии Бирской социальнопедагогической академии, кандидат психологических наук.
Другой, во многом зависит развитие современной поли-культурной цивилизации.
В России конфессиональная принадлежность в период тотального атеизма времен СССР не вызывала ни каких напряжений и противоречий. Однако теперь она начинает выступать совсем в ином ракурсе — все более становится инвариантом внутригруппового самосознания и межгрупповой перцепции, очерчивает границы социальных отношений, обуславливает специфику межличностного и межгруппового общения. Это является особенно важным фактом в виду того, что наше государство не только территориально расположено внутри границ конфессиональных цивилизаций, но и предоставило возможность религиозных свобод и деятельности самым разнообразным сектам. В связи с этим религиозные ориентации населения поликон-фессиональны, проявлены в различном содержании от радикального неприятия инакомыслия до терпимости и сострадания к ближнему.
Башкортостан — уникальная поликультурная республика, в которой на относительно небольшой территории сосредоточены самые различные этнические и конфессиональные общности. Как в зеркале здесь отражаются общемировые и общероссийские тенденции — конфессиональный фактор выступает уже не какой-то тенью этнической идентичности, фрагментарной исторической памяти и др. Напротив, вне зависимости от национальности (башкиры, татары, русские, марийцы и т.д.) верующими считают себя более двух третей населения. При этом показательно, что властям удается соблюдать баланс в конфессиональных противоречиях и не допускать конфликтных антагонизмов, которые, к сожалению, уже проявлены в других регионах современной России.
Одной из интересных и показательных сторон современного религиозного возрождения является значительная активность в этом процессе молодежи. Именно молодежь в силу ее сензитивности, мотивации заполнить экзистенциальный вакуум, поиска смысла существования и др. в наибольшей мере подвержена влиянию конфессиональных идеологий. И сами конфессии проявляют активность именно в среде молодежи. Нередко это сопровождается разного рода издержками, связанными с тем, что в данном возрасте на фоне его мощной социальной энергии межгрупповые антагонизмы, мировоззренческий абсолютизм проявляются наиболее остро, создавая условия для межконфессиональных конфликтов. Соответственно наличие или отсутствие веротерпимости молодежи выступает в качестве важного индикатора стабильности в обществе.
Все это позволяет говорить о межконфессиональном восприятии молодежи как самостоятельной реальности, требующей адресного социально-философского подхода и масштабного эмпирического исследования. Несмотря на актуальность и наличие явного социального запроса в этой области знаний еще очень много белых пятен.
По данным проведенного нами с 1997 по 2004 гг. исследования феноменологической сущности межконфессионального восприятия соврменной молодежи установлено, что «возвращение» молодежи в лоно религии сопряжено с возрождением мощнейшего и древнего тематического ядра группоцентризма1 Это ведет к усилению межгруппового обособления и наполняет перцептивные установки особым смысловым содержанием. На данный момент межконфессиональное восприятие как своеобразная форма перцептивной активности не есть какое-то локальное, редкое явление, сопряженное с фрагментарными событиями или условиями. Напротив, среди современной молодежи оно представляет собой весьма распространенный феномен, достаточно активно проявляющий себя в обыденной жизни.
Исследование генезисного аспекта показало, что от подросткового к юношескому возрасту межконфессиональное восприятие находит свое выражение под определенным диктатом особенностей периода взросления и происходящих в нем изменений. Его активное формирование происходит в подростковом возрасте, что выражается в усилении степени информированности о чужих религиях, появлении о них отчетливых представлений. Примечательно, что уже у дошкольников фигурируют зачаточные религиозные представления, среди которых можно выделить фрагменты конфессиональных. Соответственно эти перцептивные шаблоны ребенок может использовать еще на первоначальных стадиях своего развития. Это соотно- сится с некоторыми позициями2, постулирующими, что если на фоне первичного формирования Я-концепции (это примерно 3 года), родителями культивируется оппозиция «Мы—Они» в каком бы то ни было аспекте, то она присваивается и ребенком. Таким образом, доюношеский этап формирования межконфессиональных представлений и образов зависит от их актуализации в семье и ближайшем окружении ребенка (подростка). Юношеский же возраст предстает как период, в котором межконфессиональная перцепция уже сформирована, актуализирована и сам юноша является субъектом межконфессиональных отношений.
Выявлено, что межконфессиональное восприятие — это особое социальное явление со своими конкретными характеристиками, выделяющими его в качестве самостоятельного феномена в широком спектре перцептивной активности и межгрупповых отношений. Межконфессиональное восприятие сложно соотносится с межэтническим (в некоторых случаях наблюдается их наслоение, в других — расслоение). Оно имеет свой отличительный от других форм перцепции оценочный диапазон и ракурс: представлено специфическим, в том числе особым культово-религиозным смысловым содержанием, разворачивается в разномодальных элементах — отношение к самому названию религии, конкретным религиозным представителям, а также культурным производным конкретной конфессии (праздники обряды, традиции) и др.
У юношей и девушек из основных конфессиональных сообществ Башкортостана в наибольшей степени актуализированы образы ислама, православия и язычества, то есть «традиционных» религий. В гораздо меньшей степени сформированы образы «нетрадиционных» конфессий. На основании содержаний представленных образов верующие обосабливаются от чужих религий с различной степенью интенсивности. Межконфессиональное восприятие представлено в широком диапазоне: от конфликтного отторжения до толерантности и позитива. Весь спектр отношений можно представить в следующих типах.
При взаимном позитиве межконфессиональной перцепции у православных и мусульман можно выделить толерантный тип. Вне ситуации смоделированного конфликта между ними не проявляется выраженных противоречий и напряженности. Учитывая, что между исламом и христианством далеко не всегда имеет место взаимная толерантность, выявленный на территории Башкортостана тип отношений можно взять за образец добрососедства двух великих религий.
Восприятие представителями традиционных религий (ислама, православия, язычества) нетрадиционных соответствует недифференцированно-обособленческому типу. Такое название определено недостаточной актуализацией образов большинства нетрадиционных религий. Эти образы диффузны, слабо представлены в перцептивном поле, их содержание характеризуется отрицательной и критической загруженностью.
У мусульман и православных к язычникам проявляется значительный негатив. Можно выделить негативно-конфликтный тип, отличающийся от радикального и недифференцированного, с одной стороны, более выраженной актуализацией соответствующего конфессионального образа, а с другой, более конфликтным и агрессивным наполнением.
У представителей нетрадиционных религий аутообразы представлены элитарной ментальностью, самохвальством. Другие религии воспринимаются либо нетерпимо, либо спектр перцепции сужается до избирательного внимания к «родственным религиям». Приобщенность к сектам влечет за собой формирование особого рода межконфессиональной перцепции, связанной с религиозным радикализмом и ослаблением толерантности к инакомыслию. Мы назвали подобный тип радикально-изоляционным. С известной долей условности и определенном упрощении классификации можно утверждать, что у молодежи из традиционных религий (ислама и православия) межконфессиональное восприятие представлено в более конструктивном ракурсе, нежели у нетрадиционных (свидетелей Иеговы, адвентистов, пятидесятников, кришнаитов). Однако есть и исключение.
Особый тип межконфессиональной перцепции проявляется у представителей другой традиционной религии — язычества. У них обнаружены некоторые особенности, свя-
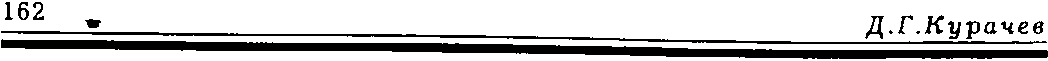
занные с инверсией внутригруппового фаворитизма. Сложное положение этой религии сопряжено с тем, что стремление «вернуться к корням» и идентифицировать себя как «язычника» соотносится с обособлением со стороны мусульман и православных — наиболее многочисленных представителей традиционных религий в Башкортостане. Выявлено также, что представители наиболее распространенных в Башкортостане традиционных религий представлены в более конструктивном ракурсе, чем нетрадиционных.
Межконфессиональное восприятие носит отличный характер на периферии конфессиональной субкультуры и в ее центре. У конфессионально-ориентированных юношей и девушек степень совпадений представлений о другой религии невелика, в оценках обнаруживается индивидуальная позиция и секуляризированный контекст. Прослеживается критичность не только по отношению к другим религиям, но и к собственной. К другим традиционным конфессиям они относятся более позитивно и толерантно. В целом межконфессиональное восприятие представлено в широком веере смысловых перспектив. У погруженных же в традицию верующих целостность и унифицированность в восприятии другой религии проявляются с большей степенью отчетливости. В восприятии других религий чаще фигурирует стереотип, оно в большей мере детерминировано религиозным мировоззрением. Складывается впечатление, что их конфессиональные образы воспроизводят в себе заранее заданные шаблоны, поскольку ассоциации и стереотипы у многих сходны. У них же менее выражен самонегатив, а иноверцы воспринимаются менее терпимо. Восприятие чужих религий становится как бы менее дифференцированным и более усредненным. Наблюдаются некоторые элементы сходства данной формы перцептивной активности у молодых верующих находящихся «в центре» субкультур традиционных религий и у молодых сектантов. Это свидетельствует о более выраженном радикализме межконфессионального восприятия погруженных верующих в сравнении с конфессионально-ориентированными. Есть основания полагать, что при усилении конфессиональной вовлеченности (тенденция к этому у молодежи уже прослеживается) будут создаваться предпосылки для увеличения межконфессиональной напряженности и конфронтации.
Учитывая также, что «глубоко верующие» имеют в религиозной среде авторитет и власть, от их позиции будет зависеть широкое общественно-религиозное мнение. Можно видеть некий парадокс: терпимость к религиозному инакомыслию определяется теми, кто в силу своего мировоззрения радикален.
Конфликтное обострение межконфессиональной перцепции посредством фрустрации, смоделированной деривационным воздействием со стороны представителей различных религий, позволило выявить те параметры, которые не декларируются, скрываются или просто не проявляются в ситуации безстрессового общения. Установлено, что в ситуациях фрустрации, смоделированной деривационным воздействием со стороны представителей различных религий, межконфессиональная перцепция характеризуется агрессией, либо игнорирующей нелояльностью. При этом выраженность нелояльности зависит от конфессиональной принадлежности источника депривационного воздействия. К представителям собственной религии она уменьшается, а лояльность усиливается. У представителей всех изучаемых религий прослеживается более выраженное увеличение остаточной фрустрации после депривационного воздействия иноверцев. При депривации со стороны иноверцев проявляется значительное усиление внутриконфессионального фаворитизма и межконфессиональной дискриминации. Обостряется негативизм, нарушается имеющаяся толерантность. Это выглядит особенно тревожно потому, что среди толерантно настроенных друг к другу православных и мусульман существуют немногочисленные группы с радикальными по отношению друг к другу настроениями. Есть основания полагать, что на фоне общего усиления межконфессиональной деструкции эти группы будут катализировать взаимную нетерпимость.
Межконфессиональная перцепция может проявлять себя в двух крайних формах: неся в себе «смягчение» межгруппового фаворитизма и межгрупповой дискриминации и их катализацию. Эти два полюса балансируют на фоне исторического контекста, социальных настроений, идеологии, текущего политического момента, угла интерпретации религиозных догматов. При определенных обстоятельствах (усиления социального напряжения, провокации и др.) в силу присущей любому сознанию тенденции к оппозицио-нированию и отчуждению по формуле «свой» — «чужой», чаша весов гораздо легче будет склоняться в сторону негативизации образа «чужой религии». Религиозные доктрины с их идеалами добра и человеколюбия могут транс-мутироваться в инструмент убийства и кровавой резни.
Учитывая усиливающийся в последнее время фактор «возвращения к конфессиональным истокам», провоцирующий актуализацию межконфессиональной перцепции, можно с уверенностью допустить, что инструментом усиления социальной деструкции, как в силу спонтанных обстоятельств, так и что еще страшнее, в силу заинтересованности конкретных политических или финансовых кругов может стать именно «конфессиональная карта». Доказательств тому уже достаточно — это широко распространенные локальные войны и конфликты на почве радикальных убеждений христианских (Ирландия) или исламских (Чечня) фундаменталистов, это раскол государств по границам конфессиональных цивилизаций (Югославия, Палестина и др.). В силу своего мировоззренческого контекста и практически неограниченных возможностей для манипуляции конфессиональный аспект как фактор усиления отчуждения становится гораздо более уязвимым и одновременно удобным для идеологического злоупотребления в сравнении с более ригидными и менее актуальными этническими и классовыми аспектами. Конфессиональный аспект межгрупповых отношений в настоящий момент является одной из самых насущных и важнейших областей государственной безопасности.
Конфессиональные миры — это полярности с различными взглядами на мир. В их догматах лежат «монополи-зационные» идеи о том, что именно эта, а не какая-нибудь другая религия содержит истину в наиболее чистом виде, все, кто исповедует иную веру так или иначе заблуждаются. Противоречия заключаются и в том, что доктрины настолько по-разному определяют семиосферу сознания своих адептов (систему знаков, их смысловые интерпретации, нормы, привычки, ценностные и моральные нормативы), что представителям различных религий трудно найти «общий язык» и понять друг друга. Дополнитель- ным проблемным фактором является негативная историческая память, суть которой составляют длительные этнокон-фессиональные разногласия, впаянные в самосознание субъектов религиозных культур. Противоречия часто актуализируются и через вмешательство «третьих сил», которые сознательно в силу политических или экономических интересов (далеко отличных от духовных) провоцируют, идеологически обосновывают, организационно и финансово подкрепляют поле межконфессиональных разногласий. Когда ущемляются права какой-либо общности, сыграть на противоречиях достаточно легко.
Анализ проблемы позволяет сделать предположение, что при отсутствии ярко выраженной «негативной исторической памяти» и кругов, играющих на политико-экономических противоречиях, религиозные антагонизмы не будут активно «социально проявлены». Однако межконфессиональные полярности всегда остаются удобным полем для возможных манипуляций. Как известно, источников и причин для их осуществления в современном мире больше чем достаточно. Следует отчетливо осознавать, что силы, побуждаемые религиозными противоречиями, имеют в своей основе грандиозный разрушительный потенциал. При этом наука в должной мере не располагает технологиями, позволяющими эффективно управлять глобальными конфессиональными конфликтами, особенно на их поздних стадиях3 В сложившейся ситуации становится весьма актуальной необходимость разрешения проблемной дилеммы — противостояния/терпимости между конфессиональными сообществами. Известно, что любая религия в своем культурном арсенале располагает средствами сдерживания розни и противоборства, возможно, на них следует обратить более пристальное внимание. Опираясь именно на эти средства необходимо создать условия для сохранения имеющейся веротерпимости и всемерной актуализации предпосылок безопасного сосуществования различных конфессий. Сейчас, как никогда, важны усилия по педалированию межконфессионального диалога. Подобные меры уже принимаются. Так, в 1998 г. создан Межрелигиозный совет России (МСР), в который вошли представители традиционных для России конфессиональных сообществ — право-
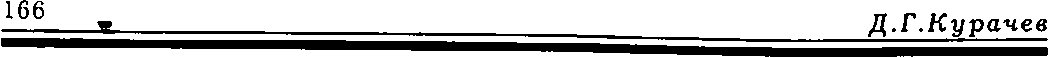
славия, ислама, буддизма и иудаизма. Несмотря на то, что еще существует много проблем, подобный социальный институт является хорошим началом для реализации принципа межконфессиональной толерантности.
Примечательно, что в МСР вошли представители, прежде всего традиционных религий. К этому имеются некоторые основания. Религиозные общности в настоящее время очень различаются друг от друга в самых разных аспектах духовности и практики. Они представлены, с одной стороны, традиционными конфессиями, с другой — очень молодыми «отщеплениями». Между двумя этими крайностями лежат промежуточные течения типа старых форм протестантизма или раскольничества (лютеранство, старообрядчество и др.). Их нельзя однозначно охарактеризовать в таких категориях как «традиционные» или «нетрадиционные», «плохие» или «хорошие». Тем не менее, все, что сейчас происходит в области религиозной жизни, дает основания дифференцированно относиться к различным конфессиям. Многие авторы негативно относятся к некоторым нетрадиционным религиям, получившим характерное название «деструктивные» культы4
Собственно деструктивный опыт и формы развития личности, радикализм в отношении к инакомыслию присущи не только деструктивным культам, но и традиционным конфессиям. Однако в степени соотношения меры наличия деструкции традиционные конфессии находятся в более выгодном положении5. Дифференцианалистский подход отстаивает мнение, что только лишь традиционные религиозные догматы определяют мировоззрение с позитивными жизненными установками, способствуют целостности и в то же время выводят личность за рамки узкого мирского утилитаризма и ограниченности собственного «Я», с его проблемами и простейшими потребностями. Помимо констатации конструктивной фактологии традиционных религий, существуют попытки сравнительного анализа. М.Лангон приводит критерии отличия религии от культа: религия уважает автономию индивидуума — культ форсирует уступчивость личности. Религия толерантно относится и даже поощряет вопросы и независимые мнения — культ отвергает возможность критического мышления. Религия стара- ется напитать духовные нужды — культ их эксплуатирует. Религиозная конверсия предрасполагает к раскрытию внутренних ресурсов для достижения личностной идентичности — культовая конверсия воздействует на внешние паттерны поведения, не заботясь о внутренней идентификации. Религия поощряет брак — культ зачастую заставляет относиться к членам семьи как к врагам.
Разумеется, это не весь перечень отличий, нет необходимости углубляться в их более широкую иллюстрацию. Отметим лишь, что молодые верующие из традиционных религий проявляют большую веротерпимость и толерантность к инакомыслию, чем адепты нетрадиционных деструктивных культов. Напротив, представители нетрадиционных религий обладают меньшей веротерпимостью и толерантностью, при значительном самомнении они часто нивелируют ценность иных форм мировоззрения. Понятно, что подобная позиция влечет за собой очаги социальных напряжений. Логично предположить, что поднимая вопрос о толерантном сосуществовании в поликонфессиональном мире, необходимо иметь в виду прежде всего традиционные формы религий, вплетенные в этнокультурную традицию народа. Отсутствие толерантности представителей традиционных религий Башкортостана (ислама и православия) к нетрадиционным, в известной мере оправдано. Трудно позитивно и терпимо относиться к организациям, ориентированным на подрыв социальной стабильности и культурных устоев. Можно было бы пойти дальше, утверждая, что реализация принципа межконфессиональной толерантности не должна распространяться на нетрадиционные религии, однако сделать это невозможно в силу имеющейся законодательной (международной и российской) базы, не дающей возможности однозначного правового обоснования подобного рода дифференциации.
Существуют также и проблемы, связанные с однозначным взглядом на традиционные религии. Есть все основания считать, что традиционная религия может оставаться традиционной только в рамках собственного культурного окружения. Вне своего географического ареала она перестает быть традиционной, рискует превратиться в очаг сепаратизма, деструкции, культурной аномалии. В услови- ях, где мировое пространство поделено между мировыми религиями, конфессия, нарушающая этот хрупкий баланс, может, с одной стороны, спровоцировать конфликт, а с другой — она «не впишется» в семиосферу культуры, которая сформирована другой доктриной. Она будет существовать в обратном порядке духовной и общественной жизни, выполнять энтропийную, деструктивную функцию. Известно, что конфессиональные экспансии прошлых времен сопровождались насилием. Сейчас такие идеи могут привести к еще более глобальным, разрушительным последствиям. Время дележки мира по конфессиональному принципу прошло. Любая форма духовной экспансии, пусть даже со стороны традиционной религии (даже в «мягкой форме»), может привести к непредсказуемым последствиям.
Таким образом, проблемный аспект межконфессиональной толерантности состоит в том, что при всей актуальности и необходимости постановки вопроса при ближайшем рассмотрении он представляется более сложным, чем на первый взгляд. Реализация принципа толерантности требует очень сбалансированных решений, анализа проблемных точек, выработки продуманной стратегии и мер.
Необходимо отметить, что неправильное употребление самого понятия «межконфессиональная толерантность» уже может быть опасным. В настоящее время как никогда остро стоит необходимость его отчетливой верификации. Следует отталкиваться от определения толерантности как таковой, предусматривающего не столько бездумное терпение и пассивное согласие, сколько рефлексию необходимости, активную позицию. Толерантность — это также способность сохранять свою структурную организацию и быть устойчивым к воздействиям. Это оппонирует идеям экуменизма и синкретизма, которые часто подмешиваются в понимание межконфессиональной толерантности. Столкнувшись с экуменизмом и синкретизмом, религиозно-культурная система воспримет это как экспансию и неминуемо даст защитную реакцию, поэтому позиция межконфессиональной толерантности должна включать сохранение догмато-идеологической идентичности, не допускать ее размывания.
Среди перечня мер на пути к реализации межконфессиональной толерантности необходимо выделись пропаганду этой идеи. Говоря о пропаганде, подразумевают соци- альный ареал, на который она направлена. Без конкретной адресной направленности она имеет риск превратиться в идеологический фетиш, принять контрпродуктивный характер. Учитывая интерес молодежи к религии, присущей данному возрасту тенденции к актуализации межгрупповых антагонизмов, сензитивности к манипуляционным воздействиям вообще и на религиозной почве в частности, считаем особо важной вести пропаганду в рамках молодежной среды. Помимо адресного характера пропаганда межконфессиональной толерантности должна учитывать ситуативный аспект, осуществляться в рамках конкретных, меняющихся условий и актуальности. В силу невысокой распространенности нетрадиционных культов и их сильных отличий друг от друга, пропаганду веротерпимости мы считаем возможным вести прежде всего в среде верующих традиционных конфессий.
Необходимость такого подхода отражает реалии нашей страны, находящейся в пределах широкого ареала миров традиционных религий. Возникновение напряженности и конфликта между ними недопустимо в силу катастрофических последствий. Что касается нетрадиционных религий, при необходимости можно ограничиться нивелированием опасных издержек, связанных с возможностью поиска «религиозных отщепенцев» из среды сектантов. Подобный подход дает возможность не нарушать международное и федеральное законодательства, которые отстаивают тезис «свободы вероисповедания». Важно правильно расставить приоритеты, не профанировать идею толерантности, предотвратить возможность распространения этого принципа на сугубо деструктивные секты и радикально настроенные религиозные движения.
Список литературы Межконфессиональное восприятие современной молодежи
- Курачев Д.Г. Перцептивная сторона межконфессионального общения молодежи. Уфа, 2004.
- Агеев B.C. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. М., 1990.
- Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб., 2001. С. 293.
- Dubrow-Eichel S.K. Deprogramming: A Case Study // Cultic Studies Journal. 1989; Джиамбалво К. Консультирование о 170 Д.Г.Курачев 171 выходе. Семейное воздействие / Отв. ред. и сост. Е.Н.Волков. Н.Новгород, 1995; Волков Е.Н. Методы вербовки и контроля сознания в деструктивных культах // Журнал практического психолога. 1996. № 3. С. 76-83. Он же. Преступный вызов практической психологии: феномен деструктивных культов и контроля сознания // Там нее. № 2. С. 87-94.
- Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991. С. 131, 172; Он же. Психология бессознательного. М., 1994; Он же. О поисках восточных религий и философий. М., 1994.