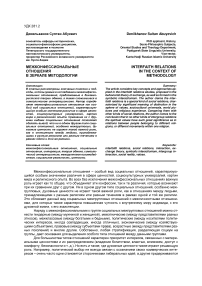Межконфессиональные отношения в зеркале методологии
Автор: Денильханов Султан Абуевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 5, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены ключевые понятия и подходы, используемые в исследовании межконфессиональных отношений, предложенные в бихевиористской теории обмена, а также сложившиеся в символическом интеракционизме. Автор определяет межконфессиональные отношения как особый вид социальных отношений, характеризующийся особым значением различия в сфере ценностей, социокультурных универсалий, картин мира и религиозного опыта. Сравнение их с другими видами социальных отношений позволяет сделать вывод, что ни в одном другом типе социальных отношений, особенно межгрупповых, духовные ценности не играют такой важной роли, как в отношениях между людьми, принадлежащими к разным религиям или разным течениям в рамках одной и той же религии.
Межконфессиональные отношения, социальные отношения, интеракция, теория обмена, символический интеракционизм, межгрупповое взаимодействие, социальная реальность, ценности
Короткий адрес: https://sciup.org/14938166
IDR: 14938166 | УДК: 281.2
Текст научной статьи Межконфессиональные отношения в зеркале методологии
Межконфессиональные отношения – особый вид социальных отношений, характеризующийся особым значением различия в сфере ценностей, социокультурных универсалий, картин мира и религиозного опыта. Во всех без исключения межконфессиональных отношениях важную роль играет как то общее, что объединяет эти конфессии, так и те различия, которые возникают при их сравнении друг с другом. Ни в одном другом типе социальных отношений, особенно межгрупповых, духовные ценности не играют такой важной роли, как в отношениях между людьми, принадлежащими к разным религиям или разным течениям в рамках одной и той же религии. Это сближает данный вид социальных межгрупповых отношений с межличностными отношениями, для которых также характерна повышенная чуткость к внутреннему миру индивида, к его духовной жизни, к его экзистенции.
Наряду с межконфессиональными к группе социальных межгрупповых отношений можно отнести гендерные (между мужчиной и женщиной), межэтнические (между представителями разных этносов), межклассовые (между богатыми и бедными), политические (между носителями политических интересов, иногда совпадающих, иногда отличных), экономические (между хозяйствующими субъектами), правовые (между субъектами права), возрастные (между представителями разных поколений) и многие другие. Собственно, любая стратификация, разделяющая социум на группы, дает основания для выделения особого типа отношений между данными группами.
Для большинства типов отношений характерен приоритет интересов, связанных с материальными ценностями и их распределением (владение богатством, властью, влиянием, доступ к комфорту, безопасности и т. д.). Но есть и такие, где духовные ценности также играют решающую роль. Например, политический выбор не всегда связан с осознанием своих коммерческих интересов – очень часто одни становятся сторонниками либеральных идей, а другие придерживаются консервативных взглядов по причине принятой ими системы ценностей даже вопреки собственным интересам или интересам собственного класса. Широко известны примеры, когда в процессе революционной борьбы большевики находили поддержку у отдельных представителей промышленников и капиталистов, таких как Савва Морозов, несмотря на провозглашенные ими и впоследствии реализованные цели уничтожения капитализма, завладения богатством и т. п. Стремление к справедливости, к переустройству мира на иных ценностных основаниях оказывается в данном случае сильнее классовых и собственных интересов.
Не менее важным фактором межгруппового взаимодействия, наряду с рациональными предпочтениями, целями и ценностями, выступает иррациональное чувство, которое может принимать самые разные значения: от интереса, уважения и даже восхищения до страха, неприязни и даже ненависти. Поисками причин возникающих и существующих фобий подобного рода занимаются специалисты в области социальной психологии и этнопсихологии, тогда как на стадии поисков путей преодоления оных к ним активно подключаются философы. При этом крайне важно различать два уровня взаимодействия: личностный и групповой. Данное различение позволяет выявить и описать три вида взаимодействия: межличностный, межгрупповой и личностно-групповой. Каждый уровень имеет важное значение при изучении межконфессиональных отношений, а межконфессиональные отношения во многом определяются внутриконфессиональными. Так, в современной России разные конфессии представлены различными по своему социальному строению группами - одни более сплоченны, тогда как другие менее ощущают свою причастность к группе. Различия также могут проявляться в том, какое место религия занимает в жизни представителей этих групп, насколько они затронуты процессами социальной модернизации и детрадиционализации. Все это актуализирует рассмотрение социологических и социально-психологических теорий взаимодействия, а также теорий социальных групп с целью философско-методологической рефлексии над частнонаучным и общенаучным уровнями методологии.
Среди теорий социального взаимодействия сегодня доминируют теория обмена, теория символического взаимодействия и теория управления впечатлениями. Теория обмена связана с идеей, согласно которой социальное взаимодействие есть разновидность общения, в ходе которого индивиды обмениваются не материальными вещами, а различными символическими предметами, значениями, жестами или символами. Несмотря на разнообразный вес этих значений, они могут быть разделены на «поощрения» и «наказания». Социальные поощрения и социальные наказания могут быть выражены разными жестами, главное, чтобы участники одинаково понимали значение этих жестов. «Социальное поведение, - пишет основоположник теории обмена Дж. Хо-манс, - представляет собой обмен ценностями, как материальными, так и нематериальными, например знаками одобрения или престижа. Люди, которые многое дают другим, стараются получить многое и от них, и люди, которые получают многое от других, испытывают с их стороны воздействие, направленное на то, чтобы они могли получить многое от первых» [1, с. 90-91].
Данная теория обладает немалым объяснительным ресурсом, потому что позволяет выявить некие универсалии взаимодействия индивидов на микроуровне. Она же помогает понять, каким образом может строиться стратегия нахождения взаимопонимания между представителями разных групп, если они настроены на конструктивное взаимодействие. Никакие разногласия или, наоборот, взаимные симпатии не способны повлиять на универсальную схему обмена, только вот ведут ли они к конструктивному сотрудничеству или нет, зависит от содержательной стороны обмена и от других факторов, которые эта схема не учитывает. Правда, в более поздних работах Дж. Хоманс и его последователь П. Блау все больше внимания уделяли прежнему опыту, что позволило им сделать теорию гораздо менее схематичной: взаимодействие индивидов действительно зависит от их прежнего опыта и от рационального рассмотрения возможных выгод и потенциальных затрат [2, с. 7-29].
Как известно, прежний опыт может быть как негативным, так и позитивным. Более того, именно он является определяющим при установлении правил обмена. Но под прежним опытом следует понимать не только индивидуальный опыт, во многом носящий случайный характер, но и коллективный, который зачастую аккумулирует все негативные моменты прошлого и формирует коллективную память. Изменение этого опыта путем внешнего воздействия возможно, но для этого необходимо совместное желание преодоления сложившейся ситуации. При этом радикально изменяется характер и содержание того, что называется поощрением и наказанием. Мы вступаем в сферу действия двойной символизации - сакральное для одной конфессии может не быть таковым для другой, что превращает его либо в объект уважения, либо в объект насмешки со стороны представителей другой религии. В первом случае можно говорить о социальном жесте поощрения, а во втором - наказания, что и детерминирует ответные реакции: на поощрение мы отвечаем поощрением, а на наказание - наказанием.
Основатели теории обмена предусмотрели законы, которым подчиняется данное явление. Главным законом здесь становится закон соответствия: обмениваемые друг на друга поощрения и наказания должны быть равными или, по крайней мере, соразмерными. Справедливость должна быть соразмерна силе, а все случаи отклонения от норм справедливости должны вызывать реакцию власти в виде противодействия. И, наконец, многочисленные акты обмена образуют цепи или сети. Между сетями постепенно устанавливается баланс, который поддерживает социальный порядок, укрепляет социальные институты, формирует систему ценностей и механизмы их оценки, обмены создают стимулы к укреплению структур и институтов, а их отсутствие ослабляет их.
Любопытны и причины, которые затрудняют, в соответствии с рассматриваемой теорией, саму возможность осуществления обмена и тем самым нарушают равновесие социума, ставят под сомнение его дальнейшее существование. В случае, когда одна сторона не в состоянии предложить к обмену эквивалентное вознаграждение за предложенный предмет (уважение, любовь, труд, материальные ценности), она вынуждена компенсировать это насилием или обманом. В отдельных случаях обмен замещается «долговыми обязательствами», а в качестве гаранта выступает общество, то есть социальный порядок. Действительно, социальное равновесие может оказаться настолько ценным, что одна из сторон будет вынуждена принять неэквивалентный обмен.
В теории обмена рассматриваются случаи внутригруппового и межгруппового взаимодействия. Согласно приведенной схеме индивиды выбирают ту группу, в которой они рассчитывают получать максимальные вознаграждения в обмен на предлагаемые ими «товары», таким образом, выбор группы осуществляется в условиях свободного рынка. Это хорошо подходит для объяснения выбора профессии, хотя и здесь определенное влияние родителей имеет место быть. В выборе конфессии мы не можем считать метафору рынка удачной, по крайней мере для большинства обществ и на протяжении предельно долгих промежутков времени господствовало влияние традиции, социума, родителей и этноса. Хотя случаи перехода из одной веры в другую существовали всегда, но вряд ли стоит здесь употреблять термин «вознаграждение». Во всех остальных случаях теория обмена работает лучше, хотя и там существуют оговорки. Одна группа бывает рядом, а для того чтобы стать членом другой, индивиду приходится проделывать немалый путь и в прямом, и в переносном смысле этого слова.
Возвращаясь к предложенной схеме, необходимо отметить как удачный ее элемент рассмотрение генезиса отношений с членами группы рекрутируемого в ее ряды индивида. Теория обмена формулирует условия принятия в группу таким образом, что стремящийся стать членом группы индивид первым предлагает свои вознаграждения и убеждает, что способен их предоставить. После получения обещанных вознаграждений члены группы «платят» индивиду подтверждением его принятия в свои ряды. На практике для индивида это выглядит как статусный переход, то есть переход от статуса незнакомца к статусу знакомого, от статуса постороннего к статусу полноправного члена, «своего». Для этого индивиду надо продемонстрировать не только желание, но и основательное знакомство с условиями пребывания, а также принятие известного снижения прав, предполагаемое статусом новичка. Это снижение компенсируется получением новых прав, которыми не располагает «чужак». Поэтому индивид, стремящийся стать членом группы, в отличие от уже укоренившихся в ней, обычно не демонстрирует свои преимущества, а делает акцент на своих слабостях.
Все это крайне важно для внутриконфессиональных отношений, но может быть значимо и для межконфессиональных. На внутригрупповом уровне мы наблюдаем влияние самых разных факторов и тенденций. Теоретики обмена указывают на активное влияние двух процессов: борьбы за лидерство и стремления старых членов группы получить или сохранить привилегированное положение в группе. Все это, конечно же, применимо к группе верующих, потому что в ней действуют те же социальные законы, что и в любом другом коллективе. Каждый новый член группы, надеясь на признание, оказывается в ситуации, когда предлагаемые им вознаграждения становятся «разменной монетой» в борьбе за лидерство внутри самой группы.
Не менее, а может быть, и более влиятельным направлением, претендующим на роль теоретической конструкции, объясняющей межиндивидуальное, внутригрупповое и межгрупповое взаимодействие, выступает символический интеракционизм. Это направление сформировалось благодаря усилиям Дж.Г. Мида и Г. Блумера. Главной его идеей является мысль о том, что объяснение взаимодействия людей между собой основывается на выявлении содержания тех знаков и символов, которые они подают друг другу. Знаки и символы важны потому, что они подводят нас к смыслу человеческого действия, который связан со смыслом жестов, которыми он символически обозначает свое отношение к другим людям – участникам взаимодействия. «Смысл возникает и располагается в пространстве отношения между жестом данного человеческого организма и последующим поведением этого организма, возвещенным другому человеческому организму посредством этого жеста. Если этот жест возвещает, таким образом, другому организму последующее (или результирующее) поведение данного организма, то он обладает смыслом. Другими словами, взаимоотношение между данным стимулом – как жестом – и последующими фазами социального действия, ранней (если не начальной) фазой которого он является, составляет пространство, в котором зарождается и существует смысл» [3, c. 117].
Поэтому, согласно данному подходу, главной является мысль о том, что люди способны к взаимодействию благодаря идентичному пониманию символов, которые содержат в себе социальные действия. Действиями здесь можно называть любые формы социально значимой активности. Социально значимая активность не всегда совпадает с физической активностью. Иной раз подать другому человеку руку для приветствия означает отказ от активности и «несовершение» социально значимого действия, тогда как отказ подавать руку может означать активную жизненную позицию (выражение презрения, разрыв отношений, исключение из числа «рукопожатных»). Для второго часто требуется мужество, а первое оказывается признаком личной слабости.
Аксиомы символического интеракционизма сводятся к трем утверждениям:
-
– индивиды в процессе социального взаимодействия оперируют не предметами, в отличие от действий, направленных на природную реальность или искусственно созданный технический мир, а значениями, которые эти предметы имеют как для самого индивида, так и для других членов интеракции;
-
– значения, которые предметы имеют для людей, должны рассматриваться как производные от самого социального взаимодействия и вне его не имеют значения;
-
– продуцирование, репродуцирование, консервация, трансформация значений предметов и самих социально значимых действий тесно связаны с процессами интерпретации, которые протекают параллельно и связаны с интеллектуальной и вербальной активностью всех участников социальной интеракции.
Приведенные выше аксиомы позволяют представить социальную реальность как сложную конструкцию, один слой которой составляют действия людей, второй – их намерения. Первый слой соответствует социальной действительности, тогда как второй относится к сфере актуального. Именно этот образ реальности рождается из философско-методологической рефлексии над теоретическими основаниями символического интеракционизма. Он значительно сильнее бихевиористской теории обмена, где поощрения и наказания представлены одномерным миром акций обменного характера. В символическо-интеракционистской модели деятели не только действуют, но и думают. Конечно же, мысли должны отражать действия или предвосхищать их, но для описания акций и интерпретаций нужна совершенно отличная логика. Некоторые действия осуществляются по привычке, то есть в соответствии с хабитусом, тогда как другие нельзя совершить без предварительной проработки и последующей оценки. И планирование, и оценка предполагают интерпретацию и в некоторых случаях рефлексию, то есть осуществляются по законам коммуникации. Именно в таких действиях содержится осмысление результата поступка в соотнесении с его намерением, которое обычно связывают со знаками и символами, сопровождающими действие.
Особое значение все вышеизложенное имеет для формирования современной теории личности. В условиях данной коммуникативной стихии, рождающей двухуровневую реальность (намерений и действий) для взаимодействия и взаимопонимания, крайне важно уметь ставить себя на место другого. Это же качество является необходимым условием для конструктивного развития межгрупповых отношений и в первую очередь той их разновидности, которую мы именуем межконфессиональными отношениями. Это условие заключается в необходимости непрерывно контролировать свои собственные действия и действия других участников взаимодействия с тем, чтобы непрерывно интерпретировать их.
Для символического интеракционизма характерно различение двух модусов существования личности, что обозначается понятиями «I» и «Me». Согласно этому различению «внутреннего строения “Я”, состоящего из двух подсистем – “I” (автономное образование, отражающее индивидуальность и своеобразие каждого человека) и “Me” (совокупность интернализованных индивидом установок других, социальная сторона “Я”), за выбор той или иной стандартизированной возможности, внесение изменений в структуру взаимодействия отвечает “I” – источник творчества, оригинальности и непосредственности» [4, c. 193]. Из постоянно протекающей координации этих двух начал рождается социальная реальность и как субъективная, и как объективная компоненты единой реальности.
В социальной группе постепенно формируются искусственные объекты, которые имеют символическую природу. Для того чтобы значение этого объекта для всех членов группы сохранялось неизменным, существуют коллективная память, групповое сознание и социализация. В процессе социализации вновь прибывшие индивиды приобщаются к набору значений, они учатся распознавать символы-объекты и адекватно реагировать на них. Так индивидам удается предполагать тот контекст, в который они будут мысленно помещать любые свои действия, перед тем как вознамерятся совершать их. Одна из важнейших идей символического интеракционизма состоит в том, что структура «Я» есть копия системы интеракций и ее системной структурации. Эта же идея позволяет составить схему интериоризации социального контроля, то есть его транзиции в самоконтроль. Такое преобразование внешнего во внутреннее рассматривается психологами как формирование личности, а социологами – как переход от одной системы интеракций к другой.
Для социальной философии важнее всего понимание того, как происходит становление социальных отношений, детерминированных различными институциями. Здесь проблема междисциплинарности оказывается не только методологической, но и онтологической и даже эпистемологической. Вопрос о соотношении социальной и психологической природы в структуре личности обретает бытийное измерение. Но для методологии здесь важнее всего понять, как исследовать влияние психических процессов на принятие решения или реакцию, значимые в процессе межгрупповых отношений. Конкретизация полученных решений в сфере межэтнических отношений также таит немало скрытых трудностей, потому что действия верующих людей невозможно адекватно исследовать одними лишь средствами социологии или психологии, не говоря уже о религиоведении. Необходимы дополнительные познавательные средства, которые предоставляют социальная феноменология, теория управления впечатлениями и этнометодология.
Ссылки:
-
1. Хоманс Дж. Социальное поведение как обмен // Современная зарубежная социальная психология. М., 1984.
-
2. Блау П.М. Различные точки зрения на социальную структуру и их общий знаменатель // Американская социологическая мысль: Тексты. М., 1996.
-
3. Мид Дж.Г. От жеста к символу // Мид Дж.Г. Избранное : сб. пер. М., 2009.
-
4. Бороноева Д.Ц. Субъект и этничность в символическом интеракционизме // Известия Томского политехнического университета. 2011. Т. 319. № 6. С. 190–194.
Список литературы Межконфессиональные отношения в зеркале методологии
- Хоманс Дж. Социальное поведение как обмен//Современная зарубежная социальная психология. М., 1984.
- Блау П.М. Различные точки зрения на социальную структуру и их общий знаменатель//Американская социологическая мысль: Тексты. М., 1996.
- Мид Дж.Г. От жеста к символу//Мид Дж.Г. Избранное: сб. пер. М., 2009.
- Бороноева Д.Ц. Субъект и этничность в символическом интеракционизме//Известия Томского политехнического университета. 2011. Т. 319. № 6. С. 190-194.