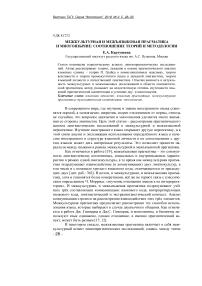Межкультурная и межъязыковая прагматика и многоязычие: соотношение теорий и методологии
Автор: Картушина Елена Александровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории и истории языка
Статья в выпуске: 2, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена теоретическому аспекту лингвопрагматических исследований. Автор рассматривает теории, лежащие в основе прагматического анализа языковых единиц - теория П. Грайса о коммуникативных максимах, теории вежливости и теории промежуточного языка в западной лингвистике, теории языковой личности в отечественной лингвистике. Отмечая важность и актуальность межкультурных и межъязыковых исследований в области лингвистической прагматики, автор указывает на недостаточную степень изученности языковой прагматической компетенции в условиях дву- и многоязычия.
Языковая личность, языковая прагматика, межкультурная прагматика, прагматическая компетенция, многоязычие
Короткий адрес: https://sciup.org/146281371
IDR: 146281371 | УДК: 81''272
Текст научной статьи Межкультурная и межъязыковая прагматика и многоязычие: соотношение теорий и методологии
В современном мире, где изучение и знание иностранного языка становятся нормой, а моноязычие, напротив, скорее отклонением от нормы, отнюдь не случайно, что вопросам двуязычия и многоязычия уделяется много внимания со стороны лингвистов. Цель этой статьи – рассмотрение прагматического аспекта лингвистических исследований в межкультурной и межъязыковой перспективе. Изучение иностранного языка открывает другую перспективу, и в этой связи анализ и экспликация использования определённого языка в качестве иностранного в структуре языковой личности в их сопоставлении с другим языком может дать интересные результаты. Это позволяет провести параллели между языками в рамках межкультурной и межъязыковой прагматики.
Как отмечается в работе [19], межъязыковая прагматика – это совокупность лингвистически, когнитивных, социальных и внутриязыковых характеристик в рамках одной лингвокультуры, в то время как межкультурная прагматика подразумевает взаимодействие (в коммуникации) двух лингвокультур, в том числе и с помощью третьего языкового кода, отличающегося от предыдущих двух [цит. раб.: 362]. В целом, и межкультурная, и межъязыковая прагматика, хотя и становятся более конкретными, всё же не теряют связь с классическим определением Ч. Морриса: «изучение отношения знаков к их интерпретаторам». И межкультурная, и межъязыковая прагматика подразумевают учёт всех трёх составляющих коммуникации: языкового кода, интерпретирующих языкового кода, лингвистический и экстралингвистический контекст. Анализ коммуникации строится на рассмотрении взаимодействия этих трёх элементов. Межкультурная прагматика предполагает рассмотрение тех способов использования языка, которые выбирают в случае двуязычного общения. Как отмечается в работе Дж. Гамперца и Дж.С. Гамперца, и монолингвы, и билингвы используют язык одинаково, однако отношение, а именно прагматический аспект, может быть разным [17; 12].
В некотором смысле, межъязыковая прагматика включает в себя межкультурный аспект линвопрагматических исследований, однако, между этими - 28 - двумя подходами есть небольшое различие. Как отмечается в работах Д. Боксер [12], межъязыковая прагматика касается освоения и изучения прагматических норм другого языка. В то же время межкультурная прагматика «принимает во внимание, что представители разных (социальных, языковых) сообществ в процессе коммуникации (в устной или письменной формах) придерживаются норм и правил, принятых в рамках данного сообщества, в результате чего возникает несовпадение ожиданий и, зачастую, искажённое представление о представителях другого сообщества» [12; 151]. Межкультурный аспект лингвопрагматических исследований, таким образом, является частью межкультурных исследований и ставит во главу угла изучение разных типов речевых актов в разных культурах (например, реализация категории вежливости в разных языках).
Уровень владения другим языком может играть не такую существенную роль – любое взаимодействие с иной культурой может заставить изменить или «пересмотреть отношение» к своей собственной. Например, использование в речи местоимения «мы» в русском языке, в силу интерферентных явлений, может проскальзывать и в речи русскоязычных на английском языке. На вопрос «What did you do on weekend?» русскоязычный скорее ответит «We went to the cinеma» вместо «Me and my friend (my wife, boyfriend, husband) were at the cinema» . Так, при опросе студентов бакалавриата и магистратуры филологического факультета (всего 176 опрашиваемых), изучающих английский язык достаточно продолжительное время, только 14 % при ответе на вопрос использовали местоимение «me» или указание другого ( my mom, my ex-classmates ) в препозиции к местоимению «I» при ответе на данный вопрос, хотя именно эти варианты и являются правильными, а использование местоимения « we » в данном случае соответствует отношению к себе как представителю избранного сообщества ( royal we ).
Типичная ошибка использования выражения to be fed up в значении ‘насытиться’ порой вызывает удивление у носителей английского языка, поскольку эта фраза вообще не может использоваться в такой ситуации (сравним русское «сыт по горло» ). В этом и заключается актуальность исследования межкультурной и межъязыковой прагматики.
Неслучайно в этой связи расширение предмета и методологии в рамках изучения прагматического аспекта языка, который, на данный момент, включает в себя три аспекта:
-
• первый, традиционный аспект языковой прагматики, основывается на теории речевых актов, теории прагматического переноса и подразумевает использование метода сбора данных, анкетирование и ряд других;
-
• второй аспект языковой прагматики ставит во главу угла социокультурный и когнитивный подходы;
-
• третий аспект охватывает исследования дискурса в сфере информационных технологий (что включает в себя корпусную лингвистику и общение в социальных сетях).
В определённом смысле, эти направления исследования языковой прагматики отражают и историю, этапы развития названных направлений. Например, исследования в рамках второго направления были достаточно популярны в конце прошлого, начале нынешнего столетия. Социокультурный и - 29 - когнитивный подход лингвистической прагматики включает в себя анализ изучения иностранного языка, рассмотрение того, как инофоны понимают и воспроизводят речевые акты на иностранном языке и как их прагматическая компетенция развивается с течением времени.
Относительно теоретических основ межъязыковой прагматики можно выделить различия в западной и российской лингвистических традициях.
В западной традиции в качестве теоретико-методологической основы межъязыковой прагматики выступают три теории [19].
-
• Теория импликаткур и максим коммуникации П. Грайса [19]. Согласно данной теории, коммуникации основывается на четырёх основных принципах (максима количества (полноты) информации; максима качества информации; максима отношения (релевантности); максима способа выражения (манеры).
-
• Теория вежливости П.Брауна и С.Левинсона, предполагающая разные виды вежливости (позитивной и негативной), в зависимости от тех «лиц» или «ликов», которые примеряют на себя говорящий и слушающий [13].
-
• Теория (гипотеза) промежуточного языка. Эта теория в большей степени соотносится с изучением второго иностранного языка и предполагает создание некоторого промежуточного языка в сознании инофона как неизбежный этап в изучении иностранного языка. Согласно данной гипотезе, инофон, под влиянием своего родного языка, создает высказывания, которые не характерны для иностранного языка [21].
Названные теории, хотя всегда традиционно упоминались при рассмотрении (меж)языковой прагматики, подвергались и критике. В частности И. Кечскес [18] утверждает, что теория прагматики, как языковой, так и культурной, в большей степени соотносится лишь с одной или, при компаративных исследованиях, двумя лингвокультурами. Более того, эти теории (максим П.Грайса, теория вежливости и теория промежуточного языка) предполагают относительную независимость, изолированность культурно-языковых систем, а их взаимодействие между собой, в некоторой степени, остаётся за рамками этих теории и носит второстепенный характер.
Универсальность принципов (в частности, принципа кооперации) также подвергается сомнению в работе [15] исследователями межъязыковой прагматики В качестве одного из доводов К. Годдард и А.Вежбицка приводят результаты анализа, показывающего относительность и специфичность понимания принципов истинности и уместности в определённом лингвокультурном сообществе [15; 255].
В лингвистике теория «промежуточного языка» как описывающая процесс освоения второго иностранного языка в совокупности семантических и прагматических характеристик также не осталась без критических замечаний в отношении логичности и связанности ключевых положений. Согласно этой теории, промежуточный язык, в определённом смысле, «прокладывает маршрут» от одного языка к другому, к постепенному овладению прагматической компетенцией второго языка. Однако это положение, в свою очередь, порождает много вопросов, относящихся к сфере теории двуязычия и многоязычия. Ф. Гросьен, в противовес данной теории, утверждал: «билингв не состоит из - 30 - двух монолингвов» [16: 470]. В итоге, как отмечается в работе [18], гипотеза промежуточного языка в большей мере соотносится с различием между языками и прагматическими особенностями, чем со сходством, и в меньшей степени касается межкультурных характеристик.
Недостаток данной теории, заключающийся в её сосредоточении на языковых и социокультурных аспектах использования и развития языка, не учитывает когнитивные и концептуальные аспекты ментальной репрезентации языковой системы. Эта теория, предполагая образование никоего «меж-языка», вторичного языка, исключает саму возможность существования уникального симбиоза двух языков в сознании билингва.
В этой связи вполне справедливо замечание в работе Д. Девидсона, что, поскольку окончательная цель развития «промежуточного языка» – это формирование такой прагматической компетенции, которая близка к знанию родного языка, нельзя исключить формирование и вторичной концептуальной системы. Переключение языковых кодов, согласно данной теории, соответственно, подразумевает и переключение с одной концептуальной системы на другую [14]. Однако исследования Д. Дейвидсона, М. Парадиса показали, что в случае двуязычия и многоязычия формируется одна концептуальная система [цит. раб.: 20].
В российской лингвистике в качестве методологической основы исследований межкультурной и межъязыковой прагматики всё более распространённой становится теория языковой личности (Н.C. Котова [6], А.Г. Салахова [11], Е.В. Кобец [5], Т.В. Марченко [9]). Выбор данной теории в качестве таковой обусловлен самой структурой данного термина, а именно – трёмя уровнями языковой личности, выделенными Ю.Н. Карауловым [4]: семантическмм, индивидуальным (включающим индивидуально-когнитивный опыт), коллективным (имеющим социально-культурную обусловленность). Эти три аспекта не могут рассматриваться по отдельности, а, напротив, являются взаимообу-словливающими и перетекающими друг в друга, что позволяет учитывать и социо-культурный, и когнитивный аспекты в ходе проведения лингвопрагматического анализа. Эта «амбивалентность» в структуре языковой личности (по терминологии Н.С. Котовой) позволяет выбрать наиболее адекватные параметры анализа [6].
Иной аспект рассмотрения межъязыковой прагматики, как отмечается в работе А.А. Залевской, – признание того, что «человек как субъект процессов именования и идентивфикации поименованного выступает как продкт взаимодействия комплекса “начал” – индивидуального и социального, чувственного и рационального, при этом и называние, и понимание всегда связаны с эмоционально-оценочным переживанием именуемого и идентифицируемого. Такой подход в коре меняет систему представлений об означивании, требуя выхода за пределы принятой “по уговору” системы значений как конечной области реализации процессов перевода знаков с учётом того, что такая система является лишь медиатором (промежуточным средством), обеспечивающим выход индивида на его образ мира, который формируется в разностороннем и многомерном личном пыте, без которого никакой знак (ни в “чистой” теории, ни в заземлённой практике) не может выполнять свои функции» [3: 28–29].
В то же время в условиях двуязычия и многоязычия исследования меж-ккультурного и межъязыкового прагматического аспекта в структуре языковой личности в большей степени касаются профессионально ориентированной компетенции (Л.В. Кушнина [7]; Н.В. Ложкина [8]; Л.В. Шухло [22]), чем собственно языковой [И.В. Анистратенко [1]; М.В. Давер, Т.В. Михеева [2]), хотя именно этот аспект наиболее актуален в условиях глобализации и полилингвизма. Это, в свою очередь, может открывать перспективы дальнейших исследований в области изучения межкультурной и межъязыковой прагматики. В качестве одного из таких аспектов изучения в этой области набирают популярность исследования в сфере лингвистического креатива [10].
Нельзя также исключать и те вызовы современности, в которых происходит функционирование языка на данный момент. В условиях многоязычия, когда расширяются и территориальные границы языков, и сферы их функционирования, внутриязыковая система не может оставаться статичной, что и требует новых методологий и/или пересмотра уже традиционных подходов к изучению языков, семантической и прагматической репрезентации языковых единиц.
Об авторе:
КАРТУШИНА Елена Александровна – кандидат филологических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, e-mail: eakartushina@pushkin. institute
Список литературы Межкультурная и межъязыковая прагматика и многоязычие: соотношение теорий и методологии
- Анистратенко И.В. Опрагматикегрупповойязыковойличности (на материале сборника статей «Изглубины»//Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты. 2008. № 11. С. 5-12.
- Давер М.В., Михеева Т.В. Развитие межкультурной компетенции стихийного билингва в процессе двуязычного обучения//Языки и культуры в современном мире. Материалы XI междунар. конф. Париж. 2014. С. 44-49.
- Залевская А.А. Семиозис в действии//Слово и текст: психолингвистический подход: сб. науч. тр. Тверь,. 2016. № 16. C. 26-34.
- Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М: Наука, 1987. 264 c.
- Кобец Е.В. Языковая личность современного политика (коммуникативные стратегии и тактики, элокутивная прагматика)//Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2013. № 3. С. 54-64.
- Котова Н.С. Амбивалентная языковая личность: лексико-функциональный аспект//Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 2010. № 1. С. 140-144.
- Кушнина Л.В. Языковая личность профессионального переводчика: когнитивный аспект//Вестник Челябинского государственного университета. 2016. № 4 (386). С. 85-88.
- Ложкина Н.В. Перевод, языковая личность и лингводидактическая компетенция переводчика//Актуальные проблемы германистики, романистики и русистики. 2014. № 2. С. 74-76.
- Марченко Т.В. Речевые стратегии и тактики гармонизации общения в поликультурной среде//Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1. С. 12-61.
- Ремчукова Е.Н. Прагматическая и эстетическая ценность «массового лингвокреатива»//Труды института русского языка им. В.В. Виноградова. 2016. Т. 7. С. 157-168.
- Салахова А.Г. Конфессиональная языковая личность: коммуникативные стратегии и тактики. Челябинск. 2013. 166 c.
- Boxer, D. Discourse issues in cross-cultural pragmatics//Annual Review of Applied Linguistics.2002. № 22. Pp. 150-167.
- Brown, P., Levinson, S. Politeness: some universals in language usage. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 335 p.
- Davidson, D. A bilingual associative dictionary of the languages of Russian and American youth//Language and speech behaviour. Journal of the linguistic society of St. Petersburg. 2005. № 7. Pp. 128-159.
- Goddard, C., Weirzbicka, A. Discourse and culture//Discourse and social interaction./Ed.by T.A. Van Dijk. London: Sage, 1997. Pp. 231-257.
- Grosjean, F. The bilingual as a competent but specific speaker-hearer//Journal of multilingual and multicultural development. 1985. № 6. Pp. 467-477.
- Gumperz, J., Gumperz, J. C. Making space for bilingual communicative practice//Intercultural pragmatics. 2005. 2 (1). Pp. 1-24.
- Kecskes, I. Multilingualism: Pragmatic aspects//Encyclopedia of Language and Linguistics. Ed. by K.Brown. Amsterdam: Elsevier. 2006. Pp. 371-375.
- Kecskes, I., Davidson, D., Brecht R. The foreign language perspective//Intercultural Pragmatics. 2005. V. 2-4. Pp. 361-369.
- Michel, P. Introduction//Aspects of bilingual aphasia. London: Pergamon. 1995. Pp. 1-9.
- Selinker, L. Interlanguage//IRAL. 1972. № 10. Pp. 209-231.
- Schychlo, L.V. Integrative approach to modelling the translation process and language personality of a translator//Фiлологiчнiтрактати. 2015. Т. 7. № 1. Pp. 67-73.