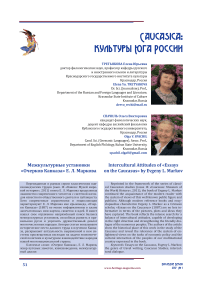Межкультурные установки "Очерков Кавказа" Е. Л. Маркова
Автор: Третьякова Елена Юрьевна, Спачиль Ольга Викторовна
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Caucasica. Культуры Юга России
Статья в выпуске: 1 (9), 2017 года.
Бесплатный доступ
Переизданная в рамках серии классических кавказоведческих трудов (вып. IX «Кавказ: Музей мировой истории», 2011) книга Е. Л. Маркова продолжила знакомство современного читателя с системой взглядов известного общественного деятеля и публициста. Хотя современные справочники и энциклопедии характеризуют Е. Л. Маркова как крымоведа, «Очерки Кавказа» (1887) не менее информативны в плане запечатленных ими картин, сюжетов и идей. В книге нашел свое отражение напряжённый поиск баланса межкультурных установок, способных развить в правильном русле и упрочить дружественный диалог многочисленных народов. Авторы статьи показывают историческое место данного труда в изучении Кавказа, раскрывают актуальность выраженной в нем системы просвещенных взглядов на задачи экономической политики и культурное взаимодействие народов нашей многонациональной страны.
Е. л. марков, жанр путевых заметок, кавказоведение, межкультурный диалог
Короткий адрес: https://sciup.org/170174787
IDR: 170174787
Текст научной статьи Межкультурные установки "Очерков Кавказа" Е. Л. Маркова
«Очерки Кавказа: Картины кавказской жизни, природы и истории» Евгения Львовича Маркова (1835-1903) увидели свет в 1887 г. [4]. Об их большом успехе в досоветское время свидетельствовало то, что они ещё дважды тиражировались (1904, 1913). Потом книга выпала из научного и читательского оборота. Недавно предпринятый многотомный проект переиздания трудов о Кавказе (вып. IX «Кавказ: Музей мировой истории», 2011 г.) [3]снова дал читателям возможность и удовольствие взять в руки интересную книгу, состоящую из небольших, в размер газетного очерка, главок, как бусины, нанизанных на нитку маршрута, пролегающего от Ростова через Кубань до Владикавказа и далее до Осетии, Грузии, Чечни, Дагестана. По доступности и живости слога очерки напоминают устный рассказ (так строились впоследствии знаменитые телевизионные эссе Ираклия Андроникова) человека, впитавшего массу самых разнообразных впечатлений от совершённой им поездки к отрогам Кавказа по территории, опоясывающей восточные берега Чёрного моря. Речевой портрет путешественника выдаёт личность образованную, жаждущую «объективного знакомства со своей страной» и её историей, отраженной в археологии, материальных и фольклорных памятниках «стомиллионного народа». Автор не устает повторять, что Кавказ – бесценный по богатству и разнообразию музей этнографических и естественно-исторических сокровищ всякого рода [3, 9], истинно вавилонское смешение языков и обычаев, результат тысячелетнего влияния друг на друга различных племён и событий, игравших роль в почтенных летописях мира [3, 127].
Не всякий гостящий в чужих краях способен мыслить так, чтобы за пёстрой канвой дорожных встреч и впечатлений просматривалось нечто общее. Интересом к этому общему и отличается внимательный к своим попутчикам и встречным путешественник. «Очерки» погружают нас в калейдоскоп многофигурного действа, где пейзажные и бытовые картины соединены с экскурсами в область легендарного прошлого. Делясь своими размышлениями о подвижках в экономическом и социальном укладе жизни степных и горных районов края, Марков пытается разомкнуть европейское соизмерение жизни, создать панораму более широкую, объемлющую звенья многовековой цепи людей и народов. Хотя настрой «Очерков
Кавказа» вовсе не патриархален, автор справедливо выступает против ломки и перемалывания векового наследия в угоду наживе и хищнической эксплуатации природных и культурных источников местного богатства. Он дорожит мыслью о том, что цивилизация, вливаясь в неосвоенные ею страны, не должна «исковеркать все доброе, что лежит в природе этих отсталых племён»:
«Поменьше грубой ломки, поменьше торопливости и выдумок, побольше терпения и уважения к исторической жизни народов – вот каков должен быть характер наших кавказских мероприятий <…> Энергия же наших правителей должна обратиться не на искусственное перекраивание существующих племён по образу и подобию нашему, а на нравственную доброкачественность тех деятелей, которых мы призываем к делу цивилизации Кавказа. Если наши интенданты, строители, управители не будут воспитывать кавказские народности в обычаях хищничества и обмана, если в лице их и подобных им не будет безнаказанно торжествовать и издеваться над правдой неправда, если источники местного богатства – земли, леса, рыбная ловля, нефтяные источники Кавказа – не будут легкомысленно бросаемы в жертву личной корысти <…> если ко всякому делу будут призываться не лесть и бездарность, а честные силы труда и знания<…> тогда можно будет сказать, что русская власть на Кавказе повела народности <…> по истинному пути просвещения и благоденствия, тогда можно будет ручаться, что Кавказские горы станут действительно русскими горами» [3, 482-484].
В свете означенных установок категория русские приобретает устойчивый смысл как призма нравственной позиции человека (личности) и эпицентр лучших чаяний стомиллионного народа.
Главная одушевляющая мысль путешествия неразрывна с описаниями просторов, которые учат щедрости и красоте: «Только побывав в счастливых далеких окраинах, где еще вода, земля и воздух не покупаются на вес золота, поймет человек не теоретической мыслью, а всеми нервами своего существа, какое великое, высокочеловеческое условие довольства и удобства заключается в свободном владении человека земной поверхностью, назначенной ему от Бога» [3, 38-39]. И фундамент культурных напластований мыслится как опора, по вечности своей подобная неколебимым природным громадам заоблачных великанов-гор.
Корень, питающий самоидентичность разноликих народностей, способных и под натиском цивилизации не стать стертой, однообразной, рабски неразвитой массой, Е. Л. Марков усматривает в нравственно здоровых началах традиционной культуры. Защищаемый им идеал неразлучен с естественными проявлениями красоты, природного ума и сноровки. Любуясь этой красотой, автор употребляет слова дикий, дичь без уничижительного оттенка ( «Поэзия пустынных гор и диких лесов, вечная борьба со зверем и с природой дороже сердцу горца, чем даже кусок хлеба» [3, с. 81]), чего не скажешь об употреблении эпитетов казённый , чиновничий , хищнический, капиталистический, характеризующих кое-как, наспех внедряемые признаки цивилизованности.
Граждански-весомое, поэтичное и целостное развитие идей межкультурного диалога характеризует Е. Л. Маркова как интереснейшего общественного деятеля и писателя. Недаром его статьи в своё время печатались «Отечественными записками» наряду с очерками Салтыкова-Щедрина и Михайловского. Публицист, литературный критик и автор художественной прозы, Марков был широко известен во второй половине XIX века [1], пользовался заслуженным уважением В. В. Розанова [7] и А. П. Чехова, который назвал его «писакой искренним и понимающим».
В одном из писем Чехова к жене, Ольге Леонардовне (от 17 янв. 1903 г.) отмечено характерное свойство путевых очерков Маркова – увлекательность, тянущая писать и странствовать: «Вчера на ночь я читал в “Вестнике Европы” статью Евг. Маркова о Венеции. Марков старинный писака, искренний, понимающий, и меня под его влиянием вдруг потянуло, потянуло!» [9, с. 127].
Путешественник наблюдает из окна вагона привычные взгляду просторы степи, южные русские города (Ростов) и сёла по берегам Дона и Кубани, их трудолюбивых обитателей - земледельцев и скотоводов. За Тереком начинается царство гор и жизнь, издревле угнездившаяся меж обрывами и подножиями снеговых вершин. По извилистым дорогам, где камень сменяется вечным льдом труднодоступных перевалов, идёт путь вверх до выдолбленных в скалах жилищ и глинобитных аулов («между горской саклей и пещерой почти нет разницы») и вниз до пышных садов, виноградников, благоустроенных усадеб и крестьянских хозяйств Имеретинской долины. По сторонам дороги то поросшие дикими травами склоны и ущелья, где кочуют отары и табуны, то непролазные чащобы, где обитают барсы, кабаны, медведи, турьи стада. В горах главная фигура – охотник и воин, ловкий наездник, приученный сызмальства к седлу.
И сделанные автором зарисовки местной жизни - отнюдь не бездумно скопированная череда сменяющихся картин, а напряжённый поиск баланса межкультурных установок, способных развить в правильном русле и упрочить дружественный диалог многочисленных народов. Хотя Россия и Кавказ в этом взаимодействии - два полюса, автор не смещает оценку увиденного и прочувствованного к одному из полюсов, не редуцирует один голос за счет другого. Ему важно показать обретённое в странствиях как глазами гостя, так и глазами завсегдатая здешних мест. Это особенно хорошо заметно в части, подытоживающей проделанный путь.
Не сомневаюсь, что то же самое чувство инстинктивной вражды и отчуждённости ко всему русскому, настолько же законное и естественное, наполняет душу какого-нибудь ингуша или чеченца, когда он проезжает в свой тихий, сердцу любезный аул через шумные улицы казачьей станицы с её пьянством и песнями…» [3, 493].
Отнюдь не шаткость авторской точки зрения отражена в таком перемещении повествовательной позиции. Свои личные убеждения Марков, учёный-естественник по образованию и активный проводник идей народного просвещения по призванию, сформировал в результате активной педагогической практики, которой отдал более полутора десятков лет жизни. Не приемля народнические взгляды на героя и толпу (концепцию, сформулированную П. Л. Лавровым и его единомышленниками), Евгений Львович в молодости заинтересовался сутью яснополянских педагогических экспериментов Л. Н. Толстого. Марков-путешественник не заглушил в себе педагогическую струнку - тот особый интерес к практикам воспитания, которые соединяют возможность естественного развития с возможностью деятельно служить благим общественным целям. Уже в ранних своих статьях он высказывался за то, чтобы не отрывать людей «от жизненной почвы»: воспитанники современной школы не должны становиться «гражданами безвоздушного пространства», подчинёнными «деспотизму книжки».
А кем же должны они стать? Ответу на этот вопрос служили практические начинания в педагогике и активное участие в книжно-журнальном процессе. Евгений Львович превращал свои путешествия по России и зарубежным странам в циклы бытовых, историко-краеведческих, пейзажных зарисовок, затрагивавших самую острую гражданскую и культурную тематику. Впервые его платформа воззрений на устройство «общественного быта» предстала читателю в «Очерках Крыма» (1874; переизд. 1884, 1902, 1911, 1913 и в 1995 г.) [5], которые ныне воспринимают как визитную карточку автора. Интернет-источники [7] характеризуют Маркова исключительно как крымоведа; в диссертации о крымском тексте русской культуры А. П. Люсый ставит «Очерки Крыма» рядом с «Севастопольскими рассказами» Л. Н. Толстого [2, с. 113].
Действительно, с 1862 по весну 1870 г. Марков занимал пост директора симферопольской гимназии и, курируя вопрос об организации народных училищ, объездил полуостров вдоль и поперёк, вникая в проблемы не только педагогической сферы. Несогласие с позицией министра образования Д. А. Толстого привело Евгения Львовича к желанию просить отставку, но летом 1870-го он откликнулся на предложение заняться организацией дел учительской семинарии на территории Кубанского казачьего войска. Поездки по городам и станицам (Пятигорск, Екатеринодар, Темрюк, Полтавская) в поисках помещения, сколько-нибудь пригодного для проведения занятий и расселения минимального состава учителей, показали, - увы! - силу чиновничьего произвола и волокиты, в которой вязнет всякое живое начинание. Неудача окончательно закрепила решение Евгения Львовича покинуть учительскую стезю. Описывая обстоятельства первого знакомства Е. Л. Маркова с Кубанью, А. И. Слуцкий подчеркнул, что в «Очерках Кавказа» ни словом не упомянуто о мытарствах, пережитых автором в августе – ноябре 1870-го [8].
Одушевляющие эту книгу установки на справедливость исторического пути, который ведёт к добрососедству, сотрудничеству и культурному взаимообогащению народов, не могут быть поколеблены мелкими обидами или временными неудачами. По искренности изложения и верности просвещённому духу позиция Е. Л. Маркова находится в русле, проложенном «Записками русского путешественника» Н. М. Карамзина, «Путешествием в Арзрум» А. С. Пушкина, кавказской прозой М. Ю. Лермонтова и Л. Н. Толстого («Хаджи Мурат», «Рубка леса» и др.). Именно Марков стал первым литературным критиком, воздавшим должное первой кавказской повести Толстого, на что справедливо указывает С. А. Венгеров: «Ему можно вменить в серьезную заслугу статью о “Казаках” Толстого. Это великое произведение в свое время (1865) прошло почти незамеченным: один только Марков по достоинству оценил всю его глубину» [1, с. 660].
В «Очерках Кавказа» запечатлено бытование культурных форм, которых нам, потомкам 130-летней давности, не пришлось видеть воочию. По окрашенности идей книга соответствует тому этапу эволюции представлений о российско-кавказском культурном диалоге, на котором уже были преодолены идеи народничества и теория малых дел, а теория классовых противоборств еще не довлела столь категорично, как после революции 1905 года.
Основным критерием доброкачественности продуманных и вдохновенно выраженных Е. Л. Марковым культурных установок, на наш взгляд, является то, что они направлены на органическое развитие национальных традиций не в ущерб ни одной из них. Эта линия как красочный и живой штрих, отнюдь не лишний в палитре этнопсихологии, привлекательна в плане реального паритета взаимодействующих культур.
Список литературы Межкультурные установки "Очерков Кавказа" Е. Л. Маркова
- Венгеров С. А.Марков Евгений Львович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. VIIIA. СПб. С. 659-660
- Люсый А. П.Крымский текст русской культуры и проблема мифологического контекста: дис. … канд. культурол. наук. Москва, 2003. [Электронный ресурс] // URL: http://dlib.rsl.ru/viewer/01002332704# (дата обращения 20.07.16).
- Марков Е. Л. Очерки Кавказа: Картины кавказской жизни, природы и истории. Нальчик: ООО «Полиграфсервис и Т», 2011.
- Марков Е. Л. Очерки Кавказа: Картины кавказской жизни, природы и истории. СПб.-М.: Тип. Товарищества М. О. Вольф, 1887.
- Марков Е. Л. Очерки Крыма. Картины крымской жизни, природы и истории. Симферополь: Таврия, 1995.
- Марков Евгений Львович [Электронный ресурс] // Википедия: сво-бодная энциклопедия. URL://http://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения 20.07.16).
- Розанов В. В. Памяти Е. Л. Маркова // Новое время. 1903. 19 мар. № 9714. С. 2.
- Слуцкий А. И.Кубанская страничка из жизни русского писателя Евгения Львовича Маркова // Журналистика: историко-литературный контекст. Вып. 1. Краснодар: Изд-во КубГУ, 1999. С. 159-168.
- Чехов А. П.Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма. Т. XI. М.: Наука, 1982. С. 127.