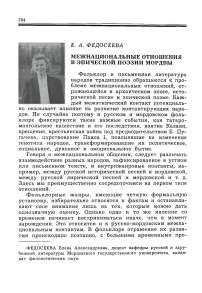Межнациональные отношения в эпической поэзии мордвы
Автор: Федосеева Е.А.
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Провинциальная культура
Статья в выпуске: 4 (57), 2006 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема межнациональных отношений в сфере этнического восприятия, отраженная в эпических фольклорных (исторических) песнях и авторских сочинениях.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222971
IDR: 147222971
Текст научной статьи Межнациональные отношения в эпической поэзии мордвы
Фольклор и письменная литература народов традиционно обращаются к проблеме межнациональных отношений, отражающейся в архаическом эпосе, исторической песне и эпической поэме. Каждый межэтнический контакт потенциаль но оказывает влияние на развитие контактирующих народов. Не случайно поэтому в русском и мордовском фольклоре фиксируются такие важные события, как татаро-монгольское нашествие и его последствия, взятие Казани, крещение, крестьянская война под предводительством Е. Пугачева, царствование Павла I, повлиявшие на изменение генотипа народов, трансформировавшие их политическое, социальное, духовное и эмоциональное бытие.
Говоря о межнациональном общении, следует различать взаимодействие разных народов, зафиксированное в устном или письменном тексте, и внутрижанровые контакты, например, между русской исторической песней и мордовской, между русской лирической песней и мордовской и т. д. Здесь мы преимущественно сосредоточимся на первом типе отношений.
Фольклорные жанры, имеющие четкую формальную установку, избирательно относятся к фактам и останавливают свое внимание лишь на тех, которым можно дать однозначную оценку. Однако одно и то же явление со временем начинает восприниматься иначе, чем в момент зарождения. Это относится и к русско-мордовским межнациональным контактам. В фольклоре отражение их развития происходило поэтапно, с большими временными про-
ФЕДОСЕЕВА Елена Александровна, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Мордовского государственного университета, кандидат филологических наук.
межутками. В советской литературе они показывались как исключительно безоблачные, доброжелательные, братские. Таким образом межнациональные отношения описаны, например, в эпической поэме В. К. Радаева «Сияжар»1 В конце XX в. в мордовской литературе появилось произведение, в котором последовательно представляется эрзяномокшанское видение сложного, неоднозначного пути складывания русско-мордовских связей, от категорического неприятия русского мира до осознания себя неотъемлемой его частью. Речь идет о «Мастораве» — книжной форме мордовского героического эпоса, в которой художественно воссоздана история эрзяно-мокшанского народа с момента возникновения государственности и до присоединения к Московской Руси2
Чтобы проследить логику развития русско-мордовских отношений, прежде всего следует обратиться к так называемому тюштянскому эпосу (возникшему приблизительно в X—XI вв.), включающему в себя семь сюжетов, из которых в контексте обозначенной проблемы интересны «Тюш-тя и мордовская история», «Тюштя и чудеснорожденный младенец», «Тюштя и сын 70-летней вдовы». Песни о Тюште имеют общую особенность: они пытаются охватить всю эрзяно-мокшанскую историю. В них повествуется о сотворении Инешкипазом мира и человека, возникновении эрзянского и мокшанского народа, об избрании инязора Тюш-ти, его царствовании и уходе за море с народом под давлением русского царя.
В песнях о Тюште русский царь — главная причина краха мордовской цивилизации, с появлением русских завершается ее Золотой век. Узнав об их приближении, Тюштя уводит народ за море, чтобы спасти его от истребления. Бегство инязора, кажется, противоречит логике его образа, поскольку он наделен своими богами могучей силой и невероятными способностями, позволяющими справиться с любым противником. Почему же Тюштя без боя отдает свою землю? Ответ на этот вопрос дает в исследовании «Мордовский героический эпос: сюжеты и герои» А. М. Шаронов. Тюштя принимает решение об уходе, руководствуясь знамением, посылаемым Инешкипазом: на мордовской земле вырастает береза, означающая скорое наступление рус- ского царя. И инязор должен либо покориться ему, либо уйти на новую землю. Тюштя предпочитает второе. Все свои поступки он соизмеряет с волей неба и ведет себя не как обыкновенный человек, а как божий посланник, который делает то, что ему предписывается богами. В решении Тюшти не вступать в борьбу с русским царем сказывается и логика здравого смысла. При его принятии авторы песен руководствовались не только эпическим, но и конкретноисторическим мышлением, учитывающим реальные факты, которые свидетельствовали: эрзянам и мокшанам не отстоять своей национальной и территориальной независимости в борьбе с русским государством3. Заметим, что в мордовском фольклоре нет произведений, направленных против русских. Да, появление последних влечет за собой национальную трагедию для эрзян и мокшан, но в этом вина времени, внушают создатели песни, а не конкретного народа. Кроме того, важной причиной отсутствия в мордовском фольклоре антирусских мотивов является изначальная интегрированность мордовского мира с русским, о чем свидетельствует и летописная Пургасова Русь4
Безупречный образ Тюшти, сформировавшийся в песнях о нем, исчезает в тексте «Тюштя и чудеснорожденный младенец»5, где он выступает в роли убийцы своего потенциального противника, родившегося на берегу Суры «с железными пятками, с каменной макушкой» и ассоциирующегося с русским царем. На наш взгляд, вряд ли можно определять данный поступок Тюшти как жестокое убийство невинного. Чудеснорожденный младенец — необыкновенный беззащитный ребенок, он воспринимается как посланник небесных сил, причем враждебных мордовскому народу. Поэтому расправа, осуществленная над ним Тюш-тей, — это не убийство ребенка, а уничтожение врага и соперника, что не позволяет говорить о снижении образа инязора и его вульгаризации. Появление новых деталей в образе Тюшти связано с изменением обстановки вокруг него, обозначением новых противников, с разрушением старого идеального мира. Вообще чудеснорожденный младенец, заменяющий здесь русского царя, — новое явление в песнях о Тюште. Оно свидетельствует о том, что мифологическая традиция еще не исчерпала себя и стала вы- ражаться для воспроизведения изменившейся социально-политической и мировоззренческой ситуации в других формах, приспосабливаясь к новым обстоятельствам. Раньше правители народа рождались от браков богов с земными женщинами, теперь они появляются на свет путем непорочного зачатия. Мотив непорочного зачатия возник в фольклоре мордвы, скорее, под влиянием христианства и его следует считать сравнительно поздним явлением. Эта деталь также свидетельствует о сближении русского и мордовского миров, несмотря на то, что христианизация насаждалась официальной русской стороной и самым отчаянным образом отвергалась языческой мордвой. Однако мы видим, что время в очередной раз залечило все раны и примирило, казалось, непримиримые понятия, вписав оба народа в одно культурное пространство.
Тюштянский эпос, записанный в основном у заволжской мордвы, оценивает факт присоединения мордовских земель к русскому государству негативно. Однако в мордовском фольклоре Поволжья встречаются мотивы добровольного подчинения мордвы власти русского царя. В частности, об этом говорится в песне «На горах то было на Дятловых»6, где воспроизводится момент случайного вхождения мордвы в состав Московской Руси, произошедшего в результате легкомысленных действий «молодых ребят». Вместе с тем нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что мордва свою независимость теряет во время торжественного моления Инешкипазу, что невольно это событие исторического масштаба связывает с его именем и промыслом. Он словно благословляет своим присутствием воссоединение мордвы с Русью. В этой песне «На горах то было на Дятловых» освещается новый этап русско-мордовских отношений. Эпическое сознание вопреки историческому опыту народа и его практическому сознанию «пытается выправить изломы реального бытия, желая освятить сложнейшие отношения между Мордвой и Русью очарованием поэтической фантазии и эстетикой фольклорной гуманистической мысли. Тема мироустройства, составляющая основу героического эпоса, раскрывается в этой песне с учетом новых обстоятельств в жизни народа — вхождением его в состав Русского государства»7.
XVI в. — время активного бытования эпических форм фольклора, период формирования жанра исторической песни, объектом изображения в которой являются исторические события и лица. Как в русском, так и в мордовском фольклоре первыми произведениями нового жанра стали песни о взятии Казани. Будучи сходными по содержанию, они существенно различаются по поэтической форме, ибо форма всегда оригинальна и национальна по своей сути.
В русской песне на сюжет «Взятие Казани» главный герой — царь Иван Грозный, делающий подкоп под р. Казанку, чтобы с помощью взрыва взять непокорную Казань. Грозный в разных ее вариантах не меняется, он статичен, наделен энергичностью, гневливостью, подозрительностью, жестокостью по отношению к врагам, справедливостью и щедростью к друзьям. Эмоциональный портрет русского царя, запечатленный в фольклоре, точно отражает зафиксированный в документах исторический образ. Грозный при всей своей неоднозначности представляется как безусловный положительный персонаж. Это результат того, что, возложив на себя миссию освободителя Руси от многовекового монгольского ига и покорителя Казани, символизирующей оплот вражеской силы, он получил в фольклорном сознании индульгенцию на свои действия. Сыграло роль и то обстоятельство, что это событие имело всероссийский масштаб и воздействовало на жизнь всех россиян независимо от их социального и национального статуса. Поэтому Грозный воспринимается как народный герой, окруженный ореолом безупречности. Заметим, что здесь главное внимание обращается на национальное противостояние русских и татар, от варианта к варианту меняются лишь акценты. Иные приоритеты мы видим в мордовской песне «Самань-ка»8, созданной на сюжет «Взятие Казани», в которой ведущая роль принадлежит эрзянской девушке Саманьке, имеющей обыкновенную внешность, но незаурядный ум, чрезвычайную храбрость и происхождение из состоятельной семьи. Она критикует русского царя, сомневаясь в его полководческих способностях, заявляет о готовности в три часа покорить Казань, которая сдерживает осаду русских уже семь лет.
Мордовская песня акцентирует внимание на нравственной стороне поступка героини. В ней мы наблюдаем не национальное противостояние, а поединок единомышленников (русский царь — эрзянка), движимых одним стремлением, по завершении которого не оказывается побежденных, а итогом становится рождение сообщества народов. В большинстве русских песен идея подкопа принадлежит царю, в мордовских — ничем, на первый взгляд, не примечательной крестьянской девушке. Этот прием — выделение в качестве главного героя человека, по своим физическим данным уступающего окружающим, — встречается и в русской песне XVI в. «Кострюк»9. Здесь демонстративно умаляются физические способности героя, намеренно скрывается его готовность к совершению особенного поступка. Потанюшка, вызвавшийся бороться с богатырем Кострюком, идет «на одну ножку прихрамывает, на другую ножку припадывает, костылем подпираитце». Неожиданное открытие в процессе поединка силы и умения бороться у невзрачного соперника лишает противника уверенности и приводит его к физическому и интеллектуальному краху. Это древне-эпическая идея. Но там выделение в число главных героев человека из социальных низов означает идеализацию силы народа, здесь содержит и общественно-политический, классовый смысл: истинные защитники родины — ничем не примечательные внешне Потанюшки и Саманьки — народ.
Можно предположить возможное влияние на мордовскую песню русских былин и сказок. Из них могли прийти мотивы похвальбы девушек (на посиделках), обращение к героине, которая «сама собой маленька», как к былинному богатырю: «Ох ты, гой еси, красна девка Сашайка...», «Ох ты, красная девка Сашайка... Голова твоя с могучих плеч долой!», угроза царя казнить героиню, если она не исполнит его волю, интригующая завязка («государевы драгуны», неизвестным образом оказавшиеся в мордовской деревне, подслушивают хвастовство Саманьки), попытка царя отблагодарить девушку и отказ последней от награды и т. д. Фольклорная общность и сходство (будь они типологического или культурно-исторического происхождения) свидетельствуют о развитости народной культуры, ее интегрированности с культурами других народов, ее способности оставаться самобытной, обогащаясь заимствованными мотивами и сюжетами.
В песне «Саманька» мордва мыслит себя составной частью русского государства и именно поэтому оказывает действенную помощь Грозному в его борьбе за овладение Казанью. В том, что в «Саманьке» основная заслуга при взятии города принадлежит мордовской национальной героине, следует видеть высокую оценку мордвой своего вклада в казанскую победу, активизировавшего ее национальные и патриотические чувства. Саманька одна представляет мордву, тем не менее она реально-исторический герой, поскольку ее образ, действия, поступки конкретны, исторически правдоподобны. Предмет исторической песни, как и предмет классического эпоса, — события политической истории страны, которые изображаются не эмпирически, а с точки зрения народного отношения к ним10.
Песня о Саманьке, включенная в композицию эрзяномокшанского эпоса «Масторава», дополнена эпизодом из песни «Мурза» об испытании отцом дочерей, согласившихся вместо него отправиться на военную службу11 В нее автором эпоса введена деталь, обнажающая глубинные причины интеллектуальной состоятельности героини: из трех дочерей Вачайки Саманька — самая любимая, «самая желанная для сердца». Из свадебной обрядовой поэзии заимствован мотив омывания Саманьки в бане и облачение в наряд невесты перед отправлением на место военных действий, что говорит о готовности девушки-мордовки к любому исходу событий — ик гибели, и к торжеству. Эти сцены придают живость и реалистичность повествованию, связывают историю о Саманьке с конкретным бытом эрзянского народа. Разумеется, они целесообразны только в литературном варианте песни, где не требуется ее устного исполнения. Важно подчеркнуть, что соединение двух сю-жетно близких произведений не создает искусственную конструкцию, искажающую смысл оригинала. Напротив, введение деталей, имеющих этнический колорит и историко-бытовой характер, обогащает повествование, создавая почву для развития характера героини, усиливает звучание образа.
В основу песни «Саманька», подобно русской песне «О взятии Казани», положен мотив покорения города-крепости посредством взрыва бочек с порохом под его укреплениями. Мордовскую песню сближает с русской ее идейное содержание и жанровые особенности: сходное изображение фигуры Грозного, одобрение и активная поддержка его политики, реалистичность и конкретность в описании события и действующих лиц, верность истории, появление проблематики «царь и народ», стремление осмыслить действия героев под социально-политическим углом зрения. Это сходство настолько очевидно, что В. Ф. Миллер и А. В. Марков, рассматривая мордовскую песню, пришли к мысли, что она возникла под влиянием русской примерно в XVIII в.12 Анализ сюжета, композиции, содержания и образов мордовской песни убеждает в том, что она — самобытное произведение, а время ее возникновения — XVI в. Историческая песня современна в ней описанным событиям, она выражает народный взгляд на явления политической жизни эпохи. Сходство основного мотива русской и мордовской песен (взятие Казани посредством взрыва бочек с порохом) могло возникнуть и помимо заимствования как отражение известного для русского и мордовского народов исторического факта. В пользу этого предположения говорит и оригинальность художественной трактовки темы в произведениях.
Общность исторических судеб русских и мордвы, сложившаяся в XVI—XVII вв., выразилась и в общности песенных сюжетов, поскольку более тесным стало общение между народами на фоне одинаковых условий жизни. Одинаковые заботы, общие праздники, смешанные браки порождали не только взаимодействие культур, но и, по сути, способствовали рождению новой уникальной межнациональной культуры. Чуждое ранее русское теперь стало восприниматься мордвой как родное, зарождалось понимание общности культурных ценностей, происходило взаимопроникновение культур на бытовом уровне, то есть самым естественным путем. Сходство жизненных ситуаций предопределяло и встречные течения в фольклоре. Создалось такое положение, когда мордвин свободно мог слушать русские песни, сказки, а русский — мордовские. При таких обстоятельствах появление произведений, сходство которых обусловлено историко-типологическими и историко-культурными факторами, становилось нормой. Этот процесс отражен в русской песне о полоне «Теща в плену у зятя»13 и в мордовской «На опушке леса»14.
Явления общественной жизни оказывали значительное влияние на народную поэзию русских и мордвы, но они не обезличивали, а обогащали, наполняли новым содержанием, идеями, героями, принципиально иной идеологией и миросозерцанием произведения мордовского и русского фольклора. Отражая в нем те или иные исторические события и лица, народ дает им свою оценку, излагает свое понимание их смысла, выражает свое видение путей их развития. Каждое представляемое в песне событие трактуется с точки зрения национального и социально-политического его восприятия, а также географического положения народа, творца фольклорного текста. В русских и мордовских песнях мы видим концептуально сходное изображение исторических событий и лиц, что указывает на отсутствие полярности в восприятии мира русскими и мордвой, и они, по существу, предстают как части единого этноса. Примечательно, что это сходство присутствует в таких древних памятниках, как «Повесть временных лет» и песня об избрании Тюшти. Мотивация избрания царя, приводимая в эрзянских песнях, почти полностью совпадает с мотивацией призвания варяжских князей новгородцами. В эрзянских песнях царь избирается по той причине, что люди, не зная закона и порядка, не могут поделить леса, луга и пашни, из-за чего между ними постоянно возникают раздоры и войны. В «Повести временных лет» говорится, что среди новгородцев не было правды, восстал род на род, начались между ними усобицы и вооруженные столкновения. И решил народ найти князя, управляющего по справедливости. Под «новгородцами» разумеется все население княжества. «Учитывая то обстоятельство, что в призвании варяжских князей участвовали финские племена (чудь, весь и др.), можно сделать предположение о влиянии на „Повесть временных лет“ мордовского героического эпоса. В русском эпосе мотива избрания правителя, царя нет. В эпоху призвания варягов население Новгородской земли было преимущественно финским, и на ней, скорее всего, господствовали обычаи, нравы и миросозерцание этого населения, включая Мерю, Эрзю, Мурому, Мокшу, Мещеру, говоривших на одном или близкородственных языках и имевших единый или односюжетный героический эпос»15 Приведенный материал, как видим, свидетельствует об изначальной общности русского и мордовского миров.
Список литературы Межнациональные отношения в эпической поэзии мордвы
- Радаев В. К. Сияжар. Саранск, 1960.
- Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 2003.
- Шаронов А. М. Мордовский героический эпос: сюжеты и герои. Саранск, 2001. С. 115-116.
- Полное собрание русских летописей. М., 1965. Т. 1.
- Mordwinische Volksdihtung. Gesammelt von H. Paasonen. herausgegeben und ubersetzt von Paavo Ravila. IV Band. Helsinki, 1947