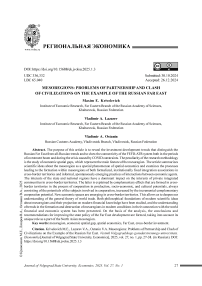Мезорегионы: проблемы партнерства и столкновения цивилизаций на примере российского Дальнего Востока
Автор: Кривелевич М.Е., Лазарев В.А., Останин В.А.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu
Рубрика: Региональная экономика
Статья в выпуске: 1 т.27, 2025 года.
Бесплатный доступ
Цель настоящей статьи – раскрыть тенденции инвестиционного развития Дальнего Востока России, отличающиеся от общероссийских, показать связанность системы Дальневосточный федеральный округ – Азиатско-Тихоокеанский регион как в периоды инвестиционного бума, так и во время кризиса, вызванного ковидными ограничениями. Особенностью методологии исследования стало изучение разрывов экономического пространства, представляющих собой главную особенность мезорегиона. Обобщены научные представления о мезорегионе как особом феномене пространственной экономики, рассмотрены процессы, приводящие к формированию в рамках мезорегионов как формализованных, институционально закрепленных на трансграничных территориях интеграционных объединений, так и неформальных, стихийно возникающих практик взаимодействий экономических агентов. Интересы государства, национальных регионов оказывают доминирующее воздействие на интересы частных интегральных сообществ на трансграничных территориях. Последняя находит свое объяснение в комплементарных эффектах, которые формируются на трансграничных территориях в процессе кооперации производственных, социально-экономических, культурных потенциалов, всегда складываются из потенциалов участвующих в кооперации субъектов, увеличенных на приращенный комплементарный кооперационный потенциал. На трансграничных территориях формируются новые экономические пространства, что позволяет углубить понимание общей теории мировой торговли. Исследованию подвергнуты как философские основы современных научных представлений о мезорегионах, так и их проекция на современное финансовое знание, представлено понимание тенденций формирования и разрушения мезорегионов в современных условиях в их связи с мировой финансовой и экономической системой. На основе проведенного анализа сформированы выводы и рекомендации по совершенствованию государственной политики развития Дальнего Востока с учетом его уникальной роли как части Североазиатского мезорегиона.
Мезорегион, разрыв экономического пространства, пространственная экономика, Дальний Восток, трансграничные инвестиции
Короткий адрес: https://sciup.org/149148519
IDR: 149148519 | УДК: 336,332 | DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2025.1.3
Текст научной статьи Мезорегионы: проблемы партнерства и столкновения цивилизаций на примере российского Дальнего Востока
DOI:
События не только последних десятилетий, но и в течение длительных исторических периодов свидетельствуют о том, что на относительно больших территориях, в том числе пересекающих установленные границы, происходило обострение конкурентной борьбы не только в сфере экономики, но и геополитики. При этом эти трансграничные регионы не совпадали с существующими политическими государственными образованиями в полном объеме, но включали их большие или меньшие части. Исходя из основных постулатов социально-экономической географии, такие территории целесообразно относить к мезорегионам.
Следует признать, что еще не выработано единого методологического подхода, в соответствии с которым можно было бы од- нозначно отнести территорию к мезорегиону [Berry, 1968]. Например, в российской экономико-географической научной школе к мезорегионам относят субъекты Российской Федерации, включая тем самым в их состав области, края, республики и их интеграционные группы. При этом исходят из положения, что мезорегион является неким средним территориальным образованием между более крупным, то есть регионом или макрорегионом, и более мелким, то есть микрорегионом.
Существуют и иные методологические подходы к определению понятия «мезорегион». Это имеет важное значение в исследовании, так как неопределенность основного и вспомогательного категориального аппарата приводит к последующей неопределенности и противоречивости выводов в различных научных школах. В последние десятилетия, например, активно исследуются методы формирования мезорегионов на основе совместного использования экологических ресурсов, таких как водные бассейны рек и другие значимые географические объекты [Ansong et al., 2017].
Философия методологии и постановка задачи
Включение в объект исследования трансграничных территорий позволяет выделить территории, которые обладают, как отмечают П.Я. Бакланов и С.С. Ганзей, «…сочета-нием природных ресурсов, определенных видом хозяйственной деятельности, природным основанием которых является либо единая геосистема, либо сочетание двух или более геосистем регионального уровня, взаимодействующих в зоне государственной границы... это, как правило комплексная географическая структура, сочетающая в себе определенные природные ресурсы, объекты инфраструктуры, расселения населения, а также его хозяйственную деятельность в границах крупной геосистемы» [Бакланов и др., 2008, с. 94].
Подчеркивая уникальность того или иного мезорегиона в сочетании геосистем на приграничных территориях, вряд ли уместно не принимать во внимание уникальность геосистем стран, которые имеют общую границу. Последний фактор не мешал, а скорее дополнял социально-экономический потенциал со- пряженных государств. Как показывает историческая практика, каждая страна формировала спрос на товары сопредельного государства и одновременно обеспечивала предложение товарной массы, способствуя тем самым развитию трансграничной торговли и социально-культурному обмену.
Различие лежит в основе углубления взаимопроникновения интересов каждого государства, в специфике природно-ресурсного потенциала каждой страны, социально-экономическом развитии трансграничных территорий, в особенностях рекреационно-ресурсного потенциала, уровней развития транспортнологистической и социальной инфраструктуры.
Следует признать очевидное стремление к созданию как формализованных, институционально закрепленных на трансграничных территориях интеграционных объединений, так и неформальных, стихийно возникающих различного рода союзов между гражданами, как правило, участниками внешнеэкономической деятельности. Сама архитектура мировых товарных рынков, закрепляющих свою деятельность на сопредельных территориях различного рода политическими и экономическими союзами, соглашениями, формирует материальные и духовные предпосылки по созданию интеграционных объединений. Уже сформировавшиеся связи на различного рода торговых площадках на трансграничных территориях обрастают дополнительными внутри- и внесистемными связями между людьми, организациями в процессе расширения поля свой деятельности [Останин, 2022, с. 27].
На трансграничных территориях, на которых действуют собственные национальные институты, последние формируют правила игры, начиная от относительно простых, далее, в процессе эволюции более сложные взаимоотношения, закрепляя стремления возникающих новых интегральных социально-экономических, культурных формализованных и неформальных стихийных сообществ к объединению своих усилий в процессе извлечения каждым игроком своих частных интересов. Примером могут служить партнерство в Азии [Emerging ... , 2008] или ситуация в Европейском союзе [European Countries’ ... , 2020]. Однако историческая практика обильна знанием исторических фактов, когда эти объединения осу- ществлялись с использованием насилия, либо страха перед возможным применением насилия со стороны доминирующего игрока. В этом случае есть потребность доминанта в присвоении блага, но обоюдного интереса в сообществе не возникает. Наоборот, есть подавление интереса. В этом случае жесткость системы иерархической власти достраивает систему управления институтами экономическими, военными, наконец, политическими. Так как создание интеграционных объединений на трансграничных территориях изначально предполагает наличие заинтересованности каждого актора, то непосредственное влияние внеэкономических факторов, например силового принуждения к объединению, исключается. Как это вытекает из работ А.А. Богданова (см., например: [Богданов, 1921, с. 214]), более приемлемой организационной формой становится дегрессия, или скелетная модель. Эта модель внутренней взаимоупорядоченно-сти характеризуется большей прочностью связей за счет пронизывающего индивидуальные интересы каждого из членов кооперационного союза как национальными интересами государства в целом, интересами региона, так и интересами кооперативных структур. Интересы государства, национальных регионов оказывают доминирующее воздействие на интересы частных интегральных сообществ на трансграничных территориях. В этом не следует видеть противоречия, так как указанные интересы не стоит анализировать как рядоположенные социально-экономические образования, их нужно рассматривать как конкретизацию интереса самой всеобщности [Останин, 2022, с. 29].
Организация формализованных и неформальных кооперационных союзов проходит свое естественные стадии развития и становления, включая хаос, упорядочивание, коалиции, кооперации заинтересованных в этом субъектов. Экономические судьбы отдельных стран переплетаются, используя инструменты и возможности мировой торговли, различного рода прямых иностранных инвестиций, потоков финансового капитала, а сети производства распределены по отдельным странам и континентам. Это дает основания сделать вывод, который как бы лежит на поверхности в силу своей очевидности – предложение товаров в одной стране сильно зависит от эко- номик других стран [Хелпман, 2017, с. 13]. Природа комплементарного эффекта, который может формироваться на трансграничных территориях в процессе кооперации производственных, социально-экономических, культурных потенциалов, всегда складывается из потенциалов участвующих в кооперации субъектов, увеличенных на приращенный комплементарный кооперационный потенциал.
Трансграничные территории формируют новые экономические пространства, что позволяет несколько переформулировать общую теорию международной торговли. Это дает основания для уточнения теории новой пространственной экономики или, как отмечает Пол Кругман, формулирования ее основных положений, новой экономической географии.
Субъекты рыночного обмена подвержены как центробежным силам, так и центростремительным, в результате возникают новые экономические пространства с соответствующими для него экономическими, институциональными, культурными взаимосвязями. Такие экономические пространства скорее оформляются на трансграничных территориях, придавая отдельным территориям особый статус, так возникают зоны свободной торговли, территории опережающего развития, свободные экономические зоны, ЗАТО (закрытые территориальные образования) и т. д., на которых вводятся отличные от остальной части страны особые инвестиционные, миграционные, таможенные, торговые и т. д. режимы. Эти территории, поскольку они являются выделенными, обособленными территориями, можно относить к мезотерриториям, или мезорегионам, на которых реализуется порядок, который можно отнести к мезоэкономике. Следовательно, международная торговля на трансграничных территориях «уже не выступает основным объектом новой экономической географии, а становится одним из элементов ее предметного поля» [Останин, 2023, с. 8].
Трансграничные территории могут не только приобретать современный облик развитых территорий, но и разрушаться, если обострение объективных противоречий возникло на уровне государств, переходя в фазу военного противостояния [Останин, 2013, с. 25]. Теоретическое положение об объективных противоречиях как источниках движения и разви- тия получило свое подтверждение на приграничных регионах сопредельных государств, на которых эти противоречия обнаруживаются и проявляются наиболее рельефно.
Констатируя вышеизложенное состояние международной торговли, следует одновременно сделать некоторые выводы. Происходит самоотрицание действующих принципов глобализации политикой государств доминан-тов в международной экономике [Гэлбрейт, 1999]. Малые по объемам торгов участники с ростом уровня глобализации приобретают возрастающее на международную экономику влияние. Этот феномен получил свое объяснение в теории как «парадокс Нейсбитта», объясняемый противоречивым влиянием на этот процесс, с одной стороны, инфляции, а с другой – автономизации.
Решение задачи
Академик А.Г. Гранберг определил экономическое пространство как «насыщенную территорию, вмещающую множество объектов и связей между ними: населенные пункты, промышленные предприятия, хозяйственно освоенные и рекреационные площади, транспортные и инженерные сети и т. д.» [Гранберг, 2000, с. 268]. Из этого определения следует, что экономическое пространство должно рассматриваться как целостная система таких категорий, как территория, население, ресурсы, хозяйственно-экономические субъекты. Из целостности этой системы вытекает свойство эмерджентности, следовательно для сохранения экономического пространства как единого целого необходимы надежные связи между элементами, обеспечивающие непрерывность его свойств. Если же связи рвутся, возникают скачкообразные изменения свойств экономического пространства, на физическом уровне проявляющиеся в форме границ. Разрывы экономического пространства наблюдаются на трех уровнях [Лазарев и др., 2022, с. 21]:
– институциональные разрывы, которые представляют собой пространственную неравномерность государственных правил и учреждений;
– технологические разрывы, которые представляют собой пространственную неравномерность правил для техник и технологий;
– социоэкономические разрывы, которые представляют собой пространственную неравномерность правил поведения общества в процессе взаимодействия его членов.
Границы, возникающие в результате разрывов любого из трех видов, могут проявляться многообразно. Например, в рамках отдельного населенного пункта может действовать локальный нормативный акт, и тогда по физическим границам этого населенного пункта возникает институциональная граница. Такая граница может быть слабовыраженной, если она затрагивает малозначительные вопросы государственного устройства, что чаще всего случается в пределах одного государства.
Все три вида разрывов управляемые. Проще всего контролировать институциональные, для этого достаточно воли законодателей. Сложнее оперировать технологическими, поскольку они инерционны за счет накопленной массы техник и технологий, которые требуют постепенного изменения. Самые сложные в управлении – социоэкономические разрывы, поскольку в их основе лежит культурный код общества и традиции, имеющие многолетнюю, иногда тысячелетнюю историю.
Таким образом, мезорегион можно определить как экономическое субпространство, ограниченное определенным набором институциональных, технологических и социокультурных разрывов, либо всеми вместе, либо отдельными их формами. Значимость разрывов будет определять силу границ и, следовательно, выраженность территории как мезорегиона.
Следует отметить, что комплекс пространственных разрывов может не только разделять экономическое пространство, но и служить объединяющим фактором. Так, если у двух различных регионов имеются сходные наборы институциональных, технологических и социокультурных правил, то такие регионы могут быть объединены в мезорегион, даже если они не имеют общих географических границ. Таким образом, основным формирующим фактором мезорегиона, по мнению авторов, являются поля, представляющие собой пространственные комплексы правил поведения субъектов в институциональном, технологическом и социоэкономическом планах. Если поля правил не содержат сильных возмущений, то их проекция на географическое пространство будет формировать мезорегион.
Обсуждение результатов.
Система Дальний Восток России – АТР как инвестиционный мезорегион
С инвестиционной точки зрения, необходимым условием для признания за некоторой территорией статуса мезорегиона является наличие вышеописанных разрывов по внешней границе региона и их отсутствие внутри регионального периметра. При выполнении необходимого условия достаточным станет наличие признаваемого экономическими агентами конкурентного преимущества ведения инвестиционной деятельности внутри региона в сравнении с выходом вовне. Признание наличия сравнительного преимущества экономическими агентами в данном случае более важно, чем его фактическое значение, так как для финансовых рынков, к которым относится рынок и прямых, и портфельных инвестиций рыночная ситуация и ее отражение в сознании инвесторов являются системой рекурсивных функций [Сорос, 2013, с. 163]. Аналогично для движения товаров и услуг, как было показано Австрийской экономической школой [Фон Мизес, 2024, с. 368], комфорт ведения дел или сервисное сопровождение операций не менее важны, чем основной товар или услуга.
Идеологической рамкой создания в 2014– 2015 гг. специальных режимов развития Дальнего Востока, таких как Свободный порт Владивосток (далее – СПВ) и Территории опережающего развития (далее – ТОР) было преодоление институционального разрыва между инвестиционным климатом России и АТР (Северо-Восточной Азии (далее – СВА)). Но фактически произошло выделение ДВФО в качестве пространства, где режим ведения предпринимательской деятельности значительно ближе к сопредельным территориям азиатских государств, чем к остальной территории РФ. Наиболее заметным для публики отличием СПВ и ТОР от обычных форм ведения предпринимательства, разумеется, стали налоговые льготы, предполагающие уплату 0 % ставки налога на прибыль и налога на имущество организаций для первых пяти лет работы проекта.
Однако для инвестиционного сообщества АТР более значимыми стали иные факторы. Идеология экономического роста в СВА все- гда была связана с массовой частной инициативой, так за первые два года работы приграничного с ДВФО Харбинского участка экспериментальной зоны свободной торговли (FTZ) Хэйлунцзян было запущено почти 9 тысяч новых предприятий [Самая северная зона ...]. В постперестроечной России, наоборот, крупные предприятия с многолетней историей, такие как АВТОВАЗ, воспринимаются как настоящие и важные для страны, а новые и малые компании вызывают сомнения у органов власти, подвергаются повсеместному налоговому и административному давлению.
Поэтому благодаря СПВ и ТОР появился видимый переход от той части РФ, где «все, что не разрешено – запрещено», к той, где «все, что не запрещено – разрешено». На первых этапах функционирования СПВ резиденты могли получить земельный участок без проведения торгов и практически немедленно приступить к реализации проекта. Для азиатских партнеров недоступность земель промышленного назначения в РФ долго была неприятным сюрпризом, им сложно было понять как в стране, с такой огромной и малоосвоенной территорией, получение земельного участка могло занимать несколько лет и сопровождаться сложно прогнозируемыми транзакционными расходами. Переход к получению земли без транзакционных расходов с символической арендной платой и за трехмесячный срок отделило в сознании инвесторов не только из КНР, но и из Японии и Южной Кореи зону СПВ от остальной России. Даже после того, как земельные участки перестали предоставлять, все еще сохраняется не менее важная льгота – в отношении территорий ТОР их управляющая компания выполняет на принципе «единого окна» функции архитектурного, строительного и технического надзора, приближая условия работы к тем, к которым привыкли компании из СВА.
Продолжая обсуждение институционального разрыва, необходимо отметить, что азиатские компании вовсе не сторонятся взаимодействия с чиновниками, даже наоборот в практике их входа в новые проекты прослеживается желание предварительно заручиться поддержкой государства на максимально высоком уровне. То, что их беспокоило и отвращало от создания проектов на территории
ДВФО до создания специальных режимов, – это обилие в РФ независимых друг от друга контролирующих органов, предъявляющих иногда противоречивые требования. Подписав на международном форуме очередное соглашение о намерениях, азиатские инвесторы ожидали, что весь государственный аппарат перейдет в режим содействия, но на практике сталкивались с тем, что государственные служащие среднего уровня, не говоря уже о простых исполнителях, никаких распоряжений содействовать проекту не получали.
ТОР и СПВ существенно изменили ситуацию, появилось специальное министерство – Минвостокразвития, единственной работой которого стало содействие в реализации инвестиционных проектов. Объективно многое в работе Минвостокразвития и его дочерних структур, таких как Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (АО «КРДВ»), можно улучшить, но для азиатских контрагентов ситуация изменилась принципиально, так как теперь появился «чиновник, с которым нужно договориться».
В этом моменте произошло слияние институциональных разрывов. Через постоянное взаимодействие в формате совещаний и рабочих групп «институтов развития», и государственных органов, таких как таможенная служба, ветеринарный надзор и другие, иностранные инвесторы получили возможность «продавить» изменения в федеральное и региональное законодательство в отдельных аспектах реализации проекта, если не в самом тексте документов, то в их прочтении и применении. Так, например, механизм свободной таможенной зоны (СТЗ), активно применяемый в рамках ТОР и СПВ, просто незнаком предпринимателям из других регионов страны.
В процессе эволюции трансграничной экономической активности заимствовались не только технологические процессы через импорт нового оборудования, но и ассортимент выпускаемой продукции, что нивелировало технологический разрыв, а также управленческие и финансовые практики. Режим СПВ предполагал привлечение иностранной рабочей силы без квот, что было весьма полезным для судостроительных и судоремонтных проектов, таких как завод «Звезда». И снова появляется зримая разница для партнеров из
СВА между работой в ДФО и в других регионах РФ.
Камнем преткновения в сопряжении картины мира азиатских инвесторов и российских чиновников два десятилетия было отношение к строительству инфраструктуры: дорог, линий электропередачи, водоснабжения и водоотведения. Когда российская сторона декларировала готовность передать очередному инвестору участок для реализации масштабного и значимого проекта, то имелось в виду просто место на карте, закрепленное соответствующим договором аренды. За привилегию расположить свой завод в соответствующем муниципалитете и зарабатывать на уникальных природных ресурсах и эксплуатации местных трудящихся инвестор должен был, по мысли российской стороны, построить все сам и в идеале взять на себя еще какое-то количество социальных обязательств формального или неформального свойства. Азиатские инвесторы, напротив, полагали, что российская сторона получает подарок в виде расположения их завода на данной территории и в ответ ожидали, что все дороги и иные объекты инфраструктуры будут готовы к их приезду, ведь они обещают создать множество рабочих мест.
Там, где чиновник видел красиво обозначенный на карте участок, инвестор видел болото, без дорог и без электричества. Там, где инвесторы полагали, что проблема мэра города или губернатора региона – трудоустроить безработных, сами чиновники видели проблему в дефиците квалифицированных кадров, который сформировался вследствие многолетнего оттока населения в другие регионы станы.
В рамках ТОР впервые государство взяло на себя все расходы по преобразованию «места на карте» в площадку для размещения предприятия, устранив когнитивный разрыв социоэкономического характера, описанный выше, и создав разрыв с условиями ведения дел в других регионах.
Менее заметным, но не менее важным стал финансовый аспект социоэкономическо-го разрыва. Стоимость долгового финансирования в АТР была несопоставимо ниже российской на протяжении многих лет. Аналитические модели расчета эффективности инве- стиционного проекта, применяемые крупными компаниями АТР, используют средневзвешенную стоимость капитала в качестве ставки дисконтирования проекта. Для того чтобы понять разницу в условиях реализации инвестиционных проектов в РФ и АТР, можно привести следующий гипотетический пример.
Допустим инвестиции составят 10 млн, а годовая прибыль – 2,1 млн, тогда дисконтированный, то есть учитывающий изменение стоимости денег во времени, срок окупаемости проекта при ставке 5 % и ставке 20 %, соответствующих условиям реализации проектов в АТР и в РФ, составят менее 6 и более 16 лет соответственно. Так как инвестиции в РФ значительно дороже, чем в АТР, проект с теми же инвестициями и доходами будет окупаться здесь значительно дольше.
Кроме того, в большинстве российских банков кредиты для компаний со сроком деятельности менее полугода практически не предоставлялись. В ДВФО, напротив, банки активно кредитовали новые компании-резиденты ТОР и СПВ, что было связанно с требованием законодательства о том, что стать резидентом СПВ или ТОР может только новый бизнес. Более того, государство предусмотрело для кредитов резидентам со-финансирование кредитных ставок до уровня, соответствующего стоимости привлечения капитала в СВА [Постановление Правительства № 1818, 2019].
В сознании азиатских контрагентов ДВФО – это не только место сосредоточения природных ресурсов, но и полигон для реализации сервисных проектов в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Так, китайская компания «Международный образовательный центр Лун-мэй» заключила с КРДВ соглашение о том, что построит на территории поселка Де-Фриз Рос- сийско-Китайский образовательный центр с гостиничными корпусами, конгрессно-выставочным и бизнес-центром. Проект будет реализован в рамках режима ТОР «Приморье» и предполагает инвестиции в сумме 5 млрд рублей с запуском уже в 2028 году. Предполагается одновременное проживание и обучение 2 тыс. студентов из КНР [В пригороде Владивостока ...]. Сторонний наблюдатель мог бы удивиться тому, что проект не воплощен в Москве или Санкт-Петербурге. Но в этом и проявляется природа мезорегиона и для китайских студентов, и, главное, для их родителей, оплачивающих обучение. Владивосток гораздо ближе не только в географическом, но и в бытовом и культурном плане. Действительно, многие китайские бизнесмены посещают Владивосток регулярно, и для этого не требуются авиаперелеты, достаточно проехать автомобильный пункт пропуска. В городе действует множество точек общественного питания, магазинов и учреждений бытового обслуживания, где поймут и китайский язык, и китайский менталитет, а проникновение «серых» китайских инвестиций таково, что при необходимости китайский студент легко найдет себе подработку на время учебы.
Подчеркивая экономическое значение ДВФО как мезорегиона, инвестиции в основной капитал с начала реформы 2015 г. по отношению к 2014 г., когда были приняты законы о территориях опережающего развития, демонстрируют динамику, заметно превосходящую среднероссийский уровень.
В третьей строке таблицы приведено отношение результатов ДВФО к среднероссийским, и можно видеть, что регион превосходил среднероссийские показатели каждый год, кроме 2020, когда эффект карантинных ограничений, связанных с COVID-2019, на китайскую экономику оказался настолько силен,
Таблица. Инвестиции в основной капитал (в фактических ценах), в % год к году
Table. Investments in fixed capital (in actual prices), in % year-on-year
|
Субъект |
2015 к 2014 |
2016 к 2015 |
2017 к 2016 |
2018 к 2017 |
2019 к 2018 |
2020 к 2019 |
2021 к 2020 |
2022 к 2021 |
2023 к 2022 |
|
Российская Федерация |
100 |
106 |
109 |
111 |
109 |
106 |
114 |
122 |
120 |
|
Дальневосточный федеральный округ |
111 |
110 |
115 |
112 |
115 |
100 |
121 |
127 |
131 |
|
Отношение результатов ДВФО к РФ |
111 |
104 |
106 |
101 |
106 |
95 |
107 |
104 |
110 |
Примечание. Составлено авторами по: [Инвестиции в нефинансовые активы].
что оказал доминирующее воздействие и на экономику приграничных российских территорий. Провал 2020 в сочетании с превосходством в иные периоды явственно свидетельствует о тесной связи ДВФО с государствами АТР в формате мезорегиона.
Отмеченные тенденции, вероятно, останутся в силе. Так объем инвестиций в основной капитал, за счет всех источников финансирования, в сопоставимых ценах в процентах к соответствующему периоду предыдущего года, за первые два квартала 2024 г., по данным банка России [Объем инвестиций ...], в очередной раз продемонстрировал дальневосточную специфику. Если общероссийский прирост за 1-й и 2-й кварталы составил 14,5 и 10,9 %, то в Хабаровском крае – 34,8 и 38,4 %, в Амурской области – 20,9 и 22,6 %, а в Сахалинской области – 28,4 и 29,8 %.
На основании вышеизложенного можно констатировать, что система Дальний Восток России – АТР в инвестиционном плане представляет собой сформированный мезорегион, который будет развиваться все активнее по мере развития стратегии Поворота на Восток.
Выводы
На основании вышеизложенного можно заключить, что на трансграничных мезотерриториях будет постоянно возникать социально-экономическое, миграционное, инвестиционное напряжения, требующие выравнивания правил и сглаживания разрывов в силу того, что участники внешнеэкономической деятельности, следуя мотиву прибыли, ориентированы на максимизацию дохода. Если Китай реализует свою глобальную инициативу «Пояс-Путь», в том числе на сопредельных приграничных территориях, то ее результаты уже не могут быть уложены в упрощенное понимание извлечения сиюминутной выгоды. Можно сделать вывод, что на приграничных мезорегионах Дальнего Востока, Забайкалья под влиянием крупного соседа – Китая – практически формируется новая архитектура социально-экономического пространства, приграничного мезорегиона, который охватывает социальную, экономическую, культурную, миграционную, инвестиционную сферы на трансграничных российских территориях. Тем са- мым Китай формирует общую детерминанту развития нового формата человеческой цивилизации приграничных регионов [Чан и др., 2021, с. 130], предопределяя вектор и ориентиры экономического, политического, информационного развития локальных обществ. Такова сущность природы современных международных отношений – субстанциональным фактором становится воля доминирующих на мировых рынках государств.
Представляется, что именно в трансграничных мезорегионах России с Китаем, Монголией, государствами Центральной Азии и другими сопредельными государствами, с которыми Россия имеет сухопутную государственную границу, всегда существует почва для возникновения, формирования конфликтно-компромиссной ситуации.
Проведенный анализ позволил классифицировать систему Дальний Восток России – АТР как инвестиционный мезорегион, границам которого свойственны все три типа разрывов: институциональные, технологические и социо-экономические с присущими им спецификами пространственной неравномерности правил поведения в трансграничных мезорегионах.
Изучение трансграничной территории как мезорегиона позволит лучше понять экономическую и социальную динамику развития российского приграничного региона на Дальнем Востоке, инвестиционную привлекательность территории, а также будет способствовать совершенствованию государственной экономической политики в рамках курса Поворота на Восток.