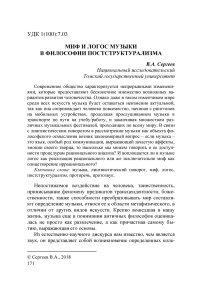Миф и логос музыки в философии постструктурализма
Автор: Сергеев В.А.
Журнал: Социальные и гуманитарные науки: теория и практика @journal-shs-tp
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (2), 2018 года.
Бесплатный доступ
Современное общество характеризуется непрерывными изменениями, которые предоставляют бесконечное множество возможных вариантов развития человечества. Однако даже в таком изменчивом мире среди всех искусств музыка будет оставаться неизменно актуальной, так как она сопровождает человека повсеместно, начиная с рингтонов на мобильных устройствах, продолжая прослушиванием музыки в транспорте по пути на учебу/работу, и заканчивая множеством различных музыкальных фестивалей, проходящих по всему миру. В связи с лингвистическим поворотом в рассмотрении музыки как объекта философского осмысления возник закономерный вопрос - если музыка -это язык, особый род коммуникации, выражающий зачастую аффекты, эмоции своего творца, то насколько мы можем говорить о ее доступности процедурам рационального анализа? И воплощается ли в музыке логос как реализация рационального или же исключительно миф как олицетворение иррационального?
Музыка, лингвистический поворот, миф, логос, постструктурализм, проторечь, протозвук
Короткий адрес: https://sciup.org/147228529
IDR: 147228529 | УДК: 1(100):7.03
Текст научной статьи Миф и логос музыки в философии постструктурализма
Непостижимое воздействие на человека, таинственность, приписывание феномену предикатов трансцендентности, божественности, также способности преобразовывать мир составляют определение музыки, относя ее к области метафизического, в отличии от других видов искусств. Крепко вошедшая в нашу жизнь, музыка еще в понимании античных философов оценивалась не просто как развлечение, а как причастная самому бытию, выражающая его основы.
Из естественно-научного дискурса нам известно, чем является звук, он представляет собой возникновение определенных коле-
баний воздушной среды. Тот или иной звук может выражаться определенным числовым отношением. Но вот в чем здесь состоит вопрос: правомерно ли утверждать, что при прослушивании музыкального произведения мы воспринимаем некоторые колебания в воздушной среде, к тому же и представляем себе некие формы или величины, характеризующие данные воздушные волны? Конечно такое утверждение является неверным, потому как в таком случае музыка могла бы быть воспринимаема только людьми, изучающими воздушные колебания, физиками. Но и даже в таком случае физики воспринимают не саму музыку, а только пространственно-временные величины волн.
Второе к чему так же можно задать вопрос – это физиологический факт, касающийся нашего восприятия музыки. Процесс восприятия музыкального произведения осуществляется в том момент, когда звуковые волны входят в наше ухо и касаются барабанной перепонки. Хотя и без физики, и без физиологии данный процесс не является осуществим, но также, как и с физикой, никакого отношения к музыке физиология не имеет. Так как при прослушивании мы не размышляем ни о наших ушах, ни о том, как звуковые волны касаются барабанной перепонки, само строение уха в музыке тоже не изображается.
В этом случае могут проявиться притязания со стороны психологии, потому что воспринимание музыки невозможно без психологии, и с этим нельзя не согласиться. Но эта составляющая не является главной. Все психические переживания являются лишь условиями восприятия музыки, но не являются самим музыкальным предметом.
Мы приходим к такому выводу, что музыкальный предмет ни физичен, ни физиологичен, ни психологичен, даже при том условии, что без наличия данных составляющих он не может быть воспринимаем. Хотя и физика, и история, и психология, и биология, и социология затрагивают определенные аспекты, связанные с музыкой, но ни одна из данных наук как не занимается изучение специфики музыкального предмета, так и не имеет саму музыку своим предметом. И именно философия способна дать наиболее широкое представление о сути музыкального предмета [1].
Если говорить о музыкальном искусстве как о особой области, выполняющей коммуникативные функции, сначала следует обозначить то, что является фактором, позволяющим и делающим возможным существование коммуникации. В роли данной структуры выступает язык [2]. Философия как область знания не занимается языком, для нее интересна роль лингвистического опыта в формировании мышления, сознания. Ее задачей является раскрытие глубинных структур, которые отвечают за развитие познавательной деятельности, что позволяет осуществить метод логико-лингвистического анализа. Данный поворот в истории философии называется лингвистическим.
Зарождение языка происходит одновременно с воображением в виде определенной черты опыта на уровне сознания. Язык является средством воображения или выражения на исходном состоянии. И мы предполагаем, что сфере искусства как особой области деятельности воображения человека можно предписать ее особый язык. Далее мы рассмотрим взгляды на язык искусства как на предмет философского анализа Р.Дж. Коллингвуда, которые он освещает в работе «Принципы искусства».
Деятельность воображения раскрывается в данном труде как структура ответственная за выражение мысли. Процесс выражения мысли осуществляется посредством выражения сопутствующей данной мысли эмоции. Здесь отмечается эмоциональность выражения мысли, иными словами, воспроизведение в языке ментальных состояний сопровождается эмоциональными, именно с их помощью и осуществляется выражение мысли.
В работе «Принципы искусства» Коллингвуд утверждает, что различие между подлинным искусством и развлечением (создание «приятных» эмоций) или магией (возбуждение эмоций с целью получения пользы) состоит в том, что подлинное искусство является выразительным и образным. Приходя таким образом к выводу, что истинное искусство по своей сути должно представлять некоторый язык.
По Коллингвуду, художественный опыт является порожденным деятельностью сознания. Данное утверждение, как он отмечает, «отсекает все теории искусства, относящие его происхождение к сфере ощущений или соответствующих им эмоций, то есть к сфере психической природы человека» [3, с. 249]. То 173
же самое происходит в случае с теориями, которые говорят, что истоки искусства располагаются в интеллекте. «Поскольку сознание представляет собой уровень опыта, лежащий между психическим и интеллектуальным, искусство может быть обращено к любому из этих уровней, т. е. не принадлежит целиком ни к одному из них» [3, с. 249].
Эстетический опыт представляет собой опыт выражения собственных эмоций. «Процесс выражения эмоций посредством общей деятельности воображения называется либо языком, либо искусством» [3, с. 251]. Таковым является подлинное искусство. В процессе собственного движения художественная деятельность порождает новый язык, но не пользуется уже заранее сделанным. Неодаренный глубокими эмоциями художник не сможет создавать ничего, кроме поверхностных и легкомысленных произведений.
На вопрос каким образом делается возможным существования языка и налаживание самой коммуникации в музыкальном искусстве поможет ответить американский философ Сьюзен Лангер. Свои взгляды на музыкальную эстетику она раскрывает в работе «Философия в новом ключе». Данный труд назван подобным образом не случайно, под «ключом» она подразумевает музыкальный ключ, который придает определенное звучание музыкальному произведение. Идея «нового ключа» является идеей о характере познания, как о символической деятельности, то есть человек – это символическое существо, существо, производящее символы. Лангер не является основательницей идеи о «новом ключе», она ее заимствует данное понятие из неокантианства, в частности из философии Эрнста Кассирера, ее заслуга заключается в развитии понятия и в последовательном применении в области культуры и познания.
Свою систему Лангер разворачивает на утверждении, что человеческая жизнь наполнена различными символами, которые предоставляют возможность разуму освободиться от практической деятельности. Человек с помощью разума производит преобразование чувственных явлений в символы, то есть сущностью человека является деятельность по синтезированию символов.
Существует два вида символизма: дискурсивный и недискурсивный, иначе презентативный. Первый вид характеризуется 174
тем, что связан с языком, со словом, предполагает линейность, также обладает своим синтаксисом и словарем, способен выстраивать знание, идеи в цепочки, отдельные ряды. Второй вид, наоборот, не нуждается в дискурсивном анализе, так как не имеет никакой связи с языком, а связан с чувственными, визуальными формами, сочетание символов происходит не последовательно, как в дискурсивном символизме, а одновременно, то есть по принципу часть–целое.
Значительное место в эстетической концепции Лангер отводит музыке, она является наиболее наглядным видом презента-тивного символизма, выражает общую структуру развития чувств человека, иными словами, музыка представляет собой тональную аналогию эмоциональной жизни человека. В сравнении с другими видами искусства музыка возвышается способностью выражения чистой формы как собственной сущности, а так как передача значении осуществляется посредствам звука, то и с точки зрения восприятия художественного опыта музыка также опережает иные виды искусства.
Стоит заметить, что Лангер не отождествляет функции речи и музыки, что происходит в интонационной теории. «Речь и музыка обладают существенно различными функциями, несмотря на их часто отмечаемое объединение в песне. Их первоначальное отношение друг с другом лежит намного глубже, чем любой такой союз, и его можно рассматривать только тогда, когда становится понятной их относительная природа» [4, с. 92].
На основании критики предыдущего комплекса теорий, Лангер выстраивает свою концепцию, в которой определяет музыку как презентативный символ. Она утверждает, что музыка с языком не имеет ничего общего, так как не существует синтаксических правил, по которым она строилась бы. Передача эмоциональных переживаний осуществляется через глобальные формы, перевод данных форм или содержания осуществить в музыке и в искусстве в целом невозможно. В своей теории Лангер выделяет идею о «значимой форме», то есть значимость описывается как потенция чувствовать и понимать музыку. Музыкальные значения осознаются легче, нежели в других искусствах, из-за их ограниченности определенными моделями.
В своем следующем труде «Чувство и форма» Лангер затрагивает в искусстве проблемы формы. Основное внимание обращено на роль формы, как она влияет на формирование и понимание чувств в процессе восприятия художественных произведений. Еще задолго до появления Интернета Лангер говорила о существовании виртуального пространства, в котором и располагается искусство.
В философии Сьюзен Лангер музыка наделяется особым статусом, который выделяет ее из ряда остальных искусств. Она приписывает ей особую способность создания скрытой символики, которая является выражением презентативного символа, осуществляет логическое выражение чувств и передачу через глобальные формы эмоциональных переживаний. Музыка описывается как вид искусства, в котором наличествует собственный универсальный ритм, регулирующий жизнь природы и развитие человека. Таким образом, мы можем сделать вывод, что музыка выступает передатчиком определенных смыслов, что дает ей возможность выполнять коммуникативную функцию.
Подвести промежуточный итог хотелось бы словами Эрнста Кассирера, которыми он характеризует бытие человека и то, каким ему предстает окружающий его мир. «Человек живет отныне не только в физическом, но и в символическом универсуме. Язык, миф, искусство, религия – части этого универсума, те разные нити, из которых сплетается символическая сеть, сложная ткань человеческого опыта. Человек уже не противостоит реальности непосредственно, он не сталкивается с ней лицом к лицу. Физическая реальность как бы отдаляется по мере того, как растет символическая активность человека. Вместо того чтобы обратиться к самим вещам, человек постоянно обращен на самого себя. Он настолько погружен в лингвистические формы, художественные образы, мифические символы и религиозные ритуалы, что не может ничего видеть и знать без вмешательства этого искусственного посредника» [5, с. 28–29].
Процесс образования смыслов, движение процесса познания характеризуется в философии переходом от мифа к логосу. В следующем параграфе мы коротко рассмотрим основные принципы, отличающие данные понятия.
Человек всегда стремился дать объяснение происходящих вокруг него событий, на начальных этапах своего развития инструментом, который способствовал осуществлению этого, являлось мифологическое восприятие мира. Миф выступает в роли иллюстрации реальности, но в тоже время искаженной, наполненной аллегориями, в нем идеальное и материальное существуют нераздельно. И поэтому для постижения истинной сути иллюстрируемых в мифе событий требуется интерпретация и расшифровка всех метафор, которыми так насыщено мифологическое сознание.
Появление противоположной мифу категории, логоса, связанно с стремлением рационализации и потребностью человека к теоретизации получаемой информации. Термин «логос», впервые встречающееся еще у античного философа Гераклита, который понимает под ним некий всеобщий закон, выражение постоянности и упорядоченности, присущий миру всеобщего, но не единичного. Данным понятием он старается выразить целостность и гармоничность мира. Таким образом, логос представляет собой слово, выражение, которое заключает в себе определенное значение, отчетливую мысль. Противопоставление логоса мифу состоит в противостоянии рациональной деятельности человека чувственному мироощущению. Так же, характеризуя логос, к его предикатам можно отнести дискурсивность и рефлексивность.
Разделив данные два метода смыслопроизводства, мы выявили специфику каждого из них. Движение от мифа к логосу в истории философии подобно движению от представления о музыке, как о феномене, находящемся в области всеобщего, до идеи, что все-таки музыка являет собой продукт деятельности автора, то есть располагается в сфере индивидуального. Постструктурализм же утверждает, что для современной музыки характерна такая черта, как полистилистика, которая для понимания и раскрытия смыслов, заключенных в произведениях, от слушателя требуется одновременного включения во множество культурных дискурсов [6]. Именно данная открытость произведения наделяет слушателя ролью сотворца, который должен сам достраивать смысловую нагруженность музыки. Но возникает вопрос: что позволяет субъекту осуществлять данный акт смыслопонима-ния-производства?
Психологический феномен «ухода-в-себя» сопровождается конструированием субъектом особой символической вселенной, проецирование которой вовне предполагает замещение утраченного досимволического реального, этим самым субъект стремится предотвратить распад собственной вселенной [7].
В «Щекотливом субъекте» Славой Жижек, говоря о безумии, утверждает, что переход между животным и социальным в человеке должен быть опосредован, и эту роль выполняет само безумие, дающее возможность для символического реконститу-рования реальности. «Приходя тем самым к мысли о безумии как онтологической основе нормальности. если различие между “нормальностью” и безумием присуще безумию, в чем же тогда состоит различие между “безумной” (паранойяльной) конструкцией и “нормальной” (социальной) конструкцией реальности? Не является ли “нормальность” в конечном итоге всего лишь более “опосредованной” формой безумия? Или, как выразился Шеллинг, не является ли нормальный Разум просто “управляемым безумием”?» [8, с. 66].
В философии Гегеля присутствует такое понятие как «мировая ночь», представляющее собой досимволическую область, способствующую установить взаимосвязь природы с культурой, являясь по своей сути проявлением мифического. Переход между природой и культурой не может быть прямым, следовательно, можно предположить существование некой структуры, не относящаяся ни к природе, ни к культуре, которая позволяет опосредовать данное взаимодействие. Жижек, подтверждая внеположенность для обоих миров, дает такое описание данной области: «Говоря об этом промежутке, интересно отметить, что философские нарративы “рождения человека” всегда неизбежно предполагают наличие такого момента в (пред)истории человека, когда человек (то, что станет им) больше не является просто животным и в то же время еще не является “существом языка”, связанным символическим Законом; момент совершенно “извращенной”, “денатурализованной”, “слетевшей с катушек” природы, которая еще не является культурой» [8, с. 67]. Так и искусство, в частности музыкальное, обладает подобной структурой, которую можно опре- делить как протозвук. Он не является проявлением логоса, а представляет особую дополнительную символическую среду, на место которой впоследствии встает логос.
Акцентируя внимание на трансцендентальном воображении Хайдеггер, приписывал ему предикат измерения, предшествующего категориям рассудка, ролью которого является представление горизонта объективного знания. В то же самое время можно отметить относительно категории Возвышенного [Данная категория в эстетике традиционно противопоставлялась категории Прекрасного, Кант проводил разделение по принципу того, что Прекрасное должно доставлять удовольствие само по себе, когда Возвышенное требует деятельности разума] то, что при своем приближении к Ужасному «указывает на бездну, которая уже скрыта, “облагорожена” идеями разума» [8, с. 72]. Говоря иначе, деятельность разума в категории Возвышенного ликвидирует пробелы деятельности трансцендентального воображения.
Жижек, отмечая высокую ценность картин Дэвида Линча, говорит, что аудиовизуальная составляющая настолько сильна, что взывает к сфере доонтологического, зрители не могли описать те чувства, вызванные во время просмотра его первой полнометражной работой «Голова-ластик». В результате искали ответы, ссылаясь на неслышимые шумы. Звук играл не малую роль, совместно с визуальными эффектами, погружая зрителя в картину, погружал человека в разворачивающиеся действия. Данную работу можно отнести к области Возвышенного, вызывая чувство ужаса у зрителей, картина побуждала деятельность разума по осмыслению вызванных чувств о просмотренном. Не открывая зрителю тайну напрямую, картина осуществляла свое воздействие на докоммуникативном уровне. «Статус этого голоса, который не может быть воспринят никем, но который тем не менее господствует над нами и вызывает физические последствия (чувство неловкости и тошнота)» [8, с. 90]. Таким образом, мы ощущаем воздействие на себе этого протозвука скрывающегося в самой коммуникации, но в то же время не способны уловить и распознать его как таковой.
В речи происходит разделение на «речь-для-себя» (символьная регистрация в языке) и «речь-в-себе» (проторечь). Грубой ошибкой будет являться определение проторечи как «речи до речи», то 179
есть такой, которая имеет более фундаментальный характер по отношению к «речи-для-себя» и конституирует ее, превращая во вторичное отражение. «В отношении этой иллюзии следует помнить, что эта другая проторечь остается виртуальной: она становится действительной только тогда, когда ее область действия закрепляется, полагается в качестве такового, в открытом Слове. Лучшим подтверждением этого служит тот факт, что этот протоязык несводимо неоднозначен и неразрешим: он “беременен значением”, но со своеобразным неопределенным плавающим значением, ожидающим действительной символизации, которая придаст ему определенное выражение» [8, с. 91].
Разрыв, который отделяет «речь-в-себе» и «речь-для-себя», представляет собой минимальную задержку, появления события до его символической регистрации. Протозвук как проявление «речи-в-себе» составляет собой докоммуникативную структуру, которая ожидает своего перехода в область коммуникации.
Таким образом, проанализированные постструктуралистст-кие концепции в отношении проблемы мифического и логического в звуке позволяют говорить о различении в звуке двух уровней восприятия и интерпретации. Одним из следствий такого разделения с неизбежностью становится вопрос о возможности полной интерпретации музыкального произведения, а также создание процедур для подобной интерпретации.
Структура, которая осуществляет рефернциональную функцию, представляет собой слой, находящийся в пределах инобытия коммуникативной структуры, являя собой проторечь. Музыкальный звук, как было отмечено выше, так же осуществляет функции передачи смыслов, и по аналогии можно отметить существование такого феномена как музыкальный протозвук, который воздействует на нас, однако, который мы можем объяснить только метафорически, но не рационально. Утрата докоммуникативных структур приводит нас к утрате самой коммуникации.
Так мы приходим к выводу, что музыка наделена логосом, она, находясь в сфере индивидуального, в сфере конструирования смыслов, способна в то же самое время взывать к надындивидуальному уровню, тем самым выражая его свойства и позволяя погрузить человека в область мифа.
CRITICAL ANALYSIS OF THE WORLD-SYSTEM THEORY OF WALLERSTEIN IN THE BOOK «HOW THE WEST CAME TO RULE:
National Research Tomsk State University
Список литературы Миф и логос музыки в философии постструктурализма
- Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М.: Политиздат, 1991. 525 с.
- Губина С. Т. Влияние восприятия музыки на символическое преобразование сознания: проективная функция музыки//NB: Психология и психотехника. 2013. № 3. С. 186-213.
- Коллингвуд Р.Дж. Принципы искусства/пер. с англ. А.Г. Ракина, под ред. Е.И. Стафьевой. М.: Языки русской культуры, 1999. 328 с.
- Лангер С. Философия в новом ключе: Исследование символики разума, ритуала и искусства/пер. с англ. С.П. Евтушенко; общ. ред и послесл. В.П. Шестакова. М.: Республика, 2000. 287 с.
- Кассирер Э. Опыт о человеке: Введение в философию человеческой культуры//Проблема человека в западной философии/пер. А.Н. Муравьева; общ. ред. Ю.Н. Попова. М.: Прогресс, 1988. C. 3-30.
- Адорно Т. Избранное: Социология музыки/пер. с нем. А.В. Михайлова. М.: РОССПЭН, 2008. 445 с.
- Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе/пер. с фр. А. Черноглазова. М.: Гнозис, 1995. 192 с.
- Жижек С. Щекотливый субъект: отсутствующий центр политической онтологии/пер. с англ. С. Щукиной. М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2014. 528 с.