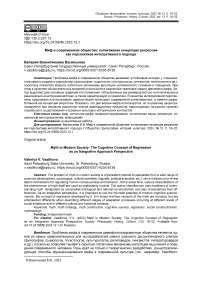Миф в современном обществе: когнитивная концепция регрессии как перспектива интегративного подхода
Автор: Василькова В.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2023 года.
Бесплатный доступ
Проблема мифа в современном обществе вызывает устойчивый интерес у специалистов самого широкого спектра наук (философов, социологов, культурологов, лингвистов, политологов и др.), поскольку позволяет вскрыть латентные механизмы регуляции человеческого сознания и поведения. При этом в качестве объяснительных моделей используются различные трактовки самого феномена мифа. Автор выделяет две основные традиции его понимания, обозначенные как универсалистско-онтологическая и рационально-конструкционистская, а также характеризует их различия. В качестве интегративной перспективы предлагается использовать эвристический потенциал современной когнитивистики, а именно разработанной ею концепции регрессии. Показано, что две версии мифа используются, но по-разному акцентуализируются при описании различных этапов адаптационных процессов, происходящих на разных уровнях социального существования и в разных культурно-исторических контекстах.
Миф, онтология мифа, мифоконструирование, когнитивная наука, регрессия, социальный конструкционизм, мифодизайн
Короткий адрес: https://sciup.org/149144740
IDR: 149144740 | УДК: 130.2:291.13 | DOI: 10.24158/fik.2023.12.1
Текст научной статьи Миф в современном обществе: когнитивная концепция регрессии как перспектива интегративного подхода
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, ,
2023; Hendy, 2002; Hong, 2022; Lincoln, 2014; Mills, 2020; Xiyao, 2019), но и о многочисленных работах, имеющих прикладное, практическое значение – касающихся анализа мифологических оснований при формировании идеологических конструктов в современной политике (см., например: Apolte, Müller, 2022; Kirke, 2019; Widerquist, McCall, 2017; Dege, Keum, 2023), а также при создании маркетинговых продуктов в рамках современных культурных и креативных индустрий (см., например: Czeremski, 2020; Kilinc, 2015; Rubio-Hernández, 2011; Galanina, Salin, 2017; Irawan, 2012).
При этом обозначенная предметная область чрезвычайно диверсифицирована по концептуальным основаниям, методам и характеру аргументации в силу того, что они привносятся в качестве исследовательских инструментов представителями различных наук, опирающихся на разные трактовки мифа. Неслучайно одним из ключевых направлений в данном предметном поле является поиск вариантов интегративной теории мифа (Иванов, 2018; Ставицкий, 2019; 2022). На наш взгляд, для современного уровня понимания возможностей такой интеграции наиболее продуктивными являются две перспективы – использование общенаучных методов и парадигм (например, системного подхода) и привлечение актуальных теоретических результатов, новых для данной предметной области наук, исследовательский ракурс которых может оказаться нетривиальным (но при этом релевантным) для понимания механизмов функционирования мифа в современном обществе.
В рамках данной статьи будет предпринята попытка показать эвристическую значимость теоретических принципов такой области знания, как когнитивистика, а именно разрабатываемой в ее рамках концепции регрессии, которая может послужить основой оригинальной интерпретации современного мифоконструирования.
В качестве исходной позиции мы предлагаем (не ставя перед собой задачи всеобъемлющего обзора имеющихся трудов по проблеме мифа) выделить и охарактеризовать две основные традиции в трактовке феномена мифа, сложившиеся на основе классических его концептов, которые можно обозначить как универсалистско-онтологическую и рационально-конструкционист-скую, чтобы в итоге обозначить возможность их теоретического сближения на основе исследовательского ракурса современной когнитивистики.
Универсалистско-онтологический подход к пониманию мифа . Идеи об универсальной природе и кросс-культурном характере мифа были связаны с научными традициями в социологии, антропологии, истории религии, сложившимися еще в конце XIX – первой половине XX вв. В этом плане выделяются английская и французская антропологические школы, основанные на изучении онтологии архаического мифа. К первой относятся такие ученые, как Б. Малиновский, А. Радклифф-Браун, Э. Тайлор, Дж. Фрэзер и др. Вторая базировалась на идеях Э. Дюркгейма и включала наработки таких исследователей, как Л. Леви-Брюль, М. Мосс, Р. Герц, К. Леви-Стросс и др.
При этом сформировалась исследовательская позиция, которая признавала, что изучение первичных, архаических коллективных представлений, их связей и сочетаний в древних обществах сможет пролить свет на генезис категорий, логических принципов и поведенческих установок современного человека. Как писал Л. Леви-Брюль, «не существует двух форм мышления у человечества, одной – пралогической, другой – логической, отделенных одна от другой глухой стеной, а есть различные мыслительные структуры, которые существуют в одном и том же обществе и часто, может быть всегда, – в одном и том же сознании» (Леви-Брюль, 1994: 8).
В рамках данной универсалистской традиции трактовки мифа были выявлены и сформулированы основные атрибутивные характеристики мифологического мышления:
-
1. Синкретизм – изначальная нерасчлененность архаического мышления, нераздели-мость человека, природы и мира духов.
-
2. Холистические представления о сознании человека (недифференцированность логической, эмоциональной и аффективной его сфер).
-
3. Особое представление о причинно-следственной связи, когда истинная причина происходящего отыскивалась за пределами физического мира – в мире духов и сакральных смыслов.
-
4. Понимание пространства и времени как качественно неоднородных, что связано с различной концентрацией сакральных компонентов (пространственных зон, временных отрезков).
-
5. Парадигмальный характер мифа: вычленение мифологического первовремени и ритуалы его воспроизводства создают прецедент и образец для последующих поколений людей.
В онтологическом плане миф воспроизводится в структурах бессознательного и при этом, в соответствии с идеями К. Юнга (Юнг, 2021), может служить инструментом распознавания психических состояний современного человека. Как писал К. Леви-Стросс, «мифы мыслят в людях без их ведома», поскольку в сознании архаического и современного человека существуют общие «структурные построения» (Леви-Стросс, 2000: 20).
Обобщая аргументы в пользу универсалистской и кросс-культурной природы мифа, можно выделить основные из них. В первую очередь универсальный социетальный характер мифа обу- словлен тем, что он транслирует образцы, поведенческие паттерны для разнообразных человеческих действий, которые служат основанием для самоидентификации и солидарности различных социальных сообществ, мощнейшей объединяющей стратегией.
При этом паттерны мифологического миропонимания имеют особое смысловое измерение – они являются образцами гармонизации мира. Основой для гармоничного миропонимания служат заложенные в мифологическом мышлении принципы холизма и синкретизма – единства человеческого существования с миром природы и духовным миром. Как отмечает Е.М. Мелетин-ский, «миф объясняет мир так, чтобы универсальная гармония не была поколеблена… Миф интересуется местом человека в природе и культуре, его социальной ролью. Существует обратная связь в мифе между объяснением мира и его парадигматической сущностью. Высшая реальность мифа – источник и модель всякой гармонии. Вот почему миф остается живым и всегда находит себе место на некотором интеллектуальном уровне» (Мелетинский, 2000: 31). Именно поэтому, как писал М. Элиаде, «мифологическое мышление может отбросить свои прежние устаревшие формы, может адаптироваться к новым социальным условиям, к новым культурным поветриям. Но оно не может исчезнуть окончательно» (Элиаде, 1994: 176).
Важный фактором, универсализирующим обращение к мифу, является его императивный характер: в мифе заложены не только алгоритмы миропонимания (интерпретации), но и сакрально-легитимизированного (а поэтому признаваемого правильным) действия. Последнее предполагает некритическое, нерефлексируемое отношение к образцу – он не обсуждается и не подвергается сомнению именно в силу своей «сакральной легитимации».
Таким образом, универсалистско-онтологический подход опирается на концепт абсолютизации мифа, который находится «везде и всюду» как незримый резервуар (культурный ресурс) для обоснования человеческого существования в любом социально-историческом контексте. Как отмечал А. Лосев, миф – это «трансцендентально-необходимая категория мысли и жизни… это подлинная и максимально конкретная реальность» (Лосев, 2001: 37).
Рационально-конструкционистский подход к пониманию мифа . Иной подход представляет понимание мифа как сознательно деформированного сознания. В этом случае он представляет собой не столько результат бессознательных механизмов, сколько рациональную деятельность по конструированию символических значений по законам, напоминающим инженерную задачу, технологизированную по своей сути.
Родоначальником такого подхода можно считать Э. Кассирера, который, анализируя создание политического мифа в нацистской Германии, отмечал, что «новые политические мифы не возникают сами собой … они – артефакты, изготовленные искусными и хитрыми ремесленниками» (Кассирер, 2011: 118). Э. Кассирер выделял несколько технологических процедур создания такого мифа:
-
1. Возрождение магической функции языка (слово как заклинание), суть которой – пробудить определенные эмоции и инициировать определенные действия людей.
-
2. Введение новых ритуалов – сакральных и поэтому обязательных для исполнения.
-
3. Выполнение создателями мифов функции колдунов или магов, которые якобы транслируют «простым смертным» волю богов.
Р. Барт, продолжая критическую, разоблачающую традицию Э. Кассирера в плане понимания современного мифа, представил свою технологическую версию мифоконструирования с позиций коннотативной семиологии. Миф не возникает из «природы вещей» – он конструируется, когда предмет произвольно наделяется определенным значением, обработанным для целей конкретного коммуникативного акта. В мифе как особой формообразующей процедуре происходит освобождение образа от прежнего содержания и наполнение его новыми смыслами. «Миф ничего не скрывает и ничего не демонстрирует, он деформирует; его тактика – не правда и не ложь, а отклонение… его задача – “протащить” некую понятийную интенцию», для чего и создается «вторичная семиологическая система», натурализующая миф (Барт, 2008: 289). «Деформирование», которое осуществляется в мифе, происходит по определенным правилам. В частности, все утилитарное и идеологическое переводится в статус вечного, а измышленное – в статус естественного, само-собой-разумеющегося.
В ситуации современного потребительского общества (с его запросом на симулякры в сфере маркетинга и политики) критический призыв Р. Барта к разоблачению манипулятивных технологий мифоконструирования парадоксальным образом нашел свое продолжение в интенсивном развитии мифотехнологий как рационально обоснованных стратегий и тактик мифоди-зайна. Под последним А.В. Ульяновский понимает проектный междисциплинарный метод, позволяющий соединить утилитарную эффективность, свойственную прагматичным бизнес-инстру-ментам, и внимание к долговременным последствиям, свойственным культуре как целостности. Мифодизайн опирается на понимание современного социального мифа, в котором (в отличие от классического мифа) не существует непроходимой границы между реальностью, мифом и ложью, «они контекстуальны, зависят от мировоззрения целевых аудиторий и замыслов менеджеров социальной и физической реальности» (Ульяновский, 2011: 5). Мифодизайн включает совокупность технологический приемов, системы мифологических аргументаций (основанных на стереотипных и эмоционально-образных решениях), рекомендаций по приданию маркетинговому сообщению культового статуса, терминальной аргументации на основе концепции ценностей, целей и стиля жизни в психографическом сегментировании.
В рамках мифодизайна конструирование мифа в маркетинговых целях осуществляется в соответствии с алгоритмом (последовательностью шагов) классической технологии, включая постановку маркетинговых целей, получение информации о внутреннем мире потребителей, разработку мифа на основе мифологических аргументаций, создание его художественных воплощений, концепции сообщения (эскизов, текстов) на основе выбранного (разработанного) мифа и проверку сконструированного продукта на предмет доверия потребителя (то есть эффективности продукта) (Ульяновский, 2011: 159).
Подводя итоги сказанному, можно констатировать, что различия в подходах фокусируются на вопросе о том, как функционирует миф в современном обществе – либо мифологические паттерны воспроизводятся в бессознательных архетипических структурах современного человека (сообществ), либо они сознательно конструируются как рациональные концепты, преследующие определенные цели.
На наш взгляд, интеграция этих двух подходов в единой объяснительной модели возможна на основе идей современной когнитивистики, а именно – концепции регрессии.
Регрессия как фактор мифоконструирования: исследовательский ракурс современной когнитивистики . Проведение серии эмпирических исследований когнитивных механизмов регрессии позволило сделать важные теоретические выводы, демонстрирующие универсальный характер этого феномена и ее конструктивной роли в развитии сознания (Регрессия как этап развития …, 2017; Alexandrov et al., 2020).
В частности, было показано, что любое научение (как акт адаптации к новой ситуации неопределенности) начинается с процесса рассогласования между необходимостью достичь быстрого результата и отсутствием соответствующего опыта достижения. Этот период адаптации сопровождается усилением состояния стресса и высоким эмоциональным напряжением. Подобное состояние характеризуется «дедифференциацией общеорганизменных функциональных систем», то есть снижением активности сложных высокодифференцированных систем и активизацией более простых низкодифференцированных систем. Данный процесс ускоряет научение в новой области за счет того, что отключается имеющийся опыт, не подходящий для решения новой задачи (Регрессия как этап развития …, 2017: 116). Подавление актуализации ранее сформированных систем уменьшает их роль в возникновении «новых проб нового поведения». Продуктивность происходящих регрессивных процессов заключается в том, что отключается «перегруз» рациональной рефлексии и принятия ненужных вариантов. Вместо этого возникает возможность «грубого, но быстрого выбора нужного домена поведения» (Регрессия как этап развития …, 2017: 140). Такая стадия погружения в холистическое состояние сознания является необходимой и весьма конструктивной адаптационной фазой – здесь возникает некое «эмоциональное предрешение» – ощущение, что решение найдено, хотя человек не может его сформулировать и описать.
Неслучайно исследователи регрессии обращаются к наследию К. Юнга, который считал подобное состояние психики человека не просто обязательным этапом эволюции, а важнейшим условием любого творческого акта (Юнг, 2000: 19), так как оно является безграничным ресурсом нетривиальных решений.
Когнитивные механизмы регрессии готовят условия (предпосылки) для перехода на второй этап научения как адаптации к новой ситуации – этапу рациональной рефлексии, когда снова актуализируются высокодифференцированные системы, позволяющие сформулировать, аналитически оформить возникшие ранее «интуитивные предрешения».
Исследователи регрессии отмечают корреляции механизмов дедифференциации систем в фило- и онтогенезе. Регрессия на социальном уровне, в культуре проявляется как архаизация – процесс упрощения, примитивизации социокультурных систем, которые могут иметь адаптационный характер и являются обязательным этапом социокультурной динамики (Регрессия как этап развития …, 2017: 143).
Концепция регрессии, на наш взгляд, может выступать основанием интеграции двух обозначенных нами различных подходов к пониманию мифа в современном обществе. С одной стороны, она дает обоснование универсалистско-онтологической трактовке мифа. Последний представлен в ментальных структурах человеческого сознания, активизация которых обеспечивает универсальную необходимость в постоянно возобновляемых процессах адаптации к многочисленным ситуациям освоения нового. С другой стороны, на втором этапе адаптационного процесса миф предоставляет материал для создания рационального конструкта, фиксирующего осмысление новой ситуации. Он типизирует ситуацию, превращая ее в релевантные мыслительные паттерны, репрезентированные в языке, и в поведенческие модели, реализующиеся в императивных, сакрально легитимизированных типах действия.
Богатый материал для осмысления этих процессов дает когнитивная лингвистика, которая трактует языковое мифотворчество не столько как сознательное конструирование, сколько как «эксплуатацию уже существующих конструкций, их стихийное или осознанное заполнение» (Маслова, 2021: 19), используя «вневременной мифологический эталон», включающий гармоничное отношение человека с миром, синкретизм рациональной, эмоциональной и аффективной сфер, мифологические способы разрешения противоречий.
Таким образом, две версии мифа востребованы, но по-разному акцентуализированы при описании различных этапов адаптационных процессов, происходящих на разных уровнях социального существования (индивидуального, группового, социетального) в различающихся культурно-исторических контекстах.
Заметим, что использование интегративного подхода к мифотворчеству в современном мире на основе когнитивной концепции регрессии может иметь не только теоретическое, но и практическое значение.
В прикладном плане данный подход объясняет, в каких условиях актуализируется социальное мифотворчество. В частности, в политической сфере это происходит в ситуациях неопределенности и необходимости быстрого выбора (электоральные периоды, смена политических элит, изменение политического курса, геополитическая турбулентность и т.д.). Эффективность мифотворчества в маркетинговых практиках обусловлена ситуациями, в которых возникает необходимость адаптировать потенциальную целевую аудиторию к новациям рынка (товарам и услугам) на основе особой, вызывающей доверие аргументации. Рациональная рефлексия подобных адаптационных процессов позволит обогатить арсенал современных социальных технологий за счет использования мифа как мощного креативного ресурса, не ограничивая его трактовку лишь формой искаженного, деформированного сознания.
Список литературы Миф в современном обществе: когнитивная концепция регрессии как перспектива интегративного подхода
- Барт Р. Миф сегодня // Мифологии. М., 2008. С. 265-323.
- Иванов А.Г. Теории современной социальной мифологии // Вестник Челябинского государственного университета. 2018. № 2 (412). С. 18-27.
- Кассирер Э. Технологии современных политических мифов (из книги «Миф о государстве») // Политико-философский ежегодник. М., 2011. С. 112-133.
- Кэмпбелл Дж. Мифы для жизни. СПб., 2023. 324 с.
- Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994. 608 с.
- Леви-Стросс К. Мифологики. Сырое и приготовленное. М. ; СПб., 2000. 399 с.
- Лосев А. Диалектика мифа. М., 2001. 559 с.
- Маслова Ж.Н. Современный миф как структура знания: объяснительная функция мифа в языковой картине мира // Вопросы когнитивной лингвистики. 2021. № 2. С. 16-27. https://doi.org/10.20916/1812-3228-2021-2-16-27.
- Мелетинский Е.М. От мифа к литературе. М., 2000. 169 с.
- Регрессия как этап развития / Ю.И. Александров [и др.]. М., 2017. 195 с.
- Ставицкий А.В. Общая теория мифа о структуре его функционирования // Мифологос. Серия «Философия мифа: онтология, аксиология, методология». 2022. № 1. С. 56-74. https://doi.org/10.35103/SMSU.2022.43.42.005.
- Ставицкий А.В. Роль мифа в современном обществе // Ценности и смыслы. 2019. № 3 (61). С. 47-60. https://doi.org/10.24411 /2071 -6427-2019-10068.
- Ульяновский А.В. Мифодизайн в рекламе. СПб., 2011. 168 с.
- Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1994. 251 с.
- Юнг К.Г. Критика психоанализа. СПб., 2000. 303 с.
- Юнг К.Г. Психология бессознательного: О психологии бессознательного. Отношения между Я и бессознательным. М., 2021. 320 с.
- Alexandrov Y., Feldman B., Svarnik O., Znamenskaya I., Kolbeneva M., Arutyunova K., Krylov A., Bulava A. Regression II. Development Through Regression // Journal of Analytical Psychology. 2020. Vol. 65, iss. 3. P. 476-496. https://doi.org/10.1111/1468-5922.12596.
- Apolte T., Müller J. The Persistence of Political Myths and Ideologies // European Journal of Political Economy. 2022. Vol. 71. Р. 102076. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2021. 102076.
- Czeremski M. Between Myth and Brand. Aspects of Myth in Marketing Communication // Studia Religiologica. 2020. Vol. 53, iss. 3. Р. 239-253. https://doi.org/10.4467/20844077sr.20.017.12757.
- Dege C.L., Keum T.-Y. Editors' Introduction: Political Myth in the Twentieth Century // History of European Ideas. 2023. Vol. 49, iss. 8. Р. 1199-1203. https://doi.org/10.1080/01916599.2023.2198541.
- Galanina E., Salin A. Mythology Construction in Virtual Worlds of Video Games // 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts Sgem. Sofia, 2017. P. 507-514. https://doi.org/10.5593/sgemsocial2017/22/s09.067.
- Hendy A. The Modern Construction of Myth. Bloomington, 2002. 386 p.
- Hong Y. Return of Myth, Myth Resources, and the Contemporaneity of Mythology in Korea and China Today // International Journal of Korean History. 2022. Vol. 27, iss. 1. Р. 325-354. https://doi.org/10.22372/ijkh.2022.27.1.325.
- Irawan A.M. Mythology Constructions in Cosmetic Advertisements and Consumers' Cognition // Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan. 2012. Vol. 1, iss. 1. P. 38-46.
- Kilinc U. The Use of Myths as an Advertisement Strategy at the Age of Social Media // Handbook of Research on Effective Advertising Strategies in the Social Media Age. Hershey, 2015. P. 406-415. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-8125-5.ch022. Kirke X. Hans Blumenberg: Myth and Significance in Morden Politics. Cham, 2019. 124 p.
- Lincoln B. Discourse and the Construction of Society: Comparative Studies of Myth, Ritual, and Classification. Oxford, 2014. 304 p. https://doi.org/10.1093/acprofoso/9780199372362.001.0001.
- Mills J. The Essence of Myth // Journal of Indian Council of Philosophical Research. 2020. Vol. 37. P. 191-205. https://doi.org/10.1007/s40961 -020-00198-3.
- Rubio-Hernández M. Myths in Advertising: Current Interpretations of Ancient Tales // Academic Quarter. 2011. Vol. 2. P. 288-302. https://doi.org/10.5278/ojs.academicquarter.v0i02.3130.
- Widerquist K., McCall G.S. Prehistoric Myths in Modern Political Philosophy. Edinburgh, 2017. 272 p. https://doi.org/10.3366/ed-inburgh/9780748678662.001.0001.
- Xiyao H. Social and Political Criticisms Embedded in Chinese Myths and Legends // Folklore: Electronic Journal of Folklore. 2019. Vol. 75. P. 109-130. https://doi.org/10.7592/fejf2019.75.xiyao.