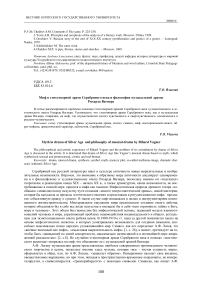Миф в стихотворной драме серебряного века и философия музыкальной драмы Рихарда Вагнера
Автор: Власова Татьяна Олеговна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 10, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема освоения стихотворной драмой Серебряного века художественного и эстетического опыта Рихарда Вагнера. Установлено, что стихотворная драма Серебряного века, как и музыкальная драма Вагнера, опиралась на миф, где осуществляется синтез чувственного и сверхчувственного, космического и реально-человеческого.
Стихотворная драма, музыкальная драма, синтез, символ, миф, мистериальный сюжет, образ-мифема, драматический характер, лейтмотив, серебряный век
Короткий адрес: https://sciup.org/148178478
IDR: 148178478 | УДК: 8-1/9-2
Текст научной статьи Миф в стихотворной драме серебряного века и философия музыкальной драмы Рихарда Вагнера
Серебряный век русской литературы ищет в культуре античности новые выразительные и изобразительные возможности. Впрочем, это внимание к образному миру античности апеллирует одновременно и к философскому и художественному опыту Рихарда Вагнера, поскольку именно он «подсказал» теоретикам и режиссерам конца XIX – начала XX в., а также драматургам, какие возможности, не востребованные в полной мере, кроются в мифе как таковом. Мифологическая природа древнего театра «сообщала» символистскому искусству пути создания «нового театра мистической драмы», новой мистерии, которая бы выходила за пределы эстетического явления и представала в ритуализованном мифе, предлагая «объективную правду о сущем». В таком случае миф оказывался и целью и инструментарием воплощенного жизнестроительства. Мистериальное ощущение мира предполагало создание такого действа, которое объединяло бы в себе все виды искусства и вмещало бы в себя «всю огромность тайны о Боге, мире и человеке». Этот объем был немыслим без мифологической основы, задающей модель взаимоотношений человека и мира, укрупняющей проблему взаимодействия индивидуального и общего, актуальную для экзистенциального опыта рубежа веков. В 1900-1910-е гг. одна за другой появляются пьесы на основе мифологических сюжетов, в которых усматривалась возможность для создания символов, способных максимально полно передать усложнившийся мир. Символ, как его определяет А.Ф. Лосев, это «внешне явленный лик мифа», «смысловая выразительность мифа» [1, с. 26], а значит, претендует на то, чтобы быть «наивысшей по своей конкретности, максимально интенсивной и в величайшей мере напряженной реальностью» [2, с.8]. Не случайно стихотворная драма Серебряного века в поисках «мистического реализма» опиралась на миф, что объединяет ее с музыкальной драмой Вагнера.
А.Ф. Лосеву музыкальная драма представлялась наиболее совершенным произведением человеческого творчества в целом, поскольку именно здесь музыка, которая «вся – чистая сущность мира», оформляется в образ, или, по А.Ф. Лосеву, «зацветает образом». Невыразимое находит свое внешнее, овеществленное выражение, но при этом, попадая в пространственно-временные координаты, не конкретизируется, а символизируется, «транскрибируется» с помощью символов. Символы, как пишет А.Ф.
Лосев, «всегда говорят нам об общем» и универсальном. Они служат эмблемами «мировых тайн», которые даны нам лишь как «смутное предчувствие (для ума)» или как «ясновидение (для души)». Поэтому музыкальная драма, которая по своему существу является символической драмой, в представлении А.Ф. Лосева «не знает грани между космическим и реально-человеческим» [3, с. 617-618]. Одно через другое осуществляется и овеществляется, сверхчувственное и чувственное обретают тот синтез, который возможен, прежде всего, в мифе.
В среде символистов, как отмечает З.Г. Минц, «искусство в целом как наиболее совершенное проникновение в тайны бытия и как его преображение само по себе приравнивалось к мифу – его природной и культурной функции». А собственно античный миф как сюжетный источник соответствовал стремлениям поэта преображать реальность. Он позволял отстраниться от обыденности, избежать «прямого разговора» с натурой и балансировать на грани между видимым и невидимым, тайным и явным, здесь и не здесь. Эту двойственность, в общем свойственную эпохе модерн, стилю модерн, задавал мифологический образ, соединяющий в себе два измерения: реальное и условное. Кроме того, общим для всех символистских теорий явился постулат о неразличимости в мифологии «внутреннего и внешнего, души и тела, индивидуума и общества» [4, с. 394], наконец, о синтезе чувственного и сверхчувственного. Миф, мифологический источник сюжета, содержал в себе в виде потенции ощущение того, что «все едино и все возвращается на лоно первобытно единого» [3, с. 616], давал ощущение красоты, которая выносилась за пределы трех измерений данного, видимого мира. Потребность именно в такой красоте, принадлежащей миру сущностей, миру платоновских «эйдосов», определяла комплекс ожиданий от современной сцены: «Все мы хотим на сцене, прежде всего, красоты, но не статуарной и декоративной, а красоты как таинственной силы, которая освобождает нас от тумана и паутины жизни и дает возможность на минуту прозреть несозерцаемое, словом, красоты музыкальной, и эта-то именно красота и составляла идеал античной трагедии».
Наблюдаемая в стихотворной драме символистов тенденция «прорвать» эмпирику и вывести ее за пределы наблюдаемой действительности находится в прямой связи с опорой Вагнера на миф как «орудие образного раскрытия глубочайших прозрений в смысл жизни, в трагическую загадку бытия». Предмет своего поэтического творчества Вагнер определял как «изображение бессознательных сил», то есть экзистенциальное вовлечение зрителя в дела жизни и смерти, которыми ведает ритуал. Не случайно Вячеслав Иванов, называя Вагнера «предтечей вселенского мифотворчества», подчеркивает, что тот предпринял «трагическую попытку создать театр религиозный», установить мистическую общность исполнителей и зрителей, проникнуть за умопостигаемую завесу жизни и обнаружить универсальные противоречия, движущие мироздание. Философия Вагнера, как подчеркивает А.Ф. Лосев в комментарии к драмам, это «прежде всего и после всего существенный мистический символизм» [5, с. 672].
Миф, в понимании Вагнера, – это «поэма общего мировоззрения», содержание которой охватывает самый широкий круг явлений, но получает свое выражение в предельно сжатой, концентрированной форме. В результате трагедия, являясь, по Вагнеру, «не чем иным, как художественным завершением самого мифа», предлагает особый тип героя, индивидуальность которого призвана «воспроизвести существо человека вообще». Это давало основания обвинять Вагнера в отсутствии всякого представления о «характерах, натурах, типах, о человеческих личностях и обликах». Согласно В.С. Стасову, у Вагнера «не было ни потребности, ни способности изображать индивидуальные человеческие личности, каждую в своей отдельности или нескольких вместе, в их взаимодействии» [6, с. 268]. Это замечание может быть в полной мере отнесено и к стихотворной драме символистов, если учесть, что ее герой, вырванный из быта и освобожденный от социальных связей, лишается драматического характера в его традиционном понимании. Абстрагирование ситуации ведет к схематизированию образа, свертыванию его в знак, в который вчитывается множество значений и содержательных трактовок. Сходным потенциалом обладают «универсальные» образы-мифемы в музыкальной драме Вагнера. Вписанные в мифологическую концепцию трагического пути человечества, они вполне соответствуют масштабу обобщения. «Не живые люди, а отвлеченные алгебраические знаки», – так В.С. Стасов резюмирует драматургическую «неполноценность» мифологических героев, признавая за ними единственную функцию: «быть вешалками лирических излияний самого Вагнера». Однако об усилении лирического начала драмы, связанного с субъективным началом личности поэта, следует говорить применительно к стихотворной драме символистов. «Обобщенно-содержательная поэтичность», генетически восходящая к Вагнеру, достигает здесь своего абсолюта и выдвигает новое направление в искусстве театра 1900-х гг. В.Э. Мейерхольд определяет его как «условный театр», противостоящий «театру типов» [7, с.13].
А.Ф. Лосев, рассматривая в работе «Проблема символа и реалистическое искусство» образ Прометея, сводит его символическое значение к «эволюции отдельной личности, которая хочет действовать самостоятельно, то есть вполне сознательно и вполне индивидуально» [8, с. 228]. Эта установка на освобождение индивидуального сознания имеет отношение не только к герою трагедии Вячеслава Иванова «Прометей». Валерий Брюсов, следуя античной схеме сюжета, подчеркивает интерес к личности, которая опровергает бессилие человека и ограниченность его возможностей. Его герои, соответствуя антич- ным прототипам, сами выбирают свою судьбу, отменяют предопределенность силой своего желания и потому приравнивают свою силу к силе рока: «Мы победили Тартар и как боги мы». Это позволяет говорить о том, что Брюсов предлагает реконструктивное, стилизаторское воспроизведение античной трагедии, не выстраивая параллель между мифологическим героем и современником автора, что свойственно трагедиям Иннокентия Анненского.
Его героев отличает интенсивность переживания, вызванного трагическим сомнением в правомерности существующего миропорядка. Все попытки героя преодолеть косную материю жизни, «опошляющую и нивелирующую его личность», завершаются сознанием того, что «он лишь безразличный атом, который не только не вправе, но и не властен обладать поглотившим его миром» [9, с. 127].
Конфликт сознания «современной души» мыслится как изначально заданный и неразрешимый, поэтому он не развивается в противодействии героев, а выявляется в лирических монологах героя-избранника, заключающих в себе мироощущение поэта. Мифологическая образность и сюжетность выступают как выражение трагического мироощущения героя, а философские, этические и эстетические взгляды автора – как его глубинное содержание. «Поэт обращается снова к мифологическим фигурам, чтобы подыскать для своего переживания отвечающее ему выражение» [10, с. 186]. Он апеллирует к сознанию героя современной эпохи, «я» которого «хотело бы стать целым миром, раствориться, разлиться в нем, Я – замученное сознанием своего безысходного одиночества, неизбежного конца и бесцельного существования» [11, с. 102]. Этот «современный лиризм» отличает героев Анненского от героев Вячеслава Иванова, которые представляют собой персонифицированную идею, включенную в сложную, многоуровневую структуру мифа. И персонажи и конфликтные модели у Иванова – это поэтические метафоры, стягивающие в себе многочисленные ряды символических оппозиций и, в конечном счете, являющие собой «частный образ космического мученичества». «Трагедия титанического начала как первородного греха человеческой свободы», по Иванову, не нуждается в драматическом характере, который развертывается в действии и подчиняется прагматике внешнего действия, но создает «умопостигаемый характер лица», носителя принципа индивидуализации, отрицательного самоопределения.
При видимой разности подходов к мифологическим источникам все авторы, работавшие с античными сюжетами, предполагают обязательной музыкальную основу в драмах и воспринимают категории музыкального и трагического почти как синонимичные. Именно музыкальная природа античного театра, по мнению Анненского, привлекает зрителей рубежа XIX-XX вв. Без сомнения, для названной эпохи подсказки для подобной разверстки античности дал именно Р. Вагнер. Музыкальный строй поэтического текста позволяет преодолеть внешнюю сторону жизни и перейти с бытового на бытийный уровень содержания: «Прозреваем мир сущностей не разумно и не доказательно, а лишь интуитивно, не словесно, а музыкально», – постулирует Федор Сологуб в статье «Искусство наших дней».
Единство музыкальной и поэтической концепции свойственно, прежде всего, мифологическому театру Вагнера. Как пишет А.Ф. Лосев: «При помощи оркестровых лейтмотивов и их разнообразной группировки музыка проникает в самые сокровенные тайны, вплоть до побудительных импульсов, стоящих вне сознания действительного мира, благодаря чему открывается и разоблачается чувство в момент его таинственного возникновения». Вагнер стремится сделать миф доступным чувству и с этой целью наделяет мифологические образы человеческими свойствами, несмотря на то, что содержание их на самом деле сверхчеловеческое и сверхчувственное: «Что касается поэтической мысли, то она должна обра-щаться к восприимчивости чувства» [12, с. 409]. По убеждению Вагнера, только невольное сочувствие может служить гарантией понимания.
Самым действенным средством передачи поэтического содержания, как у Вагнера, так и в стихотворной драме Серебряного века, становится музыка, звуковая, ритмическая трансляция того, что лежит за пределами сознания и требует активных, творческих форм восприятия – со стороны зрителей. Со стороны исполнителей – наличие стиха в драме делает необходимым ритмическое голосоведение и интонирование. На этом М.Ф. Гнесин основывает теорию «музыкального чтения в драме», а В.Э. Мейерхольд отмечает, что в тех случаях, когда драматический театр «берется за пьесы, заключающие в самих себе музыку или исполняемые в сопровождении музыки», актерам недостает «графической записи (подобия нот)» [13,с. 245] для устойчивого произнесения роли.
Сюжет «Кольца Нибелунгов» – весь макрокосм, все его этажи – построен на системе узнаваемых тем, «лейтмотивов». Это своего рода звуковые персонажи-протеи, оркестровое звучание которых меняется, но при этом остается узнаваемым. Это темы предметов, например, непобедимого кольца Вотана, природных явлений, предельно абстрактные, «беспредметные» темы, такие как тема страдания рода Вельзунгов или тема Судьбы, – так же как и остальные лейтмотивы, которых насчитывается порядка ста, они поясняют суть происходящего. Лейтмотивы, или «повторы», у Вагнера выполняют не только конструктивную функцию, но и нередко приобретают характер символов и обобщений, которые находят выражение в конкретно-реальном, поскольку, по определению Шлегеля, «в мифологическом мышлении идейная образность субстанциально воплощена в самих вещах и от них неотделима». Вагнера отличает умение включать каждый мотив драмы во множество смысловых связей, обнаруживая в нем новые пла- ны содержания. В этом с ним совпадает Вячеслав Иванов, который сделал двигателем драмы слоистую структуру мифа. Образы-мифемы он встраивает в сложную логическую формулу, где взаимные соположения символов всякий раз выводят в новые смысловые пространства. К примеру, в трагедии «Тантал» идея Ницше о «трагедии солнца» как вечной замкнутости в самом себе и трагический мотив индивидуализма разрабатываются на вариативных «повторах» солярной символики, своего рода лейтмотиве на вербальном уровне.
Пределом возможностей поэта Вагнеру видится «оправданный чистейшим человеческим сознанием, отвечающий воззрению современной ему жизни, вновь созданный и понятно представленный в драме миф». Одну из важнейших функций мифа он усматривает в толковании сакральных событий, а также «в восстановлении почему-либо нарушенного равновесия сил, управляющих бытием индивидуума, коллектива и космоса» [12, с. 411].
В тетралогии «Кольцо Нибелунгов» Вагнер опирается, прежде всего, на мифы, называемые этиологическими (или космологическими), то есть на ту мифологическую архаику, которая дает абрис общей концепции мира и всемирно-божественных этапов его становления. Мистериальный сюжет, обладающий космическим и универсальным характером, он основывает на конфликте индивидуального бытия с Бытием, то есть на выпадении индивидуальности из изначального космического всеединства. Стихотворная драма символистов унаследовала у Вагнера мистериальный характер действия и мотив богоборчества, когда свобода мыслится как разрушительная сила, направленная в том числе и на ее носителя. Герой В. Брюсова, И. Анненского, В. Иванова пытается разрушить «границы естественного человеческого диапазона» и изменить предустановленный строй бытия. В результате космос оказывается под угрозой хаоса, под угрозой распада на части, каждая из которой претендует стать целым.
Вагнеровское восприятие мифа историко-филологическим знанием и образно-ассоциативной, или, как он любил выражаться, «пластически наглядной», способностью поэтического мышления привело его к открытию «идеальной интимной связи всех народных сказаний». Мифологический сюжет в музыкальной драме Вагнера предстает как трагедия человеческого бытия. В «Кольце Нибелунгов» она реализуется через мистическую историю мира и богов, которая в первой части представлена как история мира в аспекте знания и власти, в третьей части как история мира в аспекте власти и любви, а во второй части как божественная Первооснова до этой истории [14, с. 35]. «Незаконно и греховно отпавшая от общего божественно-премудрого и стихийно-непорочного лона индивидуальность» мыслится при этом как источник трагедии [5, с. 676]. Основные силы, которые борются между собой в «Кольце», – это сила самоутверждающейся, отъединенной индивидуальности, более в познании – Вотан, более в вожделении – «злость» Альбериха; и сила первозданной Основы, Творчества, Бездны, неустанно зовущая эту индивидуальность к воссоединению с Первозданно-Единым [5, с. 677].
В русской символистской трагедии на античные сюжеты трагическая вина так же понимается как «вина обособленного возникновения», как «первородный грех человеческой свободы». Соответственно их общей темой становится саморазоблачение титанического начала, а героями – «мифологические богоборцы, понимающие свободу как своеволие», они же – «архетипы грехов, непоправимо разрушивших изначальное космическое единство» [5, с. 691]. На античный сюжет драматурги проецируют современное стремление к саморазрушению и пути его преодоления, которые видятся в жертвенности. Жертва мыслится как символическое соединение горнего и дольнего мира, как необходимое восстановление распавшихся связей. С осознанной необходимостью восстановить нарушенную цельность жизни связан и особый интерес не просто к исключительной личности, а именно к мифологическому герою, который обладал сущностью естественного, органического человека.
Особенно отчетливо это проявляется в трагедиях Вячеслава Иванова, главным подспудным двигателем которых является «первородный грех отъединения», «воплощение духа в материи, побуждающий человека стремиться к развоплощению, освобождению, небытию» [16, с. 679] . Трагедию человеческого бытия он осознает как «непрерывную цепь греха и возмездия». Центральная тема его поэтической философии и драматургической практики – трагедия неправого ответа человека Богу: «Я есмь весь в себе и для себя и от всего отдельно» [16].
Вячеслав Иванов писал, что Вагнер – «второй после Бетховена зачинатель нового дионисийского творчества и первый предтеча вселенского мифотворчества». Как теоретик Вагнер «уже прозревал дио- нисийскую стихию возрождающейся трагедии... Миробъятный замысел его жизни, его великое дерзновение поистине было внушением Дионисовым. Над темным океаном симфонии Вагнер-чародей разостлал сквозное златотканное марево аполлонийского сна – мифа» [17, с.65]. Вячеславy Иванову импонировало сближение с ритуалом, который у Вагнера постоянно просвечивает в театральном действии – благодаря воздействию музыки. Не случайно Вагнер причисляется Ивановым к числу провозвестников символизма, предпринявших «трагическую попытку создать театр религиозный».
Поиски форм театрального воплощения мифа и сценического воспроизведения жертвенного ритуала, в которых стихотворная драма символистов ориентировалась на Вагнера, – генеральная линия театральных утопий Серебряного века. Все они так или иначе стремились к устроению жизни под знаком общности, «всеединства», «соборного действа». Как отмечает С.В. Стахорский, «это была своеобразная реакция на мучительно переживаемые процессы отчуждения личности» [4, с. 25]. Обращение общественного сознания к мифу в период кризиса индивидуализма было естественным, поскольку «миф не интересует личность в ее индивидуальном выражении»; для мифа человек – составляющая космоса, функция целого.
Не случайно в 1900-е гг., в период активных исканий русской театральной мысли, актуализировалась социокультурная утопия Вагнера и центральное понятие его эстетики – гезамткунстверк, или объединенное искусство, предсказывавшее появление «артистического человечества». «Всеобщее искусство», по версии Вагнера, должно было вбирать в себя все виды художественной деятельности: музыку, исполнительское, оформительское, режиссерское искусство, объединенное «драматическим содержанием». Только такое искусство, по мысли композитора, способно восстановить цельность жизни и дать людям объединяющую идею: «Мы заключим союз во имя святой необходимости, и братским поцелуем, который скрепит этот союз, будет произведение искусства будущего, созданное сообща» [12, с.150].