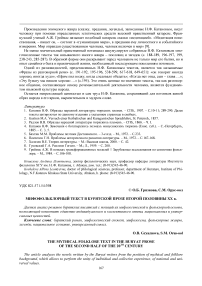Мифофольклорный текст в бурятской прозе второй половины ХХ в
Автор: Грязнова Оксана Борисовна, Орусоол Светлана Монгушевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: SA, 2012 года.
Бесплатный доступ
Дается анализ романов бурятских писателей с позиций их мифологической и фольклорной основы, позволяющей воплотить единство индивидуального и коллективного опыта, национальных и универсальных ценностей.
Бурятский роман, мифологический сюжет, мифологема, фольклорные жанры, легенда, национальное сознание, универсальный смысл
Короткий адрес: https://sciup.org/148181289
IDR: 148181289 | УДК: 821.571.54:398
Текст научной статьи Мифофольклорный текст в бурятской прозе второй половины ХХ в
В литературном процессе ХХ века, по мнению М. Турнье, автора теоретической работы «Мифология», широкое распространение получила реконструкция древних мифологических сюжетов, интерпретированных с большей или меньшей долей вольного «осовременивания». Мифологические образы и сюжеты позволяют увидеть в конфликтах и ситуациях нового времени общие закономерности бытия. Для российских национальных литератур другой популярной формой мифотворчества, согласно классификации М. Турнье, является воспроизведение таких фольклорных и этнически самобытных пластов национального бытия и сознания, где еще живы элементы мифологического миросозерцания [1]. В этом случае мы имеем дело с мифотворческой функцией фольклорного текста, назначение которой – создать новое произведение, где мифо-фольклорная основа, хотя и уведена в подтекст, позволяет автору решать важные художественные задачи.
Различия между мифологией и фольклором принципиальны: «если миф – это священное знание о мире и предмет веры, то фольклор – это искусство, т.е. художественно-эстетическое отображение мира, в правдивость которого верить необязательно» [2, с. 83]. Однако существенна и их генетическая общность: фольклор развивается из мифологии и обязательно содержит в том или ином виде мифологические элементы. В архаических социумах фольклор, как и мифология, носит коллективный характер, т.е. принадлежит сознанию всех членов определенного социума.
Несомненно, мифология и фольклор являются компонентом национального сознания, через которое происходит идентификация отдельных представителей этноса с единым, коллективным целым. Их активное использование в бурятской литературе также служит этой цели. С одной стороны, ориентация на универсальные категории и ценности, таящиеся в мифах и национальном эпосе, выводит бурятскую литературу к философской, интеллектуальной насыщенности европейского типа, с другой стороны, как ни парадоксально, активизирует процесс возвращения к своим историческим корням.
На уровне композиционной структуры мифологические, легендарные сюжеты могут разрывать основное повествование, вступая с ним в диалогическое соотношение и образуя так называемый «текст в тексте». Именно такая структура представлена в романе А. Бальбурова «Поющие стрелы» (1963) – легенда о сигнальной стреле, выпускаемой в битве, служит художественным аргументом в пользу главной интенции романа, которую очень точно выразила З.А. Серебрякова: « Роман («Поющие стрелы». – Э.У., О.Г .) – это живописание, даже любование национально своеобразным, выраженное в подтексте опасение навсегда утратить его, попытка своего собственного взгляда на национальный мир, стремление отстоять его, противопоставить его грозящей унификации и стандартизации и тем самым вписать в палитру общечеловеческого мироощущения» [3, с. 29].
Наряду с композиционной структурой «текст в тексте» в бурятской прозе второй половины ХХ века можно увидеть смену повествовательных отрезков, воплощаемую без каких-либо разрывов границ текста и реальности. Звучащие в сюжете многих романов мифы и фольклорные произведения могут быть символом-лейтмотивом, как, например, легенда о происхождении хори-бурят от красави-цы-лебедицы в романе «Мать-лебедица» Ц. Галанова (1975). Или могут выступать отдельным приемом, за архаической моделью которого проявляются универсальные категории, например, в романах Ц-Ж. Жимбиева «Степные дороги» (1962) и «Год огненной змеи» (1972).
Так, в романе «Степные дороги» обращением к устно-поэтическому творчеству служит трижды используемый композиционный прием – разговор героини чабанки Оюны с камнем в степи. И хотя камень имеет мужское имя Шулуун-абгай, для героини он предстает как собеседник с откровенно женской сущностью.
Интересно, что этот же прием можно увидеть в поэме Ц.-Д. Дондоковой «Шулуунууд дуулана» («Камни поют») (1968), построенной на основе исторического сказания о семи каменных курганах в хоринских степях. Камни поют о мучениях, страданиях и гибели подневольных женщин-рабынь, которые и возводили этот курган двести лет тому назад по приказу деспотичного хоринского тайши Дамбы-Дугара Иринцеева. В романе Ц.-Ж. Жимбиева связь с этой легендой опосредована и видится в том, что камень с Оюной разговаривает, олицетворяя собой сознание и энергию единой женской души.
Сюжет романа передает внутренний мир героини-девушки, которая мужественно взялась за тяжелую работу чабана. Оюна решила бросить вызов сложившимся традициям, согласно которым молодые люди, тем более девушки, никогда не шли в чабаны, и взяла самых худых овец в отаре. Вначале каменная баба, перекликаясь с ее опасениями и страхами, пророчествует: «За красивыми словами свой страх прячешь, девушка. Все равно сбежишь ты из этой степи. Сбежи-и-и-шь…». Затем разговор с волшебным камнем сводится к обсуждению тех новшеств, которые привнесло время в труд чабанов, и каменная баба задает вопрос за вопросом героине; так, она спрашивает: может быть, именно из-за этой непривычной для стариков техники, механизации ушел из бригады старый Согто-аха? И наконец, подводит итог этого сказочного общения: «Я за тобой давно слежу. По-всякому тебя испытывала. Пугала тебя, грозилась тебе… Любовалась тобой. Первый раз за все века вижу такого чабана, как ты. Ничего не боишься. Молодец! Ты все можешь…» [4, с. 233-234].
Легенда о говорящих камнях в степи творчески используется автором романа для проникновения в сферу подсознательного, чтобы уловить внутренние движения человеческой души, недаром разговор этот происходит в сновидении. И таким образом может, как мы убедились, служить сюжетообразующим началом, организуя последовательную связь событий и изменений в жизни героини.
Использование мифофольклорных мотивов и образов в бурятском романе в последующем значительно усложняется, приобретая все новые и новые формы. Этот процесс применительно к национальным литературам охарактеризовала У. Далгат: «На современном этапе развития многонациональных литератур чаще всего имеет место эстетически усложненный, «скрытый» фольклоризм, который порою трудно распознать без особой расшифровки. Для этого недостаточно только вчитываться в текст в поисках непосредственного фольклорного проявления, а необходимо изучить творческую лабораторию писателя в целом» [5, с. 11].
Процесс «скрытого фольклоризма» обнаруживается в традиционном для бурятской литературы приеме мифологизма, связанного с образами, восходящими к культовым представлениям бурят: например, в таких произведениях, как «Поющие стрелы» А. Бальбурова, «Долина бессмертников» В. Митыпова. Исследователи отмечали, что в романе А. Бальбурова получили художественное воплощение мифологемы солнца и луны. Они находят реализацию в изображении трагической судьбы героини Мани, которая, думая о своей участи, вспоминает бурятскую легенду о девушке, которую луна забрала к себе. Недаром гибель Мани изображена во время лунной ночи.
Подобные образы-лейтмотивы рождены из мифологических представлений бурят, в них почитание луны, наряду с солнцем, объясняется почитанием всего небесного пантеона богов – тэнгриев. Луна – возвышенное и справедливое божество в бурятских мифах, преданиях, сказках. Ее образ в литературных произведениях часто свидетельствует «о течении времени, о новых представлениях людей, настраивает на поэтический лад, заставляет грустить о несовершенствах людских, особенно видимых при свете вечной луны» [6, c. 182].
В романе В. Митыпова «Долина бессмертников» (1975) целый ряд природных образов создает эмоциональный подтекст происходящего: так, тревожный закат предвещает кровавые события, а засуха и жара, вызванные «воспаленным оком солнца», вызывают душевное изнеможение в героях двух реальностей – современной и исторической. Основной роман об археологических раскопках и вставной роман о хуннской истории соотносятся и сопоставляются благодаря изображению вечно повторяющихся и вечно изменчивых состояний в жизни степи: багровый отсвет зари продолжает выступать сигналом тревоги, а засуха, как всегда, разрешается спасительным дождем. И лунный свет своей таинственностью по-прежнему продолжает вдохновлять поэтов. Главный герой Олег Аюшеев пишет роман об эпохе гуннов и ночью на гуннском захоронении испытывает ощущение сопричастности каждому мигу вечности – он чувствует неуловимое тепло, исходящее от луны, этой «безмолвной свидетельницы минувшего», что является верным признаком творческого озарения. В чувствах и размышлениях героя романа В. Митыпова, таким образом, одновременно обнаруживается сознание отдельной – творческой – личности и сознание личности универсальной, воплощающее в себе некий коллективный опыт.
В романах К. Балкова также задан этот синтез личностно-индивидуального и универсальноколлективного. Целое собрание легенд, будь то история про охотника с черной стрелой в романе «Байкал – море священное» (1989) или история о плененном своим недругом хозяине Баргузинской тайги в романе «Горящие сосны» (2006), позволило писателю обратиться к вечным истинам и универсалиям.
В сюжет романа «Байкал – море священное» автор вводит историю об одном племени, кормившемся дарами моря и леса, уважавшем землю предков. Но не выстояло маленькое и гордое племя в противостоянии пришельцам-воителям, и тогда старейшины с женщинами и детьми «скрылись в море от глаз тех, кто незваным пришел на чужую землю… Долго стояли пришельцы-воители, и смяте- ние было в лицах, но еще и гордость за людей чужого племени, которые предпочли смерть неволе… Поклялись те воители не подымать больше меч, так и сделано было, и уж не покидают родных кочевий и живут мирно…». Данная легенда интересна тем, что автор зашифровал в ней простую, но важную истину, обращенную к отдельному человеку: «…Не поступись землею своею, что б ни содеялось, не поступись!..» [7, с. 3-4].
Об этой же истине как коллективном уроке гласит и предание о черной стреле: не захотели охотные люди, жившие на берегу Байкала, оставить свой улус по велению разбойных людишек, не испугались и всегда смело давали им отпор. А когда охотники оказались вдали от родных юрт, разбойники сожгли улус дотла.
Один из героев романа монах Бальжийпин, «изо дня в день одиноко бродя по таежным тропам, подолгу просиживая на байкальских берегах и вспоминая все те легенды и были, которые слышал и которые казались удивительными, а все же плоть от плоти земли, не придуманными – нет, он проникся убежденностью, что и сам часть сущего… И это наполняло его особою радостью, которая в прежние годы была незнакома…» [7, с. 82]. Все услышанные легенды и предания дают герою главный урок: человек может остаться человеком, когда способен осознать себя частью всего сущего, когда понимает, что нужно жить в согласии с миром.
Еще одна героиня романа – старуха Сэпэлма – в состоянии душевной дремы после смерти мужа Баярто воспринимает Бальжийпина как мужа, который принял другой облик. Она вспоминает последние видения мужа: «нарядных женщин в халатах… мальчиков, скачущих на резвых длинногривых скакунах». Он рассказывал ей: «Мне хочется остановиться, поговорить с тэнгриями, но я не делаю этого. Иду дальше к самой большой юрте, где живет владыка добрых тэнгриев. Еще издали до меня доносится его голос, и – останавливаюсь в трепете… Я слушаю голос: «Нельзя сдвинуть горы, если они обращены вершинами к вечному синему небу, невозможно пройти по канату времени в царство добрых тэнгриев, если твоя душа застыла в грехе. Знаю, что нужно тебе, и помогу. В подземном царстве Эрлик-хана восемьдесят восемь темниц, в них томятся души людей, тебе надо пройти туда, но сделать это трудно. Страшен в гневе Эрлик-хан, и, если ты ошибешься в пути, не сумеешь обмануть его верных нукеров – заянов, тебя ждет большая беда: отпустит твою душу Эрлик-хан в самую дальнюю темницу, откуда еще никто не выходил, и ты не узнаешь тайну, которую дано услышать тебе…»« [7, с. 38].
Это двойное видение – сон-воспоминание старухи о сновидении Баярто, поведанном жене перед смертью – его, шамана, предали огню – представляет собой желание Сэпэлмы увидеть второе рождение Баярто, его возвращение на землю в облике безгрешного, доброго человека, чья душа освобождена, поскольку он дал свободу другим людям. Для беспомощной старухи в Бальжийпине заключена реальная возможность увидеть добро на земле как воздаяние добрых тэнгриев, согласно мифологическому сознанию, и одновременно почувствовать веру в силу добра, воплощенного в отдельном человеке.
Роман «Байкал – море священное», изображающий события начала 20-го столетия, современен по своей художественной структуре, где бытовая, психологически детализированная жизнь строителей «железки» – Кругобайкальской железной дороги – неизменно одухотворяется философской мыслью автора, что раздвигает, размыкает фабульное пространство-время. Создается стойкое впечатление, что изменения в жизни героев – будь то подрядчик Студенников или странствующий бурят Бальжий-пин – происходят помимо воли автора, что эпические описания важны не своей информационностью, а лирически-проникновенной мифопоэтичностью. Простой русский мужик Христя Киш или обычная старуха бурятка полны поэтического проникновения в сущность человеческого бытия, благодаря восприимчивости автора к метафизическим проблемам, к мистически-иррациональному началу, воплощенному в преданиях и мифах.
Повествование в романе К. Балкова насыщено поэтичностью; легенды, органично встроенные в лирические размышления, полны таинственной мистики, неокончательности самой жизни. И это качество достигается благодаря образу-мифологеме, объединяющей роман «Байкал – море священное» с другим романом писателя – «Горящие сосны». В обоих романах в образе Байкала прочитывается мифологема воды. Повествование в них открывается и закрывается панорамой Байкала: «Лежит Байкал в глубокой зеленой чаше и медленно, будто нехотя ворочается; волны поблескивают в утреннем солнце, пошаливают…» [7, с. 3]; «Байкал зашумел, загудел, поднимая высоченные валы и бросая их на песчаный, близ Черного камня берег…» [8, с. 219].
С давних пор буряты поклоняются водной стихии, ведь по их представлениям вода сошла с небес. Вот почему Байкал выступает у Балкова ценностным символом – Универсумом, своего рода божеством, дающим кому-то жизнь или забирающим ее у кого-то недостойного, или строгим судьей, решающим судьбы каждого, обратившегося к нему. Не менее важно для писателя определение Байкала как мистического пространства, тайну которого желают познать и постепенно познают повествователь или герой-рассказчик. Одним словом, по Балкову, «велик Байкал и загадочен… Море сибирское… как символ чего-то неизбывного, вечного, окруженного таинственностью, которою мы окружаем все, что находится за пределами нашего разумения» [7, с. 3, 6].
Таинственность, мистика обнаруживаются уже в начальной главе романа «Байкал – море священное» – собрании легенд, в которой повествователь предстал перед читателем улигершином, торжественно сказывающим о батюшке Байкале под волнующие звуки хура. Все описал славный хранитель песен о священном море: о том, что лежит Байкал в зеленой чаше, что волны его могучи, что чайки его иссиня-белые, как пена, что неподсуден отец-батюшка людскому мнению: одному лаской ответит, а на мольбы другого равнодушно промолчит.
Являясь озером по законам географии, Байкал в мифологии народов, с древности населявших его бассейн, всегда считался морем. Эвенки называли его Ламу, тюрки – Тенгис, средневековые монголы – Далай, якуты – Байгал, китайцы – Бэйхай. Все эти слова в переводе означают «море», «океан». Когда в середине XVII века русские появились у берегов Байкала, они восприняли то название, каким пользовались живущие на этой земле буряты, – Байгаал-далай. Термин «далай», прилагавшийся к Байкалу, означал не просто море, а «обширный, как море», «океан великий и необозримый», что подразумевало культовое отношение к данному объекту. И действительно, мифы, предания и легенды населения Прибайкалья и Забайкалья содержат информацию о существовавшем в течение многих веков культе Байкала, почитании его «хозяина».
Разумеется, в таком восприятии этого природного явления есть преклонение человека перед водой как изначальной стихией. «В самых различных мифологиях вода – первоначало, исходное состояние всего сущего…» [9]. Вода как первоначало оживляет, а значит и одушевляет: в природе ничего нет бездушного.
Вода более чем какая-либо иная стихия поддается описанию поэтическим языком, т.к. она как материя единообразна и одновременно многообразна в визуальных и звуковых проявлениях. В образе Байкала как раз и увидел Балков такую метафору, кроме того, она у него выступает и как мифологема, как сжатое выражение ее универсальных культурных смыслов. Ведь среди смысловых оттенков образа чистой воды – ее свежесть, вносящая в природу и человека очищение. Обряды очищения имеют ценность и смысл как процесс возрождения. Путем очищения человек приобщается к некоей живительной возрождающей силе, которой наделяется каждая капля жидкости.
Так происходит в романе «Байкал – море священное»: Лохов выпил горсть воды из моря – прошла тревога, копится в душе уверенность. Общение Студенникова с озером сродни духовному очищению: когда на сердце тяжело, выйдет на берег, постоит и посмотрит на плещущиеся волны, и «тогда на сердце сделается легко и ясно, и слезы выступят на глаза, непрошеные, и он не будет стыдиться их…» [7, с. 42]. Христе Кишу в белом-белом море чудятся «церковки крашеные, принаряженные, зайти б туда и помолиться, авось полегчало на сердце и отпала бы тоска-печаль» [7, с.137].
Повествователь также находится во власти священного Байкала, но не только светлые мысли занимают его. «Что же произошло со всеми нами? Иль навсегда поселилось в нас то злое, пришедшее от Большого Ивана иль от кого-то еще, но тоже злое? Что ж, и не поломать уж этого, не сделаться добрым в своем отношении к земле человеком?»; «Куда же мы идем, люди?» [7, с. 92, 163]. Острая боль разрывает его сердце, и катятся слезы по щекам потому, что повествователь глубоко переживает отчуждение людей от своего рода, от родной земли. И здесь вода байкальская выполняет очищающую функцию, согласно нравственному смыслу национального обряда. Налицо идея истинной личностной идентификации, которая заложена как обязательная практически в каждом герое романа Балкова.
Таким образом, на примере образов-мифологем (камень, луна, вода), заимствованных авторами перечисленных бурятских романов из народных легенд и преданий, мы рассмотрели мифофольклорный подтекст как единство личностной идентификации героев и коллективного национального опыта. Кроме того, в этом подтексте заложено единство национального и универсального. Именно такова мифологическая основа любой национальной культуры, придающая ей универсальный смысл, именно таков мифо-фольклорный текст в анализируемом романе бурятского писателя о
Байкале, где о нем так и сказано: «Не русское море, не бурятское, не чье-то еще… Вселенское… по сей день непонятна человеку его неземная красота. От веку приходят люди к байкальским берегам, не с любовью, нет, с трепетом, как если бы это было святое место…» [7, с. 257].