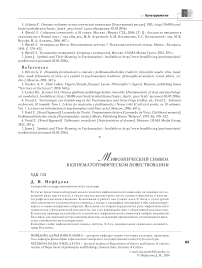Мифоэпический символ в кинематографическом повествовании
Автор: Нефдова Д.Н.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 4 (72), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен обзорный анализ понятия мифоэпической символики на примере исследований ряда мыслителей, а также кратко рассмотрено место данного феномена в кинематографическом повествовании. Ключевыми в работе выступают идеи Э. Лича о культурной обусловленности и контекстности символа, а также о специфике отношений в нём символизирующего и символизируемого образов. На основе его теории определяется роль мифоэпического символа как в фильмической реальности, так и во взаимодействии с объективной реальностью. В качестве примера включённости в кинотекст мифоэпической символики выбран индийский Болливуд, как крупный центр кинопроизводства, создающий произведения, отличающиеся яркостью, самобытностью и контрастами.
Мифоэпический символ, сигнум, э. лич, национальная символика, кинематограф, болливуд
Короткий адрес: https://sciup.org/144161028
IDR: 144161028 | УДК: 7.01
Текст научной статьи Мифоэпический символ в кинематографическом повествовании
НЕФЁДОВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА – аспирант кафедры теории и истории культуры, преподаватель кафедры философии и филологии Самарского государственного института культуры
NEFEDOVA DARIA NIKOLAEVNA – doctoral student of Department of theory and history of culture, teacher of Department of philosophy and Philology, Samara State Institute of Culture
D. N. Nefedova
Samara State Institute of Culture, Ministry of Culture of the Russian Federation (Minkultury), Frunze str., 167, 443010, Samara, Russian Federation
MYTHOEPHIC SYMBOL IN THE CINEMATIC NARRATIVE
Вся человеческая история и культура связана с бесконечным созданием символов и знаков. Ещё до формирования полноценных вербальных языков человек заложил основы «означивания», используя различные жесты и изображения для передачи информации и опыта. Даже с появлением языка (который сам, по сути, является знаковой системой) знаково-символические системы своего значения не утратили, во многом из-за возможности компактной передачи смыслов. И сегодня лавинообразно увеличивающийся поток информации диктует необходимость поиска средств её быстрого усвоения и компактной передачи. Этому, несомненно, способствуют формируемые человеком «сигнумы» (в формулировке Э. Лича [8]). Знаки и символы стали не просто средствами передачи смыслов, но удачным способом их «сжатия».
Первые последовательные суждения о сущности символа появились в трудах философов эпохи романтизма, которые изучали символ в контексте его соотношения со смежными категориями (в частности, схемой и аллегорией), а также анализировали взаимодействие содержания и формы (смысла и образа, общего и частного) в его структуре. В частности, И. Кант видел в символе один из видов изображения созерцаемого либо рефлексируемого, содержание которого, как правило, отда- лено от чувственно воспринимаемого образа и относится к иному, часто не наличествующему «во плоти» предмету [3, с. 226–227]. Г. В. Ф. Гегель характеризовал символ как «непосредственно наличное или данное для созерцания внешнее существование, которое не берётся таким, каким оно непосредственно существует ради самого себя, а должно пониматься в более широком и общем смысле» [2, с. 351]. К характерным чертам символа Гегель относил зашифрованность (необходимость извлечения смысла из внешнего образа) и двусмысленность (образ может быть как символом, так и только образом, а может обладать различными смыслами в зависимости от контекста).
Следующим этапом развития философской мысли можно считать фундаментальный труд немецкого учёного Э. Кассирера «Философия символической формы» [4; 5; 6], который стал одной из основ теории символизма. Автор использует понятия «знак» и «символ» как синонимичные – буквально друг за другом. И анализируя его труд с учётом этой особенности, можно отметить, что знак (символ) и функция обозначения-символизации – одни из основополагающих свойств человеческого сознания и мышления. Подобным образом человек не только передаёт информацию, но и обрабатывает, осваивает её. Знак (символ), с одной стороны, содер- жит в себе всё то общее, что присуще частному образу [4, с. 42], а с другой стороны, он содержит в себе множество незаметных чувственно, но существенных для мышления связей. «Создавая знаки, сознание всё больше освобождается от непосредственного субстрата ощущения и чувственного восприятия, однако именно этим оно убедительно доказывает изначально скрытую в нём способность связывать и соединять» [4, с. 42–43].
Русская мысль о символе и символическом нашла отражение в трудах А. Белого [1], А. Ф. Лосева [9] и других писателей и философов, которые не только развили взгляды своих предшественников, но и внесли некоторые новые уточнения и идеи, касающиеся данного феномена.
Культурная антропология, как наука более молодая, обратилась к проблеме символа уже в XX веке. Данным направлением занимались такие известные учёные, как В. Тэрнер [11], К. Леви-Стросс [7], Ю. М. Лотман [10] и другие. Развитие этих теорий привело к ряду изменений в восприятии символа и его места в культуре. В частности, появилось довольно чёткое различение знака и символа, отношение к которым хотя и не было идентично у различных исследователей, тем не менее ознаменовало собой новый этап в изучении этих феноменов. Кроме того, появились труды, рассматривающие символ как живой, действующий элемент культуры или её отдельного явления. Но особый интерес с точки зрения обозначенной в заглавии темы представляет теория символа английского культурного антрополога Э. Лича.
Все основные способы коммуникации (в особенности невербальной) Э. Лич объединяет в две категории: индексы и сигнумы. Индексы – это те, в которых проводимая ассоциация является естественной («дым – индекс огня»); сигнумы – это те, в которых проводимая ассоциация является культурной условностью. К последнему типу относятся знаки и символы [8, с. 20–21].
Особенности и отличия знака и символа выявляются посредством рассмотрения степени и типа взаимоотношений между объектом А (объект, или символизирующий образ) и объектом В (значение, или символизируемый образ). Знак характеризуется принадлежностью и А , и В к одному и тому же культурному контексту («корона – знак королевской власти»). Символ является таким сигнумом, в котором А замещает В при отсутствии предваряющей сущностной связи, то есть А и В принадлежат к разным культурным контекстам. Иначе говоря, в символе А замещает В в силу произвольной ассоциации. При этом степень произвольности может варьироваться, что позволяет выделить в качестве подвидов стандартизованный символ, в котором связь между А и В произвольна, но привычна, и уникальный (или индивидуальный) символ, где связь между А и В совершенно произвольна и зависит от прихоти отправителя [8, с. 19–22].
Символ всегда является плодом той или иной культуры и не имеет смысла вне культурного контекста. Кроме того, поскольку сама культура видится системой знаковосимволических форм, можно с готовностью утверждать, что способностью передать некую информацию будет обладать только сочетание знаков и символов, а не единичные образы или череда простых изображений [8, с. 116]. Отсюда следует необходимость знания и понимания того культурного контекста, в котором осуществляется коммуникация, поскольку в противном случае часть сообщения может быть упущена, а послание «не расшифровано» до конца, что породит, в свою очередь, ложные толкования.
Добавив к вышеизложенным идеям определение понятия мифа (в качестве са-крализованной символической формы, представляющей собой повествование в одной из возможных форм (вербальной, ритуальной, игровой и т.д.), которое позволяет конструировать особый вид вневременной реальности, требующий признания действительными и вживания в происходящие события и образы) и эпоса (как конкретизированного типа мифа), получим следующую формулировку: мифоэпический символ представляет собой внутренне обусловленный феномен, подразумевающий актуализацию и соотнесение устойчивого мифологического образа с вневременным культурным содержанием.
Данное определение видится наиболее актуальным для изучения сущности описываемого феномена в сфере искусства.
В частности, говоря о мифоэпической символике в кинематографе, можно выявить определённую последовательность, как правило характеризующую тот или иной образ (действие, реплику и т.п.) как носящего символический смысл и относящегося к мифологическому полю культуры.
Мифоэпический символ – достаточно частый элемент кинематографического повествования. Однако следует уточнить, что наиболее распространены в этом виде искусства феномены современного мифа: политического, социального, экономического и других. Традиционные мифологемы встречаются реже и не всегда носят символический характер (например, образ вампира в современном киноискусстве, хотя и навеян традиционной западноевропейской мифологией, лишь в редких случаях несёт в себе более глубокий смысл, чем представлено в сюжете). Количество моментов, содержащих в себе те или иные мифологические символы, зависит как от взглядов сценариста и режиссёра, так и от особенностей культурного контекста и окружающей действительности, в которой и для которой создаётся фильм. Так, индийский кинематограф, берущий своё начало в классическом национальном театре и изначально существующий в традиционной среде, всегда был в той или иной степени склонен к использованию мифологических сюжетов в своём повествовании. Помимо прямых экранизаций и демонстраций, мифоэпическая канва используется для символической передачи некоторой информации, характеров героев, расстановки акцентов и т.п. Например, героя кинофильма, действующего в современном нам мире, могут звать именем персонажа известного эпоса (для Индии – Рам или Лакшман, герои эпоса «Рамаяна»), либо он может совершать сходные с классическим персонажем поступки или вызывать иные ассоциации и параллели с мифом. С одной стороны, это будет лишь элементом непрерывного сюжетного действа, с другой – зрителю, знакомому с данной культурой, это может дать основания для переживания более сильных эмоций, усилить ассоциации с культурной реальностью, увеличить количество основ для идентификации, а иногда и частично подсказать дальнейшее развитие сюжета (так, у присутствующего в индийском фильме Рама обязательно в той или иной форме должен быть антагонист, ассоциирующийся с демоном Раваной из того же эпоса и обязанный потерпеть поражение в конце).
Кинофильмы изначально содержат в себе несколько реальностей: по меньшей мере, кинематографическую и объективно существующую, с которой первая так или иначе должна согласовываться. Однако подобные эпизоды добавляют ещё и реальность мифологическую, делая её пусть не столь явной, но неотъемлемой частью киноповествования. Можно констатировать, что мифоэпический эпизод, при условии отношения к кинематографической реальности и культурным контекстам современности, будет одновременно отсылать зрителя к контексту мифологической реальности. Иными словами, такое имя, образ или действие героя будут объектом А современного культурного поля, содержащего в себе значение В мифологического контекстного поля, то есть будут являться символами.
Индийский кинематограф и его произведения (особенно популярная продукция киностудий Болливуда в городе Мумбаи) являются, пожалуй, одним из наиболее ярких примеров присутствия мифоэпических символов в киноповествовании. Мифология с самого зарождения национального киноискусства Индии занимала значимое место в его системе, оказывая влияние на формирование сюжетов, характеров, приёмов. Так, многие фильмы в основе сюжетной канвы по сей день содержат отсылки к эпизодам традиционных индийских эпосов «Рамаяна» и «Махабхарата»: дружба или вражда семей, взаимоотношения братьев, истории любви и предательства – всё это находит отражение в классических текстах. Однако в более узком и конкретном смысле мифологемы в фильмах могут проявляться в самых разнообразных формах: от явного упоминания («Очень жаль, Рагван, что ты забыл свою “Рамаяну”. “Рамаяна” всегда заканчивается смертью Равана» – в фильме «Я рядом с тобой» (“Main Hoon Naa”, 2004)) и до тщательно завуалированных эпизодов, когда зритель до определённого момента не понимает – придавать ли более глубокое значение имени или реплике героя или же это лишь «случайный» эпизод. Так, в фильме «Ну что, влюбился?» (“Kyun! Ho Gaya Na…”, 2004) героя зовут Арджун, что может быть отсылкой к эпосу «Махабхарата», однако это становится ясно лишь тогда, когда один из персонажей произносит: «Ну и что, что он Арджун? Это не значит, что он имеет право поражать стрелами сердца своих близких» (Арджун, один из братьев-пандавов, мастерски владел луком).
Исходя из сказанного выше и не принимая во внимание многочисленные экранизации эпосов, можно утверждать, что мифоэпические образы в индийском кинематографе, как правило, бывают вписаны в современную действительность, что позволяет рассматривать их как символ в контексте фильмического повествования. По принципам масштабности охвата сюжета и открытости проявления их можно разделить на базисные (в основе повествования – мифологический сюжет), сюжетно-образные (отдельный элемент сюжета или образ героя даёт явную отсылку к мифологическим параллелям), условные (мифологический символ завуалирован и выявляется только в контексте определённой сюжетной ситуации). Необходимость «узнавания» подобных элементов, вписанных в кинематографическое действие, требует от зрителя особого внимания к деталям, а также знания национальной культуры и традиционных ценностей для полного понимания киноленты.
Нельзя утверждать, что включение той или иной традиционной символики в кинематографическое повествование происходит непрерывно и повсеместно. Однако сами традиционные основы индийского кинематографа и Болливуда, в частности, позволяют говорить о том, что мифоэпические символы играют существенную роль как для развития сюжета фильма, так и для восприятия зрителя. Символические элементы способны решить целый ряд задач, формируя связи между традицией и современностью, давая ориентиры и векторы культурного самоопределения и, в конце концов, определяя самобытность, уникальность и своеобразие киноленты.
Список литературы Мифоэпический символ в кинематографическом повествовании
- Белый А. Собрание сочинений. Символизм: книга статей / [подгот. текста В. М. Пискунова]. Москва: Культурная революция, 2010. 527 с.
- Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике = Vorlesungen über die Ästhetik: [в 2 томах] / [пер. Б. Г. Столпнера]. Санкт-Петербург: Наука, 2007. Т. 1. 624 с.
- Кант И. Критика способности суждения: [пер. с нем.] / [вступ. ст. А. Гулыги, с. 9-35]. Москва: Искусство, 1994. 367 с.
- Кассирер Э. Философия символических форм: в 3 томах. Том 1. Язык. / [пер. с нем. С. А. Ромашко]. Москва; Санкт-Петербург: Университетская книга, 2001-2002. 272 с.
- Кассирер Э. Философия символических форм: в 3 томах. Том 2. Мифологическое мышление. 1923-1929 / [пер. с нем. С. А. Ромашко]. Москва; Санкт-Петербург: Университетская книга, 2001-2002. 280 с.