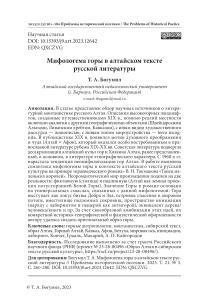Мифологема горы в алтайском тексте русской литературы
Автор: Богумил Т.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен обзор научных источников о литературной монтанистике русского Алтая. Описания высокогорных ландшафтов, созданные путешественниками XIX в., помимо реалий местности включали аналогии с другими географическими объектами (Швейцарскими Альпами, Ливанским хребтом, Кавказом), с иным видом художественного дискурса - живописью, с другим типом мироустройства - terra incognita. В публицистике XIX в. появился мотив духовного преображения и чуда (Алтай = Афон), который оказался особо востребованным в православной литературе рубежа XIX-XX вв. Советская литература подвергла десакрализации алтайский культ гор и Хозяина Алтая, ранее представленный, в основном, в литературе этнографического характера. С 1960-х гг. нарастала тенденция неомифологизации гор Алтая. В работе выявлена семантика мифологемы горы в контексте алтайского текста русской культуры на примере «краеведческого романа» В. Н. Токмакова «Танец маленьких королей». Неоромантический мир произведения поделен на две реальности: фиктивную (столица) и подлинную (Алтай как земная проекция потусторонней Белой Горы). Значение Горы (sic!) в романе основано на универсальных смыслах, связанных с данной мифологемой. Гора выступает как локус битвы Добра и Зла, островок спасения в мировом потопе, вместилище подземных сокровищ, пространство инициации (наряду с лабиринтом и пещерой как антигорой), эквивалент дерева / человека / книги и пр. За счет своеобразной комбинации этих идей, их конкретной историко-географической и фантастической оформленности автору удалось создать оригинальный образ горы.
Горные антропологии, монтанистика, сибирский текст, образ алтая, горный алтай, кавказ, афон, белуха, мировая ось, инициация, лабиринт, ковчег, грааль, макарий, а. п. кайгородов
Короткий адрес: https://sciup.org/147241443
IDR: 147241443 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12642
Текст научной статьи Мифологема горы в алтайском тексте русской литературы
Г еопоэтический образ Алтая в сибирском тексте русской культуры включает в себя художественное осмысление рельефа местности. Алтай — одна из самых больших горных систем Азии (1 900 на 1 300 км). Территория входит в состав четырех государств: России (Алтайский край и Республика Алтай), Казахстана, Китая, Монголии. Несмотря на то, что существенная часть русского Алтая является степной (в основном, Алтайский край), авторы произведений о регионе в первую очередь обращали внимание на то, что отличает данное пространство от равнин, сформировавших «географию русской души»1, — а именно на горы.
Восприятие, воображение, осмысление гор в культуре является предметом т. н. «горных антропологий» и «имажиналь-ных географий» [Замятин, 2009: 156]. Ментальным основанием «горных антропологий» выступает категория вертикали, ценностно маркированная в зависимости от направленности вверх или вниз (внутрь) [Замятин, 2009: 159].
Становление русской литературной монтанистики, т. е. традиции описания и осмысления горного пейзажа, началось в эпоху романтизма: «Страна равнинная и степная, по преимуществу озерно-речная, Россия и ее словесная культура формировали свою горную <…> философию, где "чужое" и "свое" корреспондировали друг с другом как внешнее и внутреннее, физическое и духовное, натурфилософское и этико-религиозное, горизонтальное и вертикальное» [Янушкевич, 2015: 6].
Согласно наблюдениям А. С. Янушкевича, романтическая «горная философия» прошла три этапа своего развития. Первый датируется 1810-ми гг., когда «Сибирь, Кавказ воспринимались как органическая часть России и осмыслялись в формах имагологического дискурса» [Янушкевич, 2015: 6], где существенную роль играло описание местного колорита. Символический потенциал кавказского пейзажа, основанный на оппозициях «бездна — высота», «горное — горнее», «горное — дольнее» и др., впервые был раскрыт в творчестве В. А. Жуковского. Как точно отметил А. С. Янушкевич, «Преступление и наказание, жизнь и смерть, любовь и предательство, ропот на судьбу и Бога и смирение с Божьим Промыслом определяют этическую семиосферу монтанистики» [Янушкевич, 2015: 9]. Экзистенциальная проблематика реализуется в сюжете вос-/нисхождения как «перемещения по вертикальной шкале религиозно-нравственных ценностей» [Лотман: 112], а также в образе монастыря или креста на горе.
Второй этап приурочен к рубежу 1820 — 1830-х гг. и связан с колониальным дискурсом (русско-кавказские войны). Третий этап относится к 1830-м гг. В этот период «Кавказ и Сибирь выявили новую форму колониальной политики — борьбу с инакомыслием и формирование мест ссылки и каторги» [Янушкевич, 2015: 7]. На всех этапах горы метафорически визуализируют эстетические, общественно-политические, историософские, философские размышления писателей.
В статьях А. С. Янушкевича (см. также: [Янушкевич, 2007]) представлена характеристика образов кавказских гор на примере творчества В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, тогда как сибирские горы упомянуты вскользь. Отталкиваясь от наблюдений и выводов томского филолога, Т. П. Шастина исследовала литературную монта-нистику, связанную с Алтаем.
Первые опыты описания алтайских высокогорных ландшафтов принадлежат путешественникам. Публикации историка, исследователя Сибири Г. И. Спасского в «Сибирском Вестнике» (Санкт-Петербург, 1818–1824) по впечатлениям от поездок на Алтай в 1806, 1809, 1813 гг. стали прецедентными текстами для зарождающейся традиции региональной монтанистики. Сформированный в статьях комплекс мотивов включает сопоставление гор Алтая со Швейцарскими Альпами2 и Ливанским хребтом3; наложение словесного пейзажа на живописный4; семантизацию Алтая как страны первооткрывателей, свободы духа, terra incognita [Шастина, 2011a]. Благодаря Спасскому в научной и популярной литературе закрепилось представление, что Алтайские горы — это «экзотическая составляющая имперских пространств, рай для художников и нетронутое поле для ученых» [Шастина, 2013a: 46].
Во второй половине XIX в. областник Н. М. Ядринцев подхватил заданную предшественниками географическую аналогию, о чем свидетельствует, например, название его очерка — «Сибирская Швейцария» (1880) — или фраза о любовании вершинами «Чуйских Альп»: «Я смотрел на них, как в Швейцарии смотрят на Монблан, Юнгфрау»5. Областник ввел новый для алтайской монтанистики мотив духовного преображения, реализуемый, во-первых, посредством приобщения рассказчика к чуждому ему миросозерцанию язычников-пантеистов, а во-вторых, — через легендарный сюжет о Беловодье как последнем рубеже «своего», русского, в осваиваемом пространстве. При этом цветообразы «белые воды», «синие горы», характеризующие реалии местности, становятся метафорами духовной высоты, чистоты, святости [Шастина, 2013b].
Дальнейшие наблюдения позволили Т. П. Шастиной сделать вывод, что «Горный (Русский) Алтай в светских травелогах сравнивался первоначально с Альпами, в эпоху романтизма — с Кавказом, в миссионерских же текстах превалирует сравнение "Алтай — Афон", вносящее в геопоэтический образ горного пространства топику святой горы» [Шастина, 2016: 219].
В книге протоиерея М. Путинцева «Алтай» (1883) регион «становится русским не только по принадлежности к России, но и по его русской вере» [Шастина, 2016: 225].
В произведении А. И. Макаровой-Мирской «Апостолы Алтая» (1909) Алтай перешел «из географического горного пространства в пространство духовное — горнее » [Шастина, 2016: 225]. В ее же «Алтайских рассказах» (1912) для детского чтения горные ландшафты становятся пространством житийного чуда, где «горы — алтарь, с которого возносится молитва о спасении или слова благодарности Всевышнему за спасение» [ Шастина, 2015: 385].
Христианские представления о сакральности высокогорья, об охранной функции гор не противоречили мировоззренческим установкам аборигенов-язычников, освещенным в научной (см., напр.: [Потапов]), популярной и художественной литературе с ярко выраженной этнографической направленностью. В советской литературе 1917–1950-х гг. алтайский культ гор и Хозяина Алтая подвергся десакрализации, на первый план вышла тема спортивных (в том числе альпинистских, туристических) и хозяйственных экспериментов в экзотической «национальной окраине», сопряженная с экологической проблематикой [Шастина, 2011b: 272].
Т. П. Шастина приурочивает возникновение неомифологи-ческих текстов об Алтае к 1960-м гг. Впрочем, индивидуальноавторские модели, опирающиеся на мифологию инородцев и старожилов Алтая, возникали ранее указанной даты: в романе В. Я. Зазубрина «Горы» (1933), рассказах И. И. Катаева «Под чистыми звездами» (1937), К. Г. Паустовского «Правая рука» (1943), В. В. Бианки «Она» (1944) и др. [Литературная мифология…: 76–81, 107–131].
В произведениях писателей Горного Алтая ХХ в. Гора является базовой пространственной мифологемой наряду с Рекой и Деревом [Бедарева, 2011]. Причем, по мнению И. А. Бедаревой, семантическое наполнение этих архетипов идет по пути нивелировки национальной специфики к общекультурным смыслам [Бедарева, 2016].
Наивысшая вершина Алтая — Белуха — полагается священной горой у народов Алтая и интернациональных последователей Н. К. Рериха. Русское наименование проявляет семантику Белухи как варианта Белой горы — мифологической мировой оси, ритуального центра (см.: [Элиаде: 25–32], [Генон: 243–248], [Топоров: 306–315]). Значение оронима подкрепляется нумерологической символикой, поскольку гора — трехглавая. Белуха равноудалена от четырех мировых океанов (Тихого, Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского), находится в середине Евразии и потому осмысляется как «пуповина» материка, связанная с космогонией, этиологией и эсхатологией вселенной [Литературная мифология…: 6–7]. Учитывая, что в геополитическом дискурсе начиная с первой
Мифологема горы в алтайском тексте русской литературы 267 половины ХХ в. Евразия позиционировалась как «центральная суша», «ядерный материк Земли» [Замятин, 2010b: 25], сакральная роль Белухи многократно возрастает.
Образ горы/колодца в таком, ритуально-мистическом, смысле постоянно возникает в романах алтайского поэта, прозаика, журналиста В. Н. Токмакова. В последнем на сегодняшний день романе писателя — «Танец маленьких королей» (2022) — относительно Белой Горы структурируется пространство и время, сюжет и смысл произведения.
Специфика художественной краеведческой прозы состоит в том, что она создается на основе «знаний об истории, географии, культуре данного региона» [Козлова: 109]. Задача настоящего исследования — выявить семантику мифологемы горы в контексте алтайского текста русской культуры. Внимание сосредоточено на указанном романе, т. к. в жанровом отношении он представляет собой «гибридный художественноисследовательский» текст [Замятин, 2010a: 29], сплавляющий воедино основные локально приуроченные сведения, интертекстуальные переклички и архетипические мотивы, связанные с образом горы.
В. Н. Токмаков избегает внятных географических указаний, однако в традиционной оппозиции «столица — периферия» узнаваемы Москва и Алтайский край. Опорами для идентификации «горной страны» как Алтая становятся имена людей, связанных с данным пространством биографическим и/или легендарным фактом. Так, вскользь упомянуто о встрече одного из героев с «немцем-басурманом» «с непонятной фамилией Гетлих или Геблер»6. Конечно, речь идет о выдающемся ученом-естествоиспытателе, географе, исследователе Алтая и враче Фридрихе Августе фон Геблере (1781–1850, Барнаул). Еще одно лицо — известный вор, разбойник и сыщик Ванька-Каин (1718 — после 1755) — в альтернативной версии его судьбы оказывается сосланным не просто в Сибирь, а именно на алтайский Змеиногорский рудник. В романе эта полулегендарная фигура видится прообразом героя местного фольклора — неуловимого б еглеца Сороки (156).
Развернуто представлена история Александра Петровича Кайгородова (1887–1922). Уроженец Алтая, сын русского крестьянина-переселенца и теленгитки, он получил офицерское звание во время Первой мировой войны. Во время Гражданской войны на Алтае выступал против красных. Кайгородов связан с главной темой романа — вечной битвой добра и зла:
«Он боролся с большевиками как с абсолютным злом, а не как с политической силой» (126).
Захваченный в плен красноармейцами, Кайгородов был обезглавлен7 Иваном Ивановичем Долгих (1896–1956), которого в свое время при сходных условиях пощадил. Известно, что в 1930-х гг., работая в системе ГУЛАГ, Долгих внес вклад в развитие альпинизма на Алтае: в 1935 г. он руководил массовыми восхождениями на Белуху. В мире романа совокупность данных реальных обстоятельств осмысляется как очередная попытка «захвата» Белой Горы силами зла. Тем самым, опираясь на исторические прототипы и достоверные сведения, Токмаков умело расставляет акценты и смешивает правду с вымыслом, чем добивается эффекта подлинности своего сюрреалистического мира.
Важнейший из персонажей, имеющих прототипы, — отец Макарий, собирательный образ христианского подвижника. Как известно, во время службы на Алтае М. А. Невский (при рождении — Парвицкий, 1835–1926) полагал высоким примером миссионерского служения основателя Алтайской духовной миссии Макария Алтайского (М. Я. Глухарева, 1792–1847) и потому при постриге в 1857 г. принял имя почитаемого проповедника и ученого (а также прп. Макария Великого Египетского, ок. 300–391) [Сечина]. Согласно преданию, вскоре ему во сне явился прп. Макарий (Глухарев) с ободряющими словами [Завидов, Крейдун: 90]. Со временем Макарий (Невский) стал новым «апостолом Алтая», как называли его предшественника современники. В романе преемственность имени разных людей преобразуется в мотив вечной жизни одной личности. Тому есть основания, восходящие к древним представлениям об имени как средоточии сущности человека и заданности его судьбы.
В произведении В. Н. Токмакова информация о деяниях отца Макария представляет собой сплав рационального и иррационального: протокольной записи домыслов; реалистичного нарратива, оборачивающегося сказкой и мифом; бессилия науки в объяснении чуда.
В архивных папках, найденных Максимом, находятся протоколы допросов, где зафиксированы противоречивые слухи о Макарии: он и борец с бесами, миссионер-чудотворец, и схимник, и выходец из хлыстов, ясновидец, добровольный сотрудник сыскного отделения в качестве охотника на сектантов-еретиков, и раскаявшийся беглый каторжник, преобразившийся в святого, и земное воплощение архангела Гавриила, а главное — искатель и затем хранитель Книги Волхвов, которую пытаются заполучить все герои романа.
Здесь актуализируется популярный в средневековой западноевропейской словесности мотив поиска Грааля, весьма востребованный современной мировой литературой. Согласно Р. Генону, «Грааль есть одновременно чаша (grasale) и книга (gradale или graduale)» — символический эквивалент Сердца Христа [Генон: 45]. В альтернативной реальности романа магический манускрипт представляет собой апокриф об Иисусе Христе, включающий описание жизни мессии в Индии и Тибете, а также молитвы, заговоры и заклинания, благодаря которым совершались чудеса изгнания бесов, превращения материи, воскрешения (121). В этом отношении интересен диалог между следователем и профессором, доктором исторических наук по поводу собранных чекистами данных:
«— Можно ли верить данной информации?
— Ни в коем случае! Помилуйте, это же народная молва.
Легенды, сказки, преданья старины глубокой, так сказать…
— Вы лично верите?
— Безусловно!‥» (31)
Собственно, весь роман представляет собой совокупность принципиально недоказуемых сведений, которым остается только верить — и героям, и читателям.
Путешествие Макария по горам Алтая в поисках книги моделируется согласно фольклорной традиции перемещения на «тот свет» [Славянская мифология: 462–463]. Искомое место характеризуется как «далекая и неизвестная дикая страна», недоступная «ни одному истинному христианину» (44), добраться до нее можно только с вожатым. Примечательно, что в этой роли выступает крещеный алтаец, названный в честь св. Николая, проводника душ в народных поверьях. Алтаец хромает — данный дефект в мифологическом контексте является знаком божественной избранности ( «Если бы ты не сломал ногу, то не стал бы тем, кем стал, а спился, как другие» (41) ) или хтонической природы (св. Николай восходит к языческой демонологии [Мифы…: 217]). К финалу в романе появится четвертый Волхв, ставший на сторону зла, который обиженно скажет: «Я <…> вел отца Макария… И что получил взамен?» (44). Имена персонажей созвучны: Николай — Нихиль («ничто»). Тем самым, в первой неудачной попытке добыть книгу Макария сопровождает амбивалентная сила.
Расположена тайная деревня высоко в горах, за малопроходимым лесом, над ней вечно светит солнце, дворы безлюдны и лишены домашней живности. Охраняет волшебную книгу могучий мужик с ярко рыжими волосами. Макарий узнает в нем поволжского крестьянина Василия Власатого, реально существовавшего проповедника самоистребления, от учения которого в XVI в. пошла практика самосожжения — «огненного крещения» (44). Листовки о розыске фанатика в романном мире висят «во всех околотках Руси» (50). Токмаков намеренно допускает анахронизм, ведь в художественном времени Макарий и, соответственно, Василий существуют в начале XX в. В облике мужика прочитывается солярный бог, который с легкостью отмахивается от претензий Макария на книгу и подытоживает: «…проверь для начала свою веру» (51). Тяжело раненый Макарий спасается благодаря Николаю. С трудом выздоровев, герой отправляется пешком в Оптину
Мифологема горы в алтайском тексте русской литературы 271 пустынь, где получает прощение грехов, избавляется от гордыни и укрепляет веру. Преображенный, он возвращается в горную страну в 1917 г. и с помощью трех Волхвов добывает реликвию.
В начале 1920-х гг. отец Макарий с Книгой Волхвов оказывается в отряде Кайгородова, однако не участвует в братоубийственной борьбе:
«Макарий не мог рисковать тем, что досталось ему с таким трудом и что не должно было попасть в руки ни красным, ни белым. Ибо ни у тех, ни у других не было права убивать» (127).
Хранитель книги приобретает волшебную силу и бессмертие. На черно-белой любительской пленке, сделанной этнографом на Алтае в 1970-х гг., запечатлено вознесение Макария:
«…бородатый и босой старик в рваной рясе плавно отрывается от земли и парит в воздухе. <…> Старик-священник медленно, раскинув крестом руки и задрав к небу изможденное лицо, поднимается все выше и выше» (121).
Понятно, что ученые не могут рационально объяснить этот феномен. Как и неоспоримый факт, что священнику в те годы было уже более 100 лет. Последнее появление отца Макария в романе связано с передачей книги новому хранителю — Максиму (преемственность подчеркивается совпадением начальных букв имен персонажей).
Главный герой, Максим Гадунов, приехал в столицу из алтайской провинции (по некоторым признакам опознаются города Яровое и Барнаул). Он по очереди существует в двух мирах (столичный город и Белая Гора), причем переход из одной реальности в другую осуществляется через лифт, сон, обморок и смерть. Жизнь в городе иллюзорна, подлинное существование — на Горе:
«А я только теперь и живу по-настоящему <…>, в той, другой жизни все кажется не очень умелыми декорациями, а люди — манекенами» (109).
Мифопоэтическая функция священной Белой Горы в романе традиционна — это «место, где, не прекращаясь, идет битва Добра и Зла»8 (70). Исайя Лемех, который возглавит оборону Горы, в 1930-е гг. пророчествует о грядущей Второй мировой войне:
«Живые и мертвые увидят на склонах Горы войско Сатаны, а на вершине — Христово войско. Никто не знает, сколько будет продолжаться битва, и кто победит, на каждый человек должен определиться, с кем он?» (39).
Имя персонажа, его портрет, речь и роль ( «Взгляд бесстрашный и обличающий, как у библейских пророков...» (32) ) отсылают к ветхозаветному прототипу. Фамилия «Лемех» означает часть плуга (орало) и является криптограммой крылатого выражения из книги пророка Исайи9: «Перекуют мечи свои на орала» (Ис. 2:4). Речь персонажа перефразирует слова пророка о горе: «И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы» (Ис. 2:2). В отличие от библейского текста, где говорится о наступлении полного мира на земле, в романе акцент поставлен на «последних временах», предшествующих миру.
Война, о которой вещает Исайя Лемех, — не первая и не последняя, ведь на Горе находятся люди «в военной форме всех эпох и народов» (90). На вершине с незапамятных времен стоит многоярусный Ноев Ковчег, в котором хранятся архивы за тысячи лет военных действий. Сюжет о потопе является едва ли не обязательным в общекультурной мифологии и мифопоэтике горы (310), поэтому естественно, что автор не прошел мимо него.
Белая Гора нигде однозначно не локализована. Сектанты еговисты-ильинцы, о которых рассказывает отец Макарий, верят, что «Иегова и Сатана одинаково сильны, ведут друг с другом непрекращающуюся борьбу. В конце времен произойдет решающееся сражение. И здесь, в горах, установится Иерусалимская республика, истинный рай на земле» (43).
Известно, что в исторической реальности последователи Н. С. Ильина (1809–1890) жили на Урале, в Средней Азии, на Кавказе и Украине. Однако в романном мире «горы», как было показано выше, географически отнесены к Алтаю. Когда Максим описывает открывшийся с вершины Белой Горы пейзаж, он сравнивает его с картинами:
«На фоне пронзительно голубого неба со всех сторон — величественные заснеженные пики. Горы кругом, покуда хватает глаз — огромные, фактурные, загадочные. Нездешние и непокоренные. Такие есть только на картинах Рериха» (100).
Монтанистика художника включает горы Алтая, но в большей степени — Гималаи (более 500 работ). Образы гор в творчестве Н. К. Рериха символичны, воплощают идею духовного восхождения. Закономерно, что на вопрос о местонахождении Белой Горы, дан ответ:
«Она везде… . Она в каждом из нас…» (39).
На вершине Белой Горы расположен вход в древний лабиринт, в недрах которого спрятана Книга Волхвов. Мотив скрытых сокровищ типичен для горной мифологии. Пещера (антигора) и лабиринт в трудах исследователей религий рассматривается как пространство инициации [Генон: 229–238], [Керн: 20–21]. Странствие Максима по лабиринту поначалу регулируется картой, напоминающей «зеленое ветвистое дерево», вписанное в белый треугольник (традиционный символ горы) (213). Данный образ опирается на универсальную концепцию горы как варианта мирового древа [Топоров: 307]. Особенность лабиринта заключается в том, что это путь не только в пространстве, но и во времени:
«…некоторые встречали там умерших знакомых или родственников. А то самих себя» (218).
Одновременно и пещера, и лабиринт являются аналогами человеческой психики, внутреннего мира, где разум и логика уступают место инстинкту и интуиции. Герой теряет карту и дальше идет наугад. Его действия приобретают все более архаичный ритуальный характер: он танцует и хохочет как ребенок. Как известно, смех и танец, особенно в связи с лабиринтом, имеют непосредственное отношение к древним обрядовым практикам (см.: [Элиаде: 48–49], [Керн: 16–19], [Пропп] и др.). Герой ощущает себя во сне. Здесь, возможно, содержится аллюзия на христианскую легенду о семи спящих отроках, одного из которых звали Максимилиан. Замурованные в пещере гонителями христианства, отроки спали более 300 лет, проснулись при благочестивом правителе и стали живым символом смены эпох [Мифы…: 426–427]. Ближе к центру лабиринта герой обнаруживает на стенах письмена, его путь становится процессом чтения и самоосознания:
«…я сам — всего лишь слова каменного дневника. Меня тоже кто-то пишет» (227).
Путем неимоверных усилий Максим достигает центра и видит хранителя Макария с фолиантом. Максим опоздал, злые силы рвутся за ним сквозь врата. Герою остается только один путь спасти рукопись — прочитать и съесть:
«Книга теперь была во мне, я становился книгой» (236).
В романе создается система эквивалентов: гора — дерево — лабиринт — танец — книга — человек. Сюжет о спасении Белой Горы и, тем самым, мира совмещен с сюжетом об инициации человека. Образ лабиринта ретроспективно помогает понять композиционную особенность романа. Нагорная жизнь, будучи истинной, — неизменна, тогда как каждое возвращение героя в фиктивную реальность города представляет собой слегка измененный вариант его судьбы (отношения с Катей, квартирный вопрос и пр.), т. е. уподоблен тупиковому ходу лабиринта. Сложно устроенный текст романа лабиринтоподобен. Финальное преображение заключается в разделении личности героя и распаде двоемирия на параллельно существующие реальности: человек-книга среди горной вечности (утопическое пространство) и водитель грузов по Горной Республике (географическое пространство). Городское пространство при этом исчезает. Дурная бесконечность перевоплощений на «ближайшую тысячу лет» (237) останавливается. Соответственно, прекращается повествование: «…рукопись обрывается…» (238).
Писатель создает индивидуально-авторскую мифологию места, полагая Алтай проекцией сакрального бытия. Горная антропология в романе метафорически обобщает историкосоциальные и философско-психологические конфликты человечества.
Итак, алтайская литературная монтанистика имеет свою историю, в целом совпадающую с общесибирской динамикой геопоэтических образов: от обобщенной абстрактности к детальной конкретизации [Рогачева, Драчева, Медведев: 127]; от реалистичных описаний к собственно художественным — метафорическим и символическим. Для произведений об Алтае в целом мало характерен специфичный для уральского текста теллурический (от лат. Tellus — земля) код, предполагающий устремленность в глубину [Абашев: 25]. Исключение составляют тексты о Рудном Алтае и мистическо-краеведческие романы В. Н. Токмакова. Сюжетно-мотивный комплекс, связанный с образами алтайских гор, в большей степени предполагает устремленность вверх. Аналогом физическому восхождению выступает мотив преображения души, реализуемый даже в том случае, если фактически герой спускается в недра горы, как это произошло в романе В. Н. Токмакова «Танец маленьких королей».
Available at: https://vestnik.utmn.ru/humanitates/vypuski-arhiv/philolo-gy/2012/110333/ (accessed on February 9, 2023) (In Russ.)
Список литературы Мифологема горы в алтайском тексте русской литературы
- Абашев В. В. Русская литература Урала. Проблемы геопоэтики. Пермь: Перм. гос. нац. иссл. ун-т, 2012. 140 с.
- Бедарева И. А. Эволюция фольклорно-мифологической системы в русской литературе Горного Алтая. Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т., 2011. 135 с.
- Бедарева И. А. Базовые пространственные мифологемы в русской литературе Горного Алтая ХХ века // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 10 (64). Ч. 3. С. 20–22 [Электронный ресурс]. URL: https://philology-journal.ru/article/phil20162504/fulltext (09.02.2023).
- Генон Р. Символы священной науки / пер. Н. Торос. М.: Беловодье, 2002. 496 с. 5. Завидов Д. С., Крейдун Ю. А. О личности святителя Макария // Бийск Православный: к истории Православия в городе Бийске Алтайского края / отв. ред. В. Буланичев. Бийск: Бия, 2006. С. 90–97.
- Завидов Д. С., Крейдун Ю. А. О личности святителя Макария // Бийск Православный: к истории Православия в городе Бийске Алтайского края / отв. ред. В. Буланичев. Бийск: Бия, 2006. С. 90–97.
- Замятин Д. Н. Горные антропологии: генезис и структуры географического воображения // Река и Гора: локальные дискурсы: сб. мат-лов Междунар. науч. конф. «Урал и Карпаты: локальный дискурс горных местностей» / отв. ред. В. В. Абашев. Пермь: Перм. гос. нац. иссл. ун-т, 2009. С. 155–162.
- Замятин Д. Н. Гуманитарная география: пространство, воображение и взаимодействие современных гуманитарных наук // Социологическое обозрение. 2010. Т. 9. № 3. С. 26–50 [Электронный ресурс]. URL: https://sociologica.hse.ru/2010-9-3/27369972.html (09.02.2023). (a)
- Замятин Д. Н. Метагеографические оси Евразии // Полис. Политические исследования. 2010. № 4. С. 22–47 [Электронный ресурс]. URL: https://www.politstudies.ru/article/4299 (09.02.2023). (b)
- Керн Г. Лабиринты мира. СПб.: Азбука-классика, 2007. 432 с.
- Козлова С. М. Краеведческий роман: к проблеме жанра. На материале прозы С. К. Данилова и В. Н. Токмакова // Алтайский текст в русской культуре: сб. ст. / под ред. М. П. Гребневой. Барнаул: АлтГУ, 2021. Вып. 9. С. 109–118.
- Литературная мифология Алтая / Е. А. Худенко, А. И. Куляпин, Т. А. Богумил, Н. И. Завгородняя. Барнаул: АлтГПУ, 2019. 178 с. 12. Лотман Ю. М. О русской литературе. СПб.: Искусство–СПб, 1997. 845 с.
- Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. М.: Российская энциклопедия, 1994. Т. 2: К–Я. 719 с.
- Полтавец Е. Ю. Роман А. С. Пушкина «Капитанская дочка». М.: Изд-во Московского ун-та, 2018. 168 с.
- Потапов Л. П. Культ гор на Алтае // Советская этнография. 1946. № 2. С. 145–160.
- Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. СПб.: Алетейя, 1997. 282 с.
- Рогачева Н. А., Драчева С. О., Медведев А. А. Историческая динамика поэтической образности в сибирском тексте русской лирики XVIII — начале XX вв. // Вестник Тюменского государственного университета. Филология. 2012. № 1. С. 126–134 [Электронный ресурс]. URL: https://vestnik.utmn.ru/humanitates/vypuski-arhiv/philology/2012/110333/ (09.02.2023).
- Сечина Н. Митрополит Московский и Коломенский Макарий (Невский), 1835–1926 // Макарий (Невский), митрополит Московский. Избранные слова, речи, беседы, поучения. М: Моск. подворье Свято-Троиц. Сергиевой лавры: Отчий дом, 1996. С. 3–28 [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Makarij_Nevskij/#_2 (09.02.2023). 19. Славянская мифология: энциклопедический словарь. М.: Международные отношения, 2002. 512 с.
- Топоров В. Н. Мировое древо: универсальные знаковые комплексы: в 2 т. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2010. Т. 2. 496 с.
- Фирсова А. В. Белая гора — сакральный ландшафт Пермского края // Река и Гора: локальные дискурсы: сб. мат-лов Междунар. науч. конф. «Урал и Карпаты: локальный дискурс горных местностей» / отв. ред. В. В. Абашев. Пермь: Перм. гос. нац. иссл. ун-т, 2009. С. 31–38.
- Шастина Т. П. Алтайские горы в описании путешествий Г. И. Спасского («Сибирский Вестник») // Мир науки, культуры, образования. 2011. № 6 (31). Ч. 2. С. 20–24. (a)
- Шастина Т. П. Алтайские горы: взгляд изнутри в авторских переводах Дибаша Каинчина с алтайского на русский // Казанская наука. 2011. № 11. С. 272–274. (b)
- Шастина Т. П. Горный Алтай: литературное вхождение территории в состав имперских пространств // Филология и человек. 2013. № 1. С. 41–53. (а)
- Шастина Т. П. Горный Алтай в публицистике Н. М. Ядринцева // Сибирский филологический журнал. 2013. № 4. С. 74–82. (b) 26. Шастина Т. П. Горное и горнее в «Алтайских рассказах» А. И. Макаровой–Мирской // Макарьевские чтения: мат-лы X Междунар. науч.-практ. конф. Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2015. С. 384–391.
- Шастина Т. П. Алтай протоиерея Михаила Путинцева — «…поистине горы Божии» // Макарьевские чтения: мат-лы XI Междунар. науч.-практ. конф. Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2016. С. 218–226.
- Элиаде М. Миф о вечном возвращении: архетипы и повторяемость / пер. Е. Морозовой. СПб.: Алетейя, 1998. 249 с.
- Янушкевич А. С. «Горная философия» в пространстве русского романтизма (В. А. Жуковский — М. Ю. Лермонтов — Ф. И. Тютчев) // Жуковский и время. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2007. С. 133–161.
- Янушкевич А. С. Русская романтическая монтанистика 1810–1830-х гг. как имагологический и компаративистский текст // Имагология и компаративистика. 2015. № 2 (4). С. 5–19. DOI: 10.17223/24099554/4/1