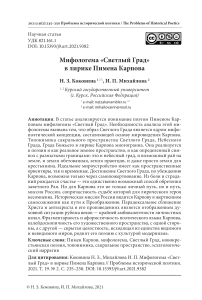Мифологема «светлый град» в лирике Пимена Карпова
Автор: Коковина Наталья Захаровна, Михайлова Ирина Петровна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.19, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется понимание поэтом Пименом Карповым мифологемы «Светлый Град». Необходимость анализа этой мифологемы вызвана тем, что образ Светлого Града является ядром мифопоэтической концепции, составляющей основу мировидения Карпова. Топонимика сакрального пространства Светлого Града, Небесного Града, Града Божьего в лирике Карпова многогранна. Она реализуется в поэзии и как реальное земное пространство, и как определенный символ с размытыми границами: это и небесный град, и возможный рай на земле, и земля обетованная, земля праотцов, и даже просто земля для крестьянина. Идеальное мироустройство имеет как пространственные ориентиры, так и временные. Достижение Светлого Града, по убеждению Карпова, возможно только через самопожертвование. Из боли и страданий рождается счастье - это единственно возможный способ обретения заветного Рая. Но для Карпова это не только личный путь, но и путь, миссия России, сопричастность судьбе которой для лирического героя несомненна. Историческая миссия России видится Карпову в жертвенном самосожжении как пути к Преображению. Парадоксальное сближение Христа и антихриста в его произведениях является отображением духовной ситуации рубежа веков - крайней амбивалентности личностных начал. Фрагментарность и афористичность поэтического языка Карпова, калейдоскопичность его художественного пространства, с одной стороны, а с другой - скрытая целостность, исходящая из единства видимого и невидимого миров, роднят его поэзию с культурой модернизма.
Пимен карпов, мифологема, светлый град, новокрестьянская поэзия, топонимика, сакральное пространство, эсхатологический нарратив
Короткий адрес: https://sciup.org/147227249
IDR: 147227249 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.15393/j9.art.2021.9382
Текст научной статьи Мифологема «светлый град» в лирике Пимена Карпова
З начимость мифологемы «Светлый Град», понимаемой как маркер прецедентности и интертекстуальности, имеющей фольклорно-мифологическую инвариантную природу, связана с вопросами смысла и ценности субъективного бытия личности, возможностью соотнесения земного и небесного миров, поисками высшего идеала. В художественном произведении она становится своего рода нравственным императивом.
На рубеже XIX и ХХ вв. острое ощущение надвигающейся катастрофы активизирует поиски русскими философами и литераторами идеальной модели мира, возможности совершенствования общества и личности. Представление о Светлом Граде, Небесном Граде, Граде Божьем, Царстве Божием, характерное в целом для русской литературы, прочно вошло в русскую художественную мысль начала ХХ в. в качестве архетипа национального сознания.
О поиске «Невидимой Церкви» говорил, например, С. Н. Ду-рылин в докладе «Церковь Невидимого Града», представленном на заседании московского Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева. Протоиерей Валентин Свен-цицкий в брошюре «Взыскующим Града» писал:
«Та же тоска по святом граде лежит в основе всех общественных и идейных брожений русской интеллигенции. Своего града нет. Он должен быть. Без него жить нельзя. И ищут его до кровавого пота, до отчаяния, до бунта, до исступленного отрицания всякого Бога, всякого града» ( Свенцицкий : 19).
Одна из центральных тем философско-богословских споров — тема возможности построения Царства Божия на земле. По словам С. Н. Булгакова, мечта о «грядущем граде» «получает трансцендентный, религиозный характер» ( Булгаков : 60). А. Г. Гачева, рассматривая русскую философию и литературу сквозь призму исканий «конечного идеала», подчеркивает, что тема Царства Божия на земле является магистральной темой русской культуры [Гачева]. Так, В. С. Соловьев писал о постепенном следовании мира и человека к Царствию Небесному, «которое хотя будет и на земле, но лишь на новой земле, любовно обрученной с новым небом», являясь «живым единством воскрешаемого былого с осуществляемым будущим в том вечном настоящем Царства Божия» ( Соловьев : 731).
Н. А. Бердяев же, напротив, был убежден, что «Царство Божье есть абсолютное духовное царство, оно не может быть явлением в материальном мире, оно предполагает победу над материальным миром и переход в мир иной», единственно определенными чертами которого являются невыразимость, неопределенность, непередаваемость: «Царство Божье не может быть в истории. Искание Царства Божьего в истории, в земной исторической действительности, есть иллюзия, обман зрения. Царство Божье за историей и над историей, но не в истории» ( Бердяев : 286).
Но писатели и поэты не оставляют попыток вписать «в историю» образ Светлого Града, Царства Божьего, Града Небесного. Так, топос утраченного рая воссоздают наименования эстетической утопии А. Белого, отмеченные С. А. Серегиной: «страна Господа», «облачный город», «Страна чистого Духа», «град солнечного освещения жизни», «световая страна», «Солнечный Град», «коммуна мечтателей», «интернационал искусств» [Серегина: 120–121]. М. М. Пришвин в 1909 г. напишет повесть «У стен града невидимого» («Светлое озеро»), в основу которой положен этнокультурный образ града Китежа, «города праведников» ( Пришвин : 427). По замечанию И. В. Васильевой, «идеи духовной революции, обращение к народному мировосприятию, крестьянской тематике, полной сказочных элементов и элементов мистицизма, были близки М. Пришвину. В образах староверов он видит подлинных сынов русского народа, “новых” преобразованных людей» [Васильева: 111]. Мифологема «Светлый Град» была сюжетообразующей в поэзии и романе П. Карпова «Пламень» ( Карпов ).
Представления о Светлом Граде формировали картину мира в творчестве большинства новокрестьянских поэтов. О. Е. Воронова, исследуя духовный генезис творчества С. А. Есенина, приходит к выводу, что в его творчестве «ключевую роль играют архетипы национального сознания, связанные с утопическими исканиями “сокровенного града”, “иного царства”, “земного рая”, ориентированные на скорейшее достижение идеала вселенской гармонии, духовного преображения мира и человека» [Воронова: 500–501]. Разносторонне исследуется эта тема в работах Н. В. Михаленко, исследователь определяет мифологему «Небесный Град» как «образ земного мира, отражающий мир небесный» [Михаленко: 105].
Закономерной представляется попытка вписать эти споры в парадигму утопического сознания. Действительно, народная социальная утопия находилась в центре философских, нравственных и художественных представлений «новокрестьян», веривших в избранность крестьянства и шире — России в духовном обновлении всего мира.
Необходимость анализа этой мифологемы в творчестве Пимена Карпова обусловлена тем, что образ Светлого Града является ядром мифопоэтической концепции, составляющей основу мировидения поэта. Результаты исследования позволят более глубоко проникать в сферу мотивов и образов, мировоззренческих и творческих установок П. Карпова, поэзия которого только в последнее время начинает привлекать внимание литературоведов [Солнцева], [Пономарева], [Коко-вина, Михайлова], [Михайлова].
В поэзии Карпова мифологема «Светлый Град» приобретает статус онтологической идеи, объединяющей эстетические и этические ценности. Она типологически близка описаниям райского пространства у других поэтов и писателей этого времени, в частности, у Н. Клюева встречаем «отчие обители», «небесный град», у Петра Орешина это Красный Храм, Есенин в маленьких поэмах о России говорит о новом Назарете.
Особое место представления о горнем граде занимают в старообрядчестве, которое, так или иначе, повлияло на творчество многих крестьянских поэтов. В старообрядчестве отразилась мечта о «создании силою церковного благочестия, вместо этого грешного, нечистого мира, другого, сплошь святого, ритуально-святого, т. е. материально-святого, Иеру-салима-Китежа, где вся жизнь была бы по благочинию, благообразию, благолепию, благосветлости, благоуханию, как бы сплошным богослужением в обширном граде-храме» [Карташев: 19]. В русском национальном сознании Светлый Град опосредован пространственной утопией — Китеж-градом, Беловодьем, Опоньским царством. В то же время неизбежной составляющей духовного мира старообрядцев являлось эсхатологическое видение происходящего, краха идеальной Руси.
Будущее идеальное мироустройство — «новый Назарет» — в поэтическом мышлении новокрестьянских поэтов окрашен в светлые тона. Бесчисленные мифологические, фольклорные, религиозные и художественные ассоциации аккумулируются в образе Солнца — начала начал. Его семантические доминанты — экспансивность, тяга к предельности, абсолютизация концепта горения. Слово свет служит номинацией горнего мира, красно-золотая, солнечная цветопись определяет движение авторской мысли. Так, в стихотворениях Клюева, поэта, наиболее близкого в социально-психологическом и творческом плане Карпову, «Богоотеческое жилище» изображается как «незакатный Свет, только Свет один», «светлая отчизна», куда ведут «предвечные светлые врата» ( Клюев : 34, 38). Лексема солнечный , золотой входит и в состав символических обозначений у Карпова: Россия — «золотой ковчег» ( Карпов Пимен : 69).
Смысловая структура Светлого Града , таким образом, организована двумя семантическими полями. Святость и свет внутренне связаны в стихотворениях и Клюева, и Карпова не только на уровне вербальном, но и на уровне сущностном, религиозном и символическом, в том числе соотносимым с исихастским значением Света Фаворского и Преображения.
Все топонимы, служащие обозначением высшего инобытия, выстраивают у Карпова в единый мифопоэтический ряд концепты Град солнца , Солнце Града , Пламенный Град , золотой ковчег , Светлый Град , Светлоград , « чертог замирного огня », « тайник золотого оаза » (сокращенное от оазиса), « алтари обители Господней », « Эайя любви и огня », Эммаýс (селение в Иудее, где встретились апостолы с воскресшим Христом), Золотой Салим (у Карпова сокращенное от Иерусалим), представляя собой некий сквозной образ идеального пространства, определяющий жизненную цель лирического героя.
В стихотворении «Путь мой во мгле многотруден…» настойчиво и последовательно создается царство любви и вечной жизни:
«Шума весеннего крылья
Взмыли меня, —
Царство за мглою открыл я, Эайю любви и огня» ( Карпов Пимен : 41).
Путь в Эайю — божественное творение мира высшего инобытия — доступен, по мысли поэта, лишь избранным, хотя заветная Эайя продолжает оставаться для него завораживающей вечной загадкой:
«Царства любви голубого
Вам не отведать со мной: Эайя — вымысел Бога, Бред моей мысли больной» ( Карпов Пимен : 41).
Сакрализация поэта как посредника между Богом и людьми формирует в поэзии Пимена Карпова особый тип лирического героя — он своего рода теург, «солнцебог и пророк» («Предутрие»), жаждущий Светлого Града. Он называет себя то «опальным ангелом» ( Карпов : 230), то «святым и палачом» ( Карпов Пимен : 98). Поэт готов восстать против Бога:
«За солнце я всю жизнь боролся с Богом
А дьявола — о пахаре молил» ( Карпов Пимен : 65).
Но он же пишет:
«Я в смертной битве с духом темноты
Несу за свет и солнце жизнь мою» ( Карпов Пимен : 26).
Наличие идеального мира, хотя бы на подсознательном уровне, облегчает житейские страдания лирического героя, вселяет в его душу надежду и веру в светлое будущее, и не только его лично, но и крестьянства в целом, от которого он себя не отделяет:
«И только светит в мир из копоти,
Как свет надомутных лампад, В неукротимом буйном ропоте Неугасимый Светлый Град» ( Карпов Пимен : 60).
Топонимика этого сакрализованного пространства многогранна. Она реализуется в поэзии и как реальное земное пространство, и как определенный символ с размытыми границами: это и «небесный град», и возможный рай на земле, и земля обетованная, земля праотцов, и даже просто земля для крестьянина, как пишет в рассказе «Подспудные ключи» Карпов:
«Земля — это магический круг для мужицкой души, песня его затаенная, светлый град, царствие Божие» ( Карпов Пимен : 103).
Трансцендентный Светлый Град сливается с картинами сельской Руси, соединяя два предельных полюса бытия.
Особое место как средоточию мирового духовного начала, универсальной культурной парадигме в сакральной географии принадлежит образу Святой земли и граду Иерусалиму. М. В. Рождественская, рассуждая о значении Иерусалима для русской духовности, подчеркивает, что для русского человека вся Святая земля «не просто отдаленная страна библейской истории, достижение которой является подвигом в буквальном смысле слова. Палестина наших паломников — это доказательство существования земного рая “на востоць”» [Рождественская: 12]. «Индийская земля, Египет, Палестина — / Как олово в сосуд, отлились в наши сны», — скажет Клюев ( Клюев : 66). Можно вспомнить и свет вечности в стихотворении «Mi fur le serpi amiche» Вяч. Иванова: «…солнцем Эммауса / Озолотились дни мои…» ( Иванов : 291).
Таким образом, мечта об идеальном мироустройстве в русском национальном сознании имеет как пространственные ориентиры, так и временные; существование Светлого Града может быть отнесено либо к мифологическому прошлому, либо к грядущему будущему, построенному преображенным человеком. Оба варианта «райской» утопии представлены в произведениях Карпова, они эволюционируют в сторону земного варианта будущего рая.
Т. А. Пономарева называет «еще один важный мотив новокрестьянской поэзии — единство мировой жизни и культуры» [Пономарева: 11], характерный, например, для поэзии Н. Клюева первых лет революции:
«Шар земной — голова, тучи — кудри мои, Мох — коралловый остров, и слезку певца Омывают живых океанов струи» ( Клюев : 440).
Лирический герой А. Ганина мечтает об обновлении во вселенском масштабе, он, по словам Н. М. Солнцевой, «вместил в свой мир бури и кометы, богов и гармонию космоса» [Солнцева: 228].
Несомненно, поэтов привлекает прежде всего Восток, вобравший в себя множество рецепций самого разнообразного свойства. Так, Е. В. Шахматова глубоко и всесторонне рассматривает философско-религиозные, антропологические, эзотерические, художественно-эстетические, культурологические составляющие этой мифологемы [Шахматова].
Присутствуют восточные топонимы и у Карпова. В стихотворении «Полуденный путь» П. Карпов рисует прародину славянства:
«К солнцу тропиков! К звездному зною!
К Светлограду! К лазурным ветрам!..» ( Карпов Пимен : 79).
Появляются и другие образы в стихотворениях «Полуденный путь» и «Светлоград»:
«Мы сошлись на распутьях кровавых
У порога полуденных стран» ( Карпов Пимен : 79).
Революция, по мнению Карпова, должна вызвать планетарные потрясения:
«Опрокинулись горы Кавказа,
Гималаи, как карточный дом» ( Карпов Пимен : 79).
И в то же время в эту картину поэтом вписывается Россия («Заклинание России»):
«…О золотой ковчег, о Светлый Град —
Россия от востока до заката!..» ( Карпов Пимен : 69).
Планетарный масштаб совершающихся событий, соразмерность лирического героя масштабам вселенной и богоборческие мотивы сближают мировоззрение Карпова с философией русского космизма.
Достижение Светлого Града, по убеждению Карпова, возможно только через самопожертвование. Из боли и страданий рождается счастье — это единственно возможный способ обретения заветного Рая. Необходимо принести себя в жертву ради обретения Светлого Града, пройти через физические и духовные мучения и испытания, тяготы: «Дорога в рай чрез ад и тьму» (Карпов: 230). Лирический герой не боится смерти («О, не страшна мне смерть» (Карпов: 75)) и физических испытаний. Он готов к этому и сам призывает их: «Издыби нас, измучай, кровавый спас!» (Карпов: 58).
Но для Карпова это не только личный путь, но и путь, миссия России, сопричастность судьбе которой для лирического героя несомненна:
«За незакатным солнцем, за свободой
Стремиться и не знать о смертной боли С Россией обречен самой природой
Я, демон и поэт, на бранном поле…» ( Карпов Пимен : 75).
Карпов создает своеобразный мифологический образ России, выделяя страстность и стихийность в качестве определяющих национальных черт характера. Светлый Град у Карпова представляет собой образ желаемой в грядущем России, преображенной духовно воскресшим народом. Образ наполнен эсхатологическим символизмом и связан с практикой богослужения и учения о таинственной смерти и таинственного воскресения у хлыстов:
«Умыкнули мы Русь
В хлыстовский круг» ( Карпов Пимен : 58).
В революции поэт видел акт самопожертвования России во имя блага всего человечества: она принесет миру свободу, а сама сгорит, как свеча, не случайно она маркирована огнем. Можно указать на эсхатологическую основу очищающего огня, ориентирующего этот образ на Апокалипсис, но можно увидеть и отсылки к крайним течениям в старообрядчестве, верившим, что путь к Светлому Граду лежит через самосожжение и экстатический взлет (см. стихотворение «Само-сожженцы»):
«А когда мы, корчась,
Сгорим
На кострах багровых —
Обретем мы
На горелых корчагах
Золотой
Салим…
И ковш звезд! И зноя ковчег» ( Карпов Пимен : 59).
Темная материя перерождается в светлую, как, например, в поэме «Светлоград»:
«Тогда взойдут в России, полной яда, Нетленной красотою первозданной — И свет незаходимый Светлограда, И цветосны Земли Обетованной…» ( Карпов Пимен : 75).
В «Светлограде» в революционном порыве сошлись архангелы, серафимы и дьявол. Дьявол созвал толпу «на шабаш ведьм и колдунов», архангел вострубил, серафимы повергли троны в «Отеческом раю», и все ангелы сошли с икон:
«За ними ринулась Россия
Круша, безумствуя, разя» ( Карпов Пимен : 75).
В «Пламени» весть об особом Свете (солнце Града) несет «злыдоте» отвергнутый ангел — Люцифер. Таким образом, поэт подменяет Свет тьмой, приписывая последней функции Света.
Парадоксальное сближение Христа и антихриста в произведениях Карпова является отображением духовной ситуации рубежа веков — крайней амбивалентности личностных начал.
Неизбежным оказалось и разочарование в возможности построения земного рая в постреволюционном обществе. Впрочем, еще 1911 г. в реферате «Владимир Соловьев и его дело» Е. Н. Трубецкой указывал на подобный исход:
«Русское общество мечтало о скором, близком осуществлении царства правды на земле, в котором наступит полное общественное обновление. Все мы так или иначе участвовали в созидании нашего земного рая, той преображенной земли, где должно царствовать преображенное человечество. Но Россия еще не выстрадала своего просветления, не приняла еще своей последней крестной муки; а потому рухнула наша хижина, построенная из негодного, наполовину сгнившего материала» ( Трубецкой : 660).
Через подобное разочарование позднее пришлось пройти и Карпову.
Характеризуя истоки мятежного пафоса стихотворений Клюева, В. К. Завалишин по существу определяет внутренние причины и увлечения революцией, и скорого разочарования в ней большинства новокрестьянских поэтов:
«Раскольничья стихия, как это ни парадоксально, сожгла революционные мотивы поэзии Клюева. Путь к воскрешению проходит через смерть. В сердце поэта кипит кровь старообрядцев, которые сжигали себя в срубах. Не революционные чувства, а мистический восторг самосожжения — вот чем сильны стихи Клюева о революции» ( Завалишин : 150).
Анализ мифологемы «Светлого Града» позволяет утверждать, что архетипические концептуальные построения, связанные с образом Святой Руси, ковчега Спасения, Светлого Града, органично входят в контекст мифопоэтической картины мира П. Карпова, вписываясь в парадигму русской мессианской идеи, поиска нравственного Абсолюта. Образ Светлого Града включен в особый тип эсхатологического нарратива, характерного как для Карпова, так и для других «новокрестьянских» поэтов.
В поэзии и прозе Карпова есть и мифологизация действительности, и влияние древнерусских апокрифов, и устойчивые фольклорные образы. Но существовало и не менее значительное воздействие современной писателю модернистской литературы, прежде всего символизма. Фрагментарность и афористичность поэтического языка Карпова, калейдоскопичность создаваемого художественного пространства, с одной стороны, а с другой — его скрытая целостность, исходящая из единства видимого и невидимого миров, роднят его с культурой модернизма.
Список литературы Мифологема «светлый град» в лирике Пимена Карпова
- Васильева И. В. Русская литература начала XX века в контексте христианской культуры // Русский язык и литература в пространстве мировой культуры: материалы XIII Конгресса МАПРЯЛ (Гранада, Испания, 13–20 сентября 2015 года): в 15 т. / ред. кол.: Л. А. Вербицкая, К. А. Рогова, Т. И. Попова и др. СПб.: МАПРЯЛ, 2015. Т. 14. С. 110–114.
- Воронова О. Е. Сергей Есенин и русская духовная культура. Рязань: Узорочье, 2002. 498 с.
- Гачева А. Г. «Идеал ведь тоже действительность…». Русская философия и литература. М.: Академический проект, 2019. 734 с.
- Карташев А. В. Смысл старообрядчества // Церковь. 1992. № 2. С. 19–24.
- Коковина Н. З., Михайлова И. П. Антропологическая парадигма провинциального текста начала ХХ века (на материале произведений курских авторов) // II Всемирный конгресс в реальном и виртуальном режиме «Восток-Запад: пересечения культур». Япония, Киото, Университет Киото Сангё. Киото: Tanaka Print, 2019. Т. 2. С. 109–114.
- Михайлова И. П. К вопросу о региональной идентичности как способе выражения авторской позиции в творчестве писателя Пимена Карпова // Самосознание и идентичность. Русская литература XVIII–XXI вв. München: Herbert Utz Verlag, 2018. С. 112–119.
- Михаленко Н. В. Пространственная организация образа Небесного Града в ранней лирике С. А. Есенина // Сергей Есенин и литературный процесс: традиции, творческие связи: сб. науч. тр. / отв. ред. О. Е. Воронова, Н. И. Шубникова-Гусева. Рязань: Рязанский изд. дом, 2006. С. 105–116.
- Пономарева Т. А. Художественный мир новокрестьянской литературы. М.: МПГУ, 2017. 182 с.
- Рождественская М. В. Образ святой земли в древнерусской литературе // Иерусалим в русской культуре: сб. ст. / Центр восточнохристиан. культуры; [отв. ред. А. Л. Баталов, А. М. Лидов]. М.: Наука, 1994. С. 8–14.
- Серегина С. А. Образы поэтической утопии в творчестве Андрея Белого и Сергея Есенина // Соловьевские исследования. 2015. № 3 (47).С. 115–129.
- Солнцева Н. М. Китежский павлин: филологическая проза. Документы. Факты. Версии. М.: Скифы, 1992. 423 с.
- Шахматова Е. В. Мифологема «Восток» в философско-эзотерическом контексте культуры Серебряного века. М.: Академический проект, 2020. 413 с.