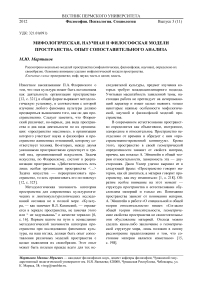Мифологическая, научная и философская модели пространства. Опыт сопоставительного анализа
Автор: Мартынов Михаил Юрьевич
Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (11), 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрено несколько моделей пространства (мифологическая, философская, научная), определено их своеобразие. Основное внимание уделено мифологической модели пространства.
Пространство, миф, наука, часть и целое, власть
Короткий адрес: https://sciup.org/147202855
IDR: 147202855 | УДК: 321.01(091)
Текст научной статьи Мифологическая, научная и философская модели пространства. Опыт сопоставительного анализа
Известное высказывание П.А. Флоренского о том, что «вся культура может быть истолкована как деятельность организации пространства» [12, с. 321], в общей форме выражает методологическую установку, в соответствии с которой изучение любого феномена культуры должно предваряться выяснением того, как он дан пространственно. Следует заметить, что Флоренский различает, во-первых, два вида пространства и два вида деятельности по их организации: «пространство мыслимое», в организации которого участвует наука и философия и пространство жизненных отношений, которому соответствует техника. Во-вторых, между двумя указанными пространствами существует и третий вид, организованный искусством. Задача искусства, по Флоренскому, состоит в реорганизации пространства. «Действительность есть лишь особая организация пространства <…> Задача искусства — переорганизовать пространство, то есть организовать его по-новому» [12, с. 325].
Методологическая значимость категории пространства для современных культурологических и лингвокультурологических исследований осознана не в полной мере. «Культура, — как замечает В.Л. Каганский, — отражается в зеркале пространства, не замечая этого или “ не задумываясь” о качестве зеркала» [6, с. 16]. Первым шагом на пути к осмыслению методологической значимости категории пространства при исследовании феноменов культуры, на наш взгляд, должен быть опыт сопоставления различных моделей пространства с целью выявления их своеобразия. Этот опыт может быть полезен прежде всего для тех ис- следователей культуры, предмет изучения которых требует междисциплинарного подхода. Учитывая масштабность заявленной темы, настоящая работа не претендует на исчерпывающий характер и имеет целью выявить только некоторые важные особенности мифологической, научной и философской моделей пространства.
В современном естествознании пространство определяется как объективное, изотропное, однородное и относительное. Пространство неотделимо от времени и образует с ним «пространственно-временной континуум». Кроме этого, пространство в своей геометрической определенности зависит от свойств материи, причем, как показал А. Эйнштейн в общей теории относительности, зависимость эта — двусторонняя. Джон Уилер удачно выразил ее в следующей фразе: «Пространство говорит материи, как ей двигаться, а материя говорит пространству, как ему изменяться» [1, с. 218]. Обратим особое внимание на этот момент — структура пространства в естествознании обусловлена материей и только ею. Понимание пространства зависит от понимания материи. А. Эйнштейн в работе «О специальной и общей теории относительности» пишет: «Согласно общей теории относительности, геометрические свойства пространства не самостоятельны: они обусловлены материей. Отсюда можно сделать какое-либо заключение о геометрической структуре мира, лишь положив в основу рассмотрение предположения о том, что состояние материи является известным» [15, с. 198].
Пространство, являясь категорией, отражающей объективные характеристики материального мира, не может точно совпадать с миром человеческих ценностей. Понятно, что отношения между людьми в обществе так или иначе пространственно определены, но эта определенность не тождественна пространству объективно существующих вещей. Социальное пространство не является нейтральным и гомогенным в отличие от пространства, выражающего что-то внешнее и природное. Иерархический порядок социальных отношений, в отличие от возможной иерархии в природе, имеет надприродные условия существования. Социальный порядок устанавливается не в естественном природном пространстве, но требует еще какое-то другое, в котором одни и те же географические объекты могут иметь или не иметь социально-политический смысл. Например, в работах, посвященных такому культурному феномену, как Запад , отмечается, что понятие «Восточная Европа» и соответствующее снисходительное отношение к ней появилось только в XVIII столетии благодаря интеллектуальным усилиям философов и не является естественным понятием, т.е. вневременным и эс-сенциональным [4]. Восточная Европа скорее является объектом так называемых ментальных карт [13], а не географических. Принимая во внимание особое место научной рациональности в западной культуре, а также недостаточность тех методологических перспектив при исследовании культурных феноменов, которые предоставляет научное понимание пространства, важно подробнее остановиться на характеристике тех моделей пространства, которые по отношению к научной модели можно считать альтернативными.
Одну из таких моделей создает, как известно, И. Кант. Пространство, как и время, согласно Канту, есть априорные формы чувственности, организующие внешний и внутренний опыт соответственно. Пространственная определенность внешнего мира, постоянство свойств его объектов обязаны структурирующей активности сознания. Граница, пролегающая между субъективным и объективным мирами, конституируется не вещами, а сознанием. А.Ф. Лосев в комментариях к платоновскому диалогу «Пир» отмечал, что кантовский трансцендентализм повторяет платоновское учение об идее как порождающей модели. «У Кан- та, — пишет Лосев, — субъективный априоризм идей разума, а у Платона же — объективный априоризм идей разума в самом бытии, в природе» [9, с. 440]. Как для Канта, так и для Платона возможность существования внешнего мира, пространственной определенности его объектов ставится в зависимость от идеальных сущностей. Пространство, вещи, материя несамодостаточны, они нуждаются в структурах, организующих их бытие. Необходимо помнить, что философы работали в различных интеллектуальных традициях и, несмотря на определенную близость их концепций, имеются также и существенные отличия. Кант в своем понимании пространства прежде всего исходил из критики моделей И. Ньютона и Г. Лейбница, т.е. моделей, возникших, по сути, в связи с концепцией западной науки как экспериментальноматематического естествознания. Платоновская же мысль, находясь в отдалении от новоевропейского дискурса, обнаруживает чувствительность к мифопоэтической традиции. Например, В.Н. Топоров в работе «Пространство и текст» отмечает, что «Кант работает как бы с наиболее нейтральной и семантически бедной частью того пространства, которое знала мифопоэтическая традиция» [11, с. 231]. В другом месте, раскрывая понимание Платоном пространства в диалоге «Тимей», в котором имеются любопытные сравнения материи с матерью, идеи с отцом и вещи с ребенком, исследователь говорит о близости платоновской мысли мифопоэтической традиции. «Связь материи и матери, намечаемая Платоном, отвечает глубинной реальности мифопоэтического сознания, неоднократно отраженной в языке, и в собственно мифологических образах. Достаточно напомнить классический пример: лат. materia (materies) “материя” и т.п. — “мать” (ср. также matrix)». И далее: «…в известной степени и соотношение Матери — Сырой земли и Отца-неба (как у славян, так и во многих других традициях) может рассматриваться как отдаленный источник платоновского соотношения материи (“матери”) и идеи-образца (“отца”)» [11, с. 236, 237].
Философия, возникающая в Античности, самоопределяется в процессе дистанцирования от мифа. Философия производит новую познавательную установку, изменяющую видение реальности и трансформирующую в конечном счете самого человека. Эту установку
Э. Гуссерль называет теоретической, а то, что ей предшествует, — мифо-практической и мифо-религиозной установками [5]. Иными словами, философия в точке своего теоретического мировоззрения наметила такую перспективу мышления, в которой мифологическое, хотя и присутствует, но уже не принадлежит себе. Поэтому, чтобы получить представление о мифологическом понимании пространства, необходимо дать характеристику его форм, создающих специфическую реальность для мышления, которому эти формы представляются необходимыми.
Во-первых, отметим, что пространство и время в мифе неразделимы и образуют единое пространство-время. В работе В.Н. Топорова находим следующие пояснения: «В архаичной модели мира пространство не противопоставлено времени как внешняя форма созерцания внутренней. Вообще применительно к наиболее сакральным ситуациям (а только они и образуют уровень высшей реальности) пространство и время, строго говоря, не отделимы друг от друга, они образуют единый пространственновременной континуум с неразрывной связью составляющих его элементов» [11, с. 231]. Время в мифе приобретает пространственные характеристики, а пространство обнаруживает свойства времени. Время «спациализуется», а пространство «темпорализуется».
Другой важной особенностью мифологического пространства является особое соотношение части и целого. Мифологическое мышление — целостно. Об этом говорил еще Ф.В.Й. Шеллинг в «Философии мифологии», объясняя первичный «прамонотеизм». Для немецкого философа даже самые, казалось бы, неприметные мифологические явления имеют идеальную значимость, которую они обретают через свое отношение к целому.
Такое особое соотношение части и целого, которое сегодня отражается при помощи понятия «партиципации» (Л. Леви-Брюль), очень точно описывает Э. Кассирер, сопоставляя это мифологическое понимание части и целого с особенностями современного научного мышления: «Для нашего эмпирического взгляда целое “состоит” из его частей; по логике познания природы, по логике научно-аналитического понятия каузальности целое “следует” из них; но для мифологического взгляда в сущности не приемлемо ни то, ни другое, здесь еще господ-90
ствует подлинная нерасчлененность, мысленная и реальная “индифферентность” целого и частей. Целое “не обладает” частями и не распадается на них — часть в данном случае есть непосредственно целое и действует как таковое. <…> Часть представляет собой, с точки зрения мифа, все ту же вещь, что и целое, поскольку является реальным носителем действия — поскольку все, что она испытывает или совершает, что происходит с ней активно или пассивно, является одновременно активными или пассивными событиями целого» [8, с. 43].
Мифологическое мышление о части и целом еще не имеет перед собой тех трудностей, с которыми позднее столкнется западноевропейская мысль. Уже в Древней Греции, например в диалектике Платона о едином и ином или в рассуждениях Аристотеля о непрерывности и множественности единого, можно встретить сложные конструкции. Секст Эмпирик в «Трех книгах Пирроновых положений» на основании невозможности мыслить часть и целое непротиворечивым образом пришел к заключению, что частей и целого вообще не существует. Целое или превосходит части, является больше частей, или составлено из них. В первом случае целое равно ничто, так как при исчезновении частей исчезает и целое. Во втором случае целое также бессмысленно, потому что без частей не существует. В XVII в. механистическое естествознание заняло определенную позицию по этому вопросу, утверждая равенство целого и суммы частей, из которых оно состоит. В XX в. благодаря системному подходу, а также гештальт-психологии, произошел переход «от частей к целому» (Ф. Капра) [7]. И сегодня в науке все прочнее утверждается мысль, что свойства системы (целого) не познаются аналитически, т.к. их невозможно вывести из свойств частей этого целого. Такое целое, имеющее эмерд-жентные (внезапно возникающие) свойства, оказывается больше суммы составляющих его частей. В XX в. можно отметить и другой поворот — от целого к частям, но совершающийся не в научном дискурсе, а, скорее, в связи с критикой последнего. Такие понятия, как «фрагмент» Ж. Бодрийяра или «punctum» Р. Барта, отражают опыт нахождения пространства, свободного от идеологических посредников. Например, «фрагмент» Ж. Бодрийяра — это не фрактал («целое, воспроизведенное в части») и не фрагмент, понятый как часть утра- ченного целого (фрагмент не детерминируется целым). «Фрагмент» для Бодрийяра — это ан-тиидеологическая стратегия, нацеленная на «преодоление системного», это событие, лишенное оценок, «событие в его буквальности». «Фрагмент» не подчиняется репрезентативным стремлениям субъекта, его желанию упаковать фрагмент в систему ценностно-смысловых означающих и т.п. [3].
В-третьих, мифологическое пространство тесно связано с вещами, его наполняющими, а последние даже обладают некоторым преимуществом перед пространством. Пространство в мифе «не предшествует вещам, его заполняющим, а наоборот, конституируется ими. <…> В мифопоэтической модели мира пространство находит себя в вещи и тем явственнее, чем сакральнее вещь [а любая вещь сакральна, если она не потеряла связь с целым Космоса, причастна ему…]» [11, с. 234, 238].
Отсюда следует четвертая особенность: для пространства, как его понимает миф, не работает научный принцип гомогенности. Пространство в мифе может существовать только при условии, что оно состоит из разнокачественных частей, что в нем есть привилегированные точки как места иерофаний, т.е. места предельной концентрации и проявленности священного в мире. Эти абсолютные точки отсчета имеют не просто геометрическое, но онтологическое значение. Процессы сотворения мира и обнаружения его абсолютного центра — совпадают. Там, где центр никак не проявляет себя, реальное пространство недоступно. Только в центре мира Хаос может стать Космосом. Множество различных мифов повторяют эту основную космогоническую идею, связывая реальность Космоса с неким священным местом, центрирующая функция которого может передаваться образами столба, лестницы, горы, дерева, лианы и т.п. [17, с. 31]. «Восприятие священного пространства делает возможным “сотворение Мира”: где в пространстве проявляется священное, там раскрывается реальное , и Мир начинает существовать» [17, с. 46].
Ориентироваться в таком пространстве можно только относительно мест иерофаний, т.е. мифологическое пространство никак не может быть изотропным (как в науке). «Вавилонская география, — замечает М. Элиаде, — вначале была “мистической географией”, а карта мира в представлении вавилонян была лишь подобием карты небесных миров» [16, с. 85]. Это объясняет, например, почему картографические обозначения верха и низа могли в некоторых архаических культурах не совпадать с действительным природно-географическим севером и югом [См.: 10].
Отношения между организующим абсолютным центром, мировой осью и всем остальным организуемым пространством предполагают иерархию. Слово иерархия происходит от двух греческих слов: hieros — священный и arche — первоначало, первопричина, но также и власть. В этом смысле царская или жреческая власть есть место проявления священного — абсолютной божественной власти или власти как arche, имеющей прежде всего космогоническое значение. Царь мыслится как то начало, в котором максимально проявляет себя божественное, и расположение земного царя полностью соответствует центральному положению небесного царя. Центром мироздания (местом расположения царя) может быть, например, святой город (столица), в свою очередь также имеющий центр, отмеченный храмом или дворцом. Центральное положение царя могут обозначать и такие важные символы, как трон, держава и др. Кроме этого, само тело самодержца может быть мощным символом axis mundi, мировой оси, соединяющей небо и землю.
От такой власти нельзя отказаться, т.к. с ней связано рождение и существование Космоса. Поэтому власть земного царя, в своей основе соответствующая arche, призвана поддерживать космический порядок. По этой причине, например, «японский император-микадо должен был определенное время сидеть на троне абсолютно неподвижно в утомительной позе, т.к. считалось, что от этого зависит спокойствие всей Вселенной» [14, с. 122]. Император-микадо — это не политическая фигура, а, скорее, сакральная. Его власть значительнее и масштабнее любой политической власти. Он живой Бог, потомок солнечной богини Аматэ-расу, и в этом качестве постоянство его положения обеспечивает устойчивость и порядок в мире. И сегодня в рамках конституционной монархии политические функции японского императора сведены к минимуму. В государственном правлении он выполняет преимущественно символическую и ритуальную функции, что в кинофильме Александра Сокурова
«Солнце» было показано с блистательной точностью. Понятно, что узнавание в конкретном человеке Бога может быть всего лишь распознаванием, что характерно для западных монархов, у которых кроме смертного физического тела, мало чем отличающегося от тел других смертных, есть еще и второе, находящееся в максимальной близости к священному и обеспечивающее полноту власти. Сакральный статус монарх обретает только благодаря этому «второму», невидимому телу. Оно бессмертно и блистательно, над ним не властны никакие объективные силы посюстороннего мира (Э.Х. Канторович). Находясь в непосредственной близи к центру мира, являясь посредником между небом и землей, монарх способен быть источником благодати, чем объясняется, например, его способность исцелять больных [см.: 2]. Обобщая сказанное, можно выделить еще одну черту мифологического пространства — властецентричность, неотделимость пространства от власти. В мифе пространство есть только там, где обнаруживает себя власть.
Список литературы Мифологическая, научная и философская модели пространства. Опыт сопоставительного анализа
- Барбур И. Религия и наука: история и современность/Библейско-богословский ин-т св. апостола Андрея. М, 2001.
- Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. М.: Языки русской культуры, 1998.
- Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту. Екатеринбург: У-Фактория, 2006.
- Вульф Л. Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М: Новое лит. обозрение, 2003.
- Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия//Вопр. философии. 1986. №3.С.101-116.
- Каганский В.Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство: сб. ст. М: Новое лит. обозрение, 2001.
- Капра Ф. Паутина жизни. Новое научное понимание живых систем. Киев: София; М.: Гелиос, 2002.
- Кассирер Э. Философия символических форм. Т.2. Мифологическое мышление. М.; СПб.: Университетская книга, 2001.
- Платон. Собр. соч. в 4 т. М.: Мысль, 1993. Т.2.
- Подосинов А.В. Ex oriente lux! Ориентация по странам света в архаических культурах Евразии. М.: Языки русской культуры, 1999.
- Топоров В.Н. Пространство и текст//Текст: семантика и структура. М.: Наука, 1983. С.227-284.
- Флоренский П.А. Анализ пространственности в художественно-изобразительных произведениях//Флоренский П.А. Иконостас. Избранные труды по искусству. СПб.: Мифрил-Русская книга, 1993. С.317-350.
- Шенк Ф.Б. Ментальные карты: конструирование географического пространства в Европе от эпохи Просвещения до наших дней: обзор литературы//Новое лит. обозрение. 2001. №6(52). С.42-61.
- Чеснов Я.В. Тело в контекстах биовласти и биомифов//Ориентиры.. Вып.5/Отв. ред. Т.Б. Любимова. М.: ИФРАН, 2009. С.112-141.
- Эйнштейн А. О специальной и общей теории относительности (общедоступное изложение)//Эйнштейн А. Теория относительности. Избр. работы. Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2000. С. 136-214.
- Элиаде М. Вавилонская космология и алхимия//Элиаде М. Азиатская алхимия: сб. эссе. М.: Янус-К, 1998. С.77-139.
- Элиаде М. Священное и мирское. М.: Изд-во МГУ, 1994.