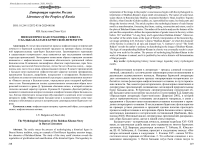Мифологическая семантика сюжета о Бальжан-хатан в бурятской литературе
Автор: Булгутова Ирина Владимировна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Литература народов России
Статья в выпуске: 4 (55), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье прослеживается процесс мифологизации исторической личности в бурятской художественной традиции на примере образа легендарной прародительницы хори-бурят Бальжан-хатан. Закономерности героизации и сакрализации исторического лица выявляются при исследовании мотивной структуры произведений. Легендарное осмысление образа в народном сознании начинается с мифологического толкования обстоятельств трагической гибели Бальжан-хатан. В названиях ландшафтных объектов: озера Бальзино, горы Голова Бальжан, местностей Тогоото (Котел), Алтан Эмээлтэ (Золотое седло), - закрепились имя, части тела и вещи, принадлежащие героине. В сюжете произведений о Бальжан-хатан выявляется мифологический характер мотивов превращения, предвидения будущего, разрубания, воскресения и возвращения. Выявляются особенности сюжетно-композиционной структуры в дореволюционном памятнике «Повесть-легенда о Бальжан-хатан», определяется роль гендерной проблематики в нем. Рассматривается логика художественного осмысления образа исторической личности в драме Д. Эрдынеева «Бальжан-хатан», в которой создается эпически цельный характер героини. В романе В. Гармаева «Десятый рабджун» выявляется намеченная автором тенденция демифологизации образа Бальжан-хатан. Логика героического осмысления обуславливает в конечном итоге создание авторского мифа. Мифологизация Бальжан-хатан в художественном слове закономерна и обоснована ее ролью в историческом самоопределении бурятского народа.
Мифологизация истории, героический образ, легендарный сюжет, мифологические мотивы
Короткий адрес: https://sciup.org/149127274
IDR: 149127274 | DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00106
Текст научной статьи Мифологическая семантика сюжета о Бальжан-хатан в бурятской литературе
Мифологизация истории в литературе - процесс сложный и неоднозначный, связанный с эстетическими закономерностями возникновения и реализации художественного вымысла. Материал бурятской литературы дает возможность проследить процесс интерпретации исторических событий по логике фольклорно-мифологического сознания, по пути героизации личности. Так, имеется ряд исторических, фольклорных памятников и литературных произведений, посвященных легендарной прародительнице бурят Бальжан-хатан. В бурятском литературоведении героический образ Бальжан-хатан всесторонне исследуется в монографии Б.Д. Баяртуева «Предыстория литературы бурят-монголов» [Баяртуев 2001], в которой дается герменевтическое толкование легендарного материала, в связи с преданиями о Бальжан-хатан высказываются важные положения о зарождении литературного сознания. В исследовании бурятских фольклористов на примере устных рассказов и преданий сделана попытка проследить процессы мифологизации и историзации образа Бальжан-хатан с преимущественным вниманием к исторической составляющей [Цыбикова, Дампилова 2020]. Мотивный анализ литературных произведений, раскрывающих образ Бальжан-хатан, дается в нашей статье впервые.
Бальжан-хатан - историческая личность, жившая на рубеже XVI XVII веков, ее трагическая судьба нашла свое отражение во многих бурятских летописях. Б.Д. Баяртуев, рассмотрев летописи Т. Тобоева, В. Юмсуно-ва, Ш.-Н. Хобитуева, А. Саагиева, приходит к следующему выводу: «Все авторы летописей едины в следующем: 1. В конце XVI - начале XVII в. состоялся исход хоринцев из Монголии. 2. Это событие совпадало с возвышением маньчжуров. 3. Некто Бальжан хатун была отдана замуж за

сына солонгутского (маньчжуро-корейского) сановника, батора хана Бу-бэй-Бэйлэ Дай-Хун тайжи. 4. Бубэй-бэйлэ батор хан, Дай-Хун тайжа, Баль-жан хатун - исторические личности. 5. Бальжан хатун была убита по приказу Бубэй-Бэйлэ хана. 6. После смерти Бальжан хатун хоринцы бежали к Хухульбийским горам, а далее - к Онону и на северо-запад к Байкалу. 7. Бубэй-Бэйлэ хан после смерти своей первой жены женился на молодой женщине, которая стала причиной раздора между отцом, сыном и невесткой. 8. Исход хоринцев и смерть Бальжун хатан нашли отражение во всех летописях хори-бурят как основное событие конца XVI - начала XVII в., ставшее причиной поддержки политики пришлых русских» [Баяртуев 2001, 158].
Образ Бальжан-хатан остался в памяти бурятского народа как образ героической женщины - предводительницы племени. Как известно, «основной закон мифологического, а затем и фольклорного сюжето сложения заключается в том, что значимость, выраженная в имени персонажа и, следовательно, в его метафорической сущности, развертывается в действие, составляющее мотив; герой делает только то, что семантически сам означает» [Фрейденберг 1997, 223]. Слово «хатан» в имени героини обозначает ее высокий социальный статус, это почтительное обозначение царицы, ханши, госпожи. В истории жизни Бальжан-хатан, выданной замуж на чужбину, переломный момент - ее решение об откочевке в другие от владений свекра пределы, ставшее судьбоносным для всего племени, - решение не бесправной невестки, а женщины с чувством собственного достоинства. Поводом для бегства Бальжан-хатан с мужем и со своими данниками становится внутрисемейный конфликт, отразивший сложившиеся патриархальные представления о роли женщины в обществе. Протест против установленных норм и принимаемая Бальжан-хатан ответственность за свои решения находятся у истоков героизации ее образа. В летописи под названием «Бальжан хатанай туужа» (Повесть о Бальжан-хатан) раскрываются обстоятельства гибели героини, ставшие основой для последующей мифологизации: «<.. .> преследователи убили ее, отрезав правую грудь, голову оставили в местности, похожей на голову, и руки, ноги также расчленили, и конскую упряжь разбросали по частям. На месте, где отрубили голову, до сих пор есть гора Голова Бальжан. Там, где оставили ее украшения, местность Алтан Ёдорто. Там, где оставили котел, - местность Тогоото (Котел). Там, где оставили ее седло, - местность Алтан Эмээлтэ (Золотое седло)» [Буряадай туухэ бэшэгууд 1992, 222-223] (здесь и далее перевод с бурятского наш - И.Б.\ Мифологический характер мотива превращения в сюжете о Бальжан-хатан очевиден, причем можно выделить несколько его вариаций: Бальжан-хатан сама еще при жизни обладает даром превращения. Так, прячась от погони, превращается в снег, в воду, после мученической гибели она на уровне телесном превращается в природные объекты, сливаясь с ландшафтом края, как бы воскресая в новом качестве. Обстоятельства самой гибели героини, которой отрезали грудь, лишая по приказу Бубэй-Бэйлэ хана атрибута ее женской сущности,

отразились в предании о молочно-белой воде озера Бальзино, названного по имени героини. Фиксация исторических событий происходит по ассоциативной метонимической логике мифомышления: грудь - молоко - белая вода - озеро. Как известно, «упрощающая, схематизирующая энергия мифа оборачивается своего рода редукцией предмета обозначения: миф запечатлевает существенную для него грань объекта взамен его многоплановости, объемности, целостности, т.е. прибегает к своего рода синекдохе. В составе поэтики мифа значимо соединение (синтезирование) начал гиперболы и синекдохи. Это соображение может быть подтверждено рассмотрением мифов о литературных героях» [Хализев 2002, 14-15].
Ни в одном из источников не содержится объяснения деталей казни Бальжан-хатан, хотя, возможно, именно мотив рассечения, разрубания и находится в основе мифологизации данного образа. В.Я. Пропп отмечает, что «разрубание, растерзание человеческого тела играет огромную роль в очень многих религиях и мифах <...>» [Пропп 1986, 95]. По мнению исследователя, мотив разрубания в мифологии разных народов обусловливает то, что герой в дальнейшем воскресает в новом качестве и становится предметом культа.
В истории Бальжан-хатан выражением сакрализации образа становится мотив ее превращения в элементы ландшафта, он сохраняется во всех легендах и впоследствии реализуется и в литературных произведениях. Возникновение этого фантастического по своей сущности мотива связано, на наш взгляд, с переживанием мученической гибели героини, уготованной ей роли жертвы, которая в коллективном бессознательном воспринимается как непременное условие дальнейшей сакрализации. Превращение становится своеобразным спасением-воскресением, но уже в коллективном сознании, в народной памяти. Сами обстоятельства казни трансформируются в ряд художественных деталей, связанных с образами парной воды и грудного молока.
Устойчивыми мотивами, возникающими в связи с осмыслением исторического персонажа Бальжан-хатан в народном сознании по пути сакрализации, становятся мотивы предвидения будущего, прорицания и предвосхищения событий. В сюжете дореволюционного произведения Зоригтын Жалсарая «Повесть-легенда о Бальжан хатун» делается акцент на жизни героини до замужества. По мнению Б.Д. Баяртуева, в данном случае «речь идет об одном из первых памятников собственно бурят-монгольской оригинальной литературы...» [Баяртуев 2001, 165].
С самого начала в произведении развертывается мотив предвидения будущего - с вещего крика птицы, который воспринимается героиней как плохой знак еще до того, как становится известно о предстоящем сватовстве за сына Бубэй Бэйлэ хана. Обращает на себя внимание в «Повести-легенде» своеобразная «перестановка» или же перетасовка хронологического порядка событий. Так, конфликт со свекром Бубэй Бэйлэ ханом, развертывавшийся в сложном переплетении различных политических интересов непосредственно перед гибелью героини, в финале истории ее жизни, в

произведении отнесен к периоду, когда Бубэй Бэйлз хан только приехал к родителям Бальжан, чтобы сватать ее за своего сына Дай-хун тайжи. Суть происходивших в истории реальных событий передается метафорически: у истоков конфликта своевольное требование Бубэй Бэйлэ выразить ему почтение подношением конской головы, которое было выполнено родителями Бальжан, но, как выясняется впоследствии перед отъездом гостей, в жертву был принесен собственный конь Бубэй Бэйлэ. По мнению Ю.В. Шатина, в эпическом сюжетном построении «метафора подчеркивает, что единичное событие, даваемое в фабуле, не универсально, оно -реализация некоей мыслимой множественности, одно из ее возможных проявлений» [Шатин 1991, 146]. Таков образ жертвы и жертвоприношения в этом произведении, в этом отражается закон дупликации эпического сюжета, как известно, главная жертва в этой истории сама Бальжан хатан.
Расшифровка сюжетной метафоры «неосознаваемой / осознанной жертвы», на наш взгляд, возможна в контексте проблематики произведения, а именно при обращении к проблеме взаимоотношения полов, положения женщины в обществе, которая проходит через все произведение. С самого начала, узнав о предстоящем замужестве, Бальжан говорит отцу о своей доле: «Не устраивайте из-за меня торга, вы не должны брать за меня какое-либо имущество!» [Буряадай туухэ бэшэгууд 1992, 213]. Из уст отцовского друга звучат слова об обычаях и нравах Бубэй Бэйлэ хана, о принятом у чужого племени пренебрежительном отношении к женщинам, которых даже не считали в составе подданных. Бальжан, ставшая впоследствии предводительницей рода хори-бурят, отстаивает права и важность роли женщины в мироздании в целом: «Если бы на небе не было солнца, на земле не росли бы цветы и травы. Если бы в доме не было женщины, не было бы детей, и потомства, и семьи. И прекратился бы род людской, а человек - краса вселенной» [Буряадай туухэ бэшэгууд 1992, 213]. В произведении раскрываются цельный, независимый характер героини, ее способность к самостоятельным суждениям, что, возможно, и противоречило установившимся патриархальным обычаям. Претензия Бубэй Бэйлэ хана к Бальжан в том, что на праздничном пиру сватовства к ней съели его коня, на котором он приехал - метафора, за которой завуалированы причины конфликта вообще, то есть то, что случилось позже, в дальнейшем. Очевидно, что в национальной символике конь метонимически соотносится с всадником, олицетворяя мужское начало. В логике мифологического времени существенна повторяемость каких-либо вещей и явлений, в случае же с человеческим характером этот повтор становится проявлением его сущности. В ответ на обвинение Бубэй Бэйлэ хана в преступной краже его коня, ставшего угощением для него же самого, Бальжан напоминает о его неблаговидном прошлом в связи с его предыдущей попыткой женить своего сына Дай-хун тайжи: «Не правда ли то, что вы отобрали у своего сына Дай-хун тайжи его невесту - восемнадцатилетнюю красавицу дочь Хулэр нойна, чтобы сделать своей женой? Ваш этот бесчестный поступок можно уподобить только скотскому поведению» [Буряадай туухэ бэшэгууд 1992,

215]. В этом моменте сюжета «Повести-легенды о Бальжан хатун» можно усмотреть своеобразный «ключ» и ответ на вопрос, в чем же были причины конфликта - это протест Бальжан-хатан, основанный на отстаивании значимости роли женщины, против установившихся в брачно-семейной сфере патриархальных отношений.
В «Повести-легенде» мотив знания прошлого героев соотносится с мотивом предвидения будущего. Героиня еще в девичестве «знает» и предвидит свою трагическую судьбу жертвы чужой воли и интересов. Именно в таком контексте объяснима художественная деталь - ее просьба к своим родителям не проливать крови живых существ и не готовить на предстоящем свадебном пиру угощения из мяса - это неприятие кровавой жертвы живых существ по закону зеркальной симметрии отражает будущее «разрубание» ее тела, принесение в жертву самой героини. Мотив предвосхищения будущего определяет «перенос» отдельных деталей из будущего героини к моменту рассказывания, к подобным эпизодам относится такая деталь, как грудное молоко, неразрывно связанная с образом Бальжан-хатан, по преданию, превратившейся после казни в озеро с молочно-белой водой. Этот момент также отнесен ко времени до замужества героини. Так, провожая дочь, мать Бальжан говорит: «Когда девушка выходит замуж и уходит из отцовского дома, она должна отведать материнского белого молока, лучшую часть белой пищи, поэтому ты должна попробовать его» [Буряадай туухэ бэшэгууд 1992, 218-219]. В ответной речи Бальжан также всплывает эта деталь предвестием обстоятельств будущей гибели героини: «Дорогая мама, не жалея сна своего вскормившая меня вкусным молоком своей груди, к вам ласково обращаюсь, вас жалея» [Буряадай туухэ бэшэгууд 1992, 219]. Детали и элементы предания начинают функционировать сами по себе в «свободном» времени народной памяти. «Повесть-легенда о Бальжан хатун» Зоригтын Жалсарая (Балжан хатан тухай туужа домог), таким образом, представляет собой оригинальное произведение со своим толкованием произошедших исторических событий. Зарождающийся историзм мышления, на наш взгляд, проявляется в показе изменения роли женщины в жизни традиционного общества, в изменении самой парадигмы. Несомненно, авторское сочувствие на стороне героини, которая не примиряется с установившимся бесправием женщины в семье и социуме. В произведении создан цельный женский образ в различных его ипостасях: это любимая дочь в родительском доме и невестка, просватанная на чужбину, но уже на этом этапе она имеет собственное мнение и морально-нравственные принципы. Это произведение, в котором допускается употребление имени Бальжан без обозначения ее социального статуса словом «хатан», так как изображается жизнь до замужества. В сюжете данного произведения реализован мотив предвосхищения известных, сохранившихся в легендарном сознании событий и фактов, что является отражением мифологического времени, замкнутого на определенном ряде событий. Знание всей истории позволяет не изображать трагический финал судьбы Бальжан-хатан, приводятся лишь последние слова героини, в
которых критикуются нравы патриархального общества.
В драме Д. Эрдынеева «Бальжан-хатан» рассматривается жизнь героини в период замужества, обычаи, установившиеся при дворе Буубэй Бэйлз хана. «По жанру "Бальжан-хатан" - эпическая драма. В ее центре характер эпический, как бы вырубленный из единого куска. Д. Эрдынеев не ставит своей задачей показать процесс душевного развития, созревания героини, этот процесс отсутствует и в легенде. Бальжан-хатан - характер внутренне цельный, всегда верный своей правде» [Найдаков 1987, 218].
Автора интересует борьба разных политических сил, судьба племени хори - данников Бальжан-хатан, самоопределение которого происходит перед лицом маньчжурской угрозы. Вводится фигура сказителя-певца, обладающего знанием всего хода событий. Именно здесь прослеживается трансформация эпического сюжета - в появлении повествовательного начала в драме. Образ Бальжан-хатан раскрывается по пути героизации, это величественный образ преданной жены своего мужа. В финале появляется мотив пророчества и предсказания будущего перерождения героини и встречи мужа и жены в следующей жизни: «Певец. По преданию, место, где Небесам родины, Хозяевам местности, Богам-Хранителям воздали Жертву грудным молоком, идущим от сердца, получило имя Белого Озера Бальжин... И сказала она, что в следующей жизни родится к югу от горной цепи, неподалеку от тех мест, где оставила седло, у родника Хара-Угун... Родится в семье вверенного ей соплеменника одним из пары близнецов... Обещала показаться верному супругу в один из моментов жизни, в месте, где много каменистых скал, целебных источников, в расселине высокой Пещеры. И сказала, что узнает Дай-Хун тайжа свою Бальжин хатан по косам, волочащимся по земле, впитавшим в себя все грехи людей с целью облегчить их души. И сказала она, что, постигая свет знаний, опираясь на глубокую веру, будут вечны в этой Вселенной монгольские племена и народы! Да пребудет благоденствие!» [Эрдынеев, 2006, 55].
Переплетение шаманистеких и буддийских верований прослеживается в образах шаманки Харахан, верной помощницы Бальжан, и ламы Хэухэн гэгээна. В финале драмы Д. Эрдынеева звучит мотив будущего возвращения героини, что является отражением мифологизации образа Бальжан-хатан и в сознании писателя, также находящей выражение в авторской метафоре кос героини, впитавших грехи людей.
Роман В. Гармаева «Десятый рабджун» (1991-1997), посвященный судьбе и самоопределению племени хори-бурят на рубеже XVI XVII веков, состоит из трех частей: «В улусе Алтан хана», «Бальжан хатун» и «Бабжа барас батор». Во второй части трилогии «Бальжан хатун» описывается история замужества Бальжан, кочевка одиннадцати родов хори вслед за своей предводительницей к солонгутам и решение о возвращении и выборе своего пути. Композиционным ядром романа являются сцены собрания старейшин родов, когда принимается общими усилиями решение о дальнейших действиях. Своеобразная «степная демократия» в авторской концепции истории занимает важное место. Политическая линия является
доминирующей, судьба Бальжан хатун имеет значение в сложном переплетении внутриплеменных отношений. В авторской концепции брак между Бальжан хатун и Дай-Хун тайжи заключается по политическим причинам, вводится мотив добрачной связи героини с возлюбленным Хас-Болодом, что, являясь частью авторского свободного вымысла, становится одной из граней его мифотворчества. Прослеживается история супружеских отношений, как Бальжан хатун становится мудрой и преданной помощницей своего мужа. На первый взгляд, в контексте реалистического романа мифологическая семантика сюжета о Бальжан-хатан полностью утрачивается. Картины родоплеменной жизни, быта, обычаев и обрядов, таких как облавная охота и т.д., военные походы и т.п., выстраиваются в проекции исторического времени, и главным вопросом является выживание и спасение народа одиннадцати отцов хори. Легендарная основа сюжета претерпевает трансформацию в авторской интерпретации. Так, мотив превращения в свете предпринятой попытки демифологизации и снижения высокой патетики толкуется автором как подмена героини переодетыми под нее женщинами: «Бальжин, куяк, наплечники, нагрудный круглый щит, наколенники и все вооружение которой старательно подобрал среди воинов тяжелой конницы Баясхалан, была сейчас похожа на безусого, молодого воина, чем на хатун и главу племени. А в караване ее ордо ехали три женщины, одетые в наряды хатун и почти ничем внешне от нее не отличавшиеся, даже кони их были подобраны под масть ее боевого иноходца» [Гармаев 2011, 408]. В сознании преследователей вновь и вновь «воскресающая» после гибели Бальжин воспринимается как оборотень: «Бальжин хатун не человек, а оборотень. Мы трижды убивали ее, но трижды она превращалась в другую женщину. Воинов охватил непонятный страх, мне тоже стало жутко» [Гармаев 2011, 413]. Появляется мотив неоднократной гибели героини, который в следующей части трилогии «Бабжа-батор» проясняется как мнимая гибель, подмена была осуществлена не три, а четыре раза, -так выстраивается уже авторский миф, в котором неизменным остается одно, то, что «Бальжин хатун - это знамя и оберег» народа одиннадцати отцов [Гармаев 2011, 493].
Авторский замысел раскрывается в монологе его героини, пожелавшей «остаться в памяти людей не призраком, не волшебным духом, не мифом во времени, а живым обыкновенным человеком из плоти и крови, женщиной, которая любила и страдала, которая плакала и смеялась так же, как все» [Гармаев 2011, 526]. На страницах романа, где показана жизнь героини до замужества, она называется только по имени вне ставшего традиционным сочетания со словом «хатан» (царица, княжна) что снимает легендарный ореол с образа, этому же служит придуманный автором мотив ее добрачной связи с другим. Попытка демифологизации легендарного образа в контексте исторического романа не осуществима до конца, на смену преданию в толковании сюжета появляется уже «авторский миф» -фабульные семы придуманы самим писателем, он домысливает историю героини.
Таким образом, сюжет о Бальжан-хатан в истории бурятской литературы, начиная с раннего произведения «Повесть-легенда о Бальжан хатан», получает различные авторские интерпретации вплоть до попыток демифологизации ее образа. Следует отметить, что тенденция мифологизации истории определяется самой фабулой, закрепленной в предании. Мотивы превращения, предвосхищения будущего, предсказания имеют в данном сюжете мифологический характер, также пребыванием в поле вечности объяснимы многочисленные перестановки сюжетных частей в разных произведениях. Перипетии частной, семейно-бытовой жизни Бальжан-хатан оказались в центре политического противостояния монгольских племен маньчжурскому гнету, и все обстоятельства ее жизни и гибели способствовали самоопределению племени бурят - хори. В основе мифологизации данного женского образа в бурятской литературе лежит процесс сакрализации жертвы, выразившийся в мотивах разрубания и своеобразного превращения, воскресения в новом качестве - легендарной героини, окруженной трагическим ореолом. Данный эпический сюжет отразил как закономерности коллективной памяти, так и формирование авторской концепции истории в бурятской литературе.
Список литературы Мифологическая семантика сюжета о Бальжан-хатан в бурятской литературе
- Баяртуев Б.Д. Предыстория литературы бурят-монголов. Улан-Удэ, 2001.
- Буряадай туухэ бэшэгууд. Улаан-Удэ, 1992.
- Гармаев В. Десятый рабджун. Улан-Удэ, 2011.
- Найдаков В.Ц., Имихелова С.С. Бурятская советская драматургия. Новосибирск, 1987.
- Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986.
- Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997.
- Хализев В.Е. Мифология XIX-XX веков и литература // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2002. № 3. С. 7-21.
- Цыбикова Б.Б., Дампилова Л.С. Историзация и мифологизация персонажей в бурятских преданиях (на примере образа Бальжан) // Научный диалог. 2020. № 2. С. 262-274.
- Шатин Ю.В. Художественная целостность и жанрообразовательные процессы. Новосибирск, 1991.
- Эрдынеев Д.О. Yйлын yри. Зyжэгyyд. Роман. Улаан-Удэ, 2006.