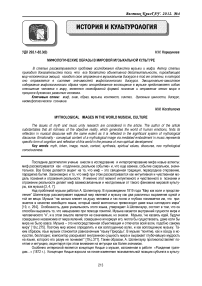Мифологические образы в мировой музыкальной культуре
Автор: Коршунова Н.Н.
Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau
Рубрика: История и культурология
Статья в выпуске: 4, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема исследования единства музыки и мифа. Автор статьи приводит доказательства того, что все богатство объективной действительности, порождающей мир человеческих эмоций, находит свое отражение в музыкальном дискурсе в той же степени, в которой оно отражается в системе значимостей мифологического дискурса. Эмоционально-смысловое содержание мифологического образа через опосредованное воплощение в музыке представляет собою отношение человека к миру, является своеобразной формой познания и отражения этого мира в процессе духовного развития человека.
Миф, знак, образ, музыка, контекст, синтез, духовные ценности, дискурс, неомифологическое сознание
Короткий адрес: https://sciup.org/14082320
IDR: 14082320 | УДК: 292.1-82.3(0)
Текст научной статьи Мифологические образы в мировой музыкальной культуре
Последние десятилетия ученые внесли в исследование и интерпретирование мифа новые аспекты: миф рассматривается как «подлинное, реальное событие» и, что еще важнее, событие сакральное, значительное. Все более делается акцент на то, что миф – это священная традиция, первородное откровение, парадигма бытия. Закономерно и то, что миф при этом рассматривается как интуитивная и чувственная модель познания и отражения реальности. И именно этот момент интуитивного и чувственного в познании и отражении реальности делает миф взаимосвязанным и неотделимым от такого феномена мировой культуры, как музыка [3, 4, 7].
Над проблемой музыки работал А. Шопенгауэр. В произведении 1819 года “Мир как воля и представление” Шопенгауэр рассматривает видимый мир явлений и музыку как два различных выражения одной и той же вещи. Музыка “так сильно влияет на душу человека и так полно и глубоко понимается им, что признается в качестве всеобщего языка, который своей внятностью превосходит даже язык наглядного мира” [19, c. 254]. Особенность, даже уникальность этого языка, утверждает А.Шопенгауэр, состоит в том, что он способен выражать то, что невыразимо при помощи понятий. Музыка касается внутренней сущности мира и человеческого “я”, и в этом смысле является не означаемым, но знаком. Музыка, “не касаясь идей, будучи совершенно независима от мира явлений, совершенно игнорируя его, могла бы существовать, даже если бы мира не было вовсе. Музыка – это непосредственная объективация и отпечаток всей воли, подобно самому миру” [19,c.275]. Поэтому мир можно определить и как воплощенную волю, и как воплощенную музыку. Таким образом, язык музыки становится равнозначным “языку Природы”. В музыке “понятие, как и всюду в искусстве, бесплодно; композитор раскрывает внутреннюю сущность мира и выражает глубочайшую мудрость на языке, которого его разум не понимает” [19,c.371]. Таким образом, А. Шопенгауэр противопоставляет понятие и интуицию, акцентируя при этом внимание на интуиции как более значимом.
Особенно интересной является концепция Ницше о музыке, изложенная в работе «Рождение трагедии…» (1872 г.). Концепция Ницше взросла на почве изменения познавательной позиции субъекта в культу- ре – снижения роли рационального и логического в познании мира, связанного в свою очередь с кризисом новоевропейской культуры вообще. Согласно Ницше, имеет смысл познание не путем логического уразумения или не только этим путем, сколько путем непосредственной интуиции. Музыка имеет смысл, ибо является не передающей образы мира, но выражающей суть вещей [16].
Уже в начале ХХ столетия французский антрополог, этнолог и культуролог Клод Леви-Стросс в своей работе «Мифологики. I. Сырое и приготовленное» исследует взаимосвязь мифа и музыки. В ходе размышлений Леви-Стросс приходит к выводам о более высоком по сравнению с мифологией положении музыки в культуре. Это объясняется ее необычайной способностью одновременно воздействовать на разум и на чувства, вызывать одновременно и идеи, и эмоции, погружать их в единый поток, где они уже перестают существовать отдельно друг от друга.
Идея К. Леви-Стросса имеет большое методологическое значение, так как касается глубинного, абстрактного аспекта общности мифа и музыки. В поисках единства и границ мифа и музыки условно различаем, во-первых, профессиональное музыкальное искусство Нового времени, предлагающее своеобразную интерпретацию мифа; во-вторых, явление «мифологического неоархаизма», реализующее закономерности архаического мифологического мышления во всей их полноте [8].
Отличительные особенности мифологической логики, по Леви-Строссу: логика обобщений, классификаций, анализа природных и социальных явлений. Вместе с тем логика мифа конкретна и образна, является логикой ощущений; мифологическое мышление широко пользуется метафорами, символами и превращает их в способы постижения мира и человека. Логика мифа, как и логика самих социальных отношений, построена на бинарных оппозициях.
Музыка также обобщает, передавая не ”сырые”, а осмысленные чувства, выделяя в них главное, сопоставляя их не только по непосредственному течению, но и по смысловому содержанию, раскрывая в этом сопоставлении еще более глубокий смысл. Поэтому музыка оказывается особенно чуткой к воплощению диалектических отношений, к отражению логики, идейного смысла развивающихся процессов действительности. Так, благодаря логике музыкального развития и формообразования, образно значимая эмоция переходит в идею, а в симфонической драматургии раскрываются существенные отношения жизни. Музыка тем самым приобщает человека к большому миру, к сложным общественным отношениям.
И музыка, и миф развертываются во временной последовательности, но существуют и воспринимаются вне физического, обыденного времени. Мифологическое время и музыкальное время – и есть, и не есть вечность, сразу и одновременно, ибо временная вечность и вечное время – это актуальная бесконечность. Прослушивание музыкального произведения в силу его внутренней организации останавливает текучее время. Только слушая музыку и только в то время, когда мы ее слушаем, мы приближаемся к чему-то, похожему на бессмертие.
Непостижим и многозначен процесс создания и музыкальных произведений и мифов. Однако музыка ставит более трудные проблемы, потому что мы не знаем всех ментальных условий музыкального творчества. И среди всех языков только музыкальный язык объединяет противоречивые свойства быть одновременно умопостижимым и непереводимым, что превращает музыку в высшую тайну науки о человеке. Музыкальный язык, основанный на развитии звуковысотных и метроритмических свойств речевой интонации, на разработке их в специфически организованную систему музыкальных звуков, кажется условным. Но его условность преодолевается достижением эмоционального подобия, художественного тождества музыкального и жизненного переживания. Об условности музыкального языка мы как бы забываем, когда слышим в музыке живое чувство, осознаем связанный с ним образный мир, понимаем породившую его реальную жизнь.
Сила музыки – в ее сходстве с интонаций человеческой речи. Б.В.Асафьев называл музыку “искусством интонируемого смысла” [1, 2, 13]. Интонации человеческого голоса несут в себе состояния внутреннего мира, смысл речи, полноту переживаний, обладая также национальной характерностью и способностью обрисовывать индивидуальные особенности личности. Музыка воплощает эмоционально-смысловое содержание, внутренний мир человека способом, подобным тому, каким все это воплощается в интонации речи. Именно в силу интонационной природы музыки создается возможность необычайно конкретной и точной, совершенной и полной передачи в ней внутреннего мира человека.
Эмоции не только представляют собою отношение человека к миру, но и являются своеобразной формой его отражения. Это отражение содержательно и значимо по смыслу. Эмоции возникают на основе восприятия предметных явлений, представлений, мыслей, они сопровождают и характеризуют их. Тем самым эмоции дают характеристику породивших их объективных явлений, становятся их опосредованным отражением. Сфера опосредованного отражения ассоциативна, неопределенна, произвольна и субъективна. Таким образом, предметный мир, события человеческой жизни, общественные отношения – все богатство объективной действительности, порождающей мир человеческих эмоций, входит в музыку опосредованно.
Исходя из этого, музыка существует как специфическая область культуры, имеющая свой язык, как совокупность культурных кодов. Соответственно, в ней формируется музыкальный дискурс, который может существовать как область фиксирования значимых для человека представлений об окружении, и позволяющий придать общекультурное значение индивидуальному опыту [4, 12, 14, 15, 18].
Мифологический дискурс образуется как определенная индуктивная система значимостей, принимаемых не за субъективную систему ценностей, но за объективную систему фактов, чувственно конструирующих данность и элиминирующих её историчность. Исследователь М.Ю.Лотман уточнил, что миф является в первую очередь языком-объектом, опирающимся на семиозис номинации – знак-имя, а не метаязыком дескриптивного описания мира, имеющего металингвистическую функцию. Миф близок к языковому сознанию, ибо он вместе с ним участвовал в эпоху начала человечества в поименовании вещей, через прозрение их сути, а тем самым миф впервые зафиксировал в себе место и смысл имени вещи. Таким образом, сутью семиологического феномена мифа является его выражение как особого языкового описания мира (именная номинация) и создание мифологического дискурса, использующего разные средства межчеловеческой коммуникации [11].
Опираясь на эмпирическое, эмоционально-чувственное мышление, миф как социальнотрадиционалистская и поэтически-индивидуалистская форма познания развивает пластические, чувственновоображаемые способности постижения мира.
Миф превращает хаос в космос, создает возможность постижения мира как некоего организованного целого, выражает его в простой и доступной схеме, которая могла претворяться в магическое действие как средство покорения непостижимого. Исследователь мифа А.Ф.Лосев в работе “ Очерки античного символизма и мифологии” определил: Миф есть нечто чувственное. Миф потому обладает конкретностью и очевидностью, что он доходит до чувственной сферы. Любая идея, утверждает он, дана в мифической чувственности. Миф, т.е. мифическая вещь, есть вполне закономерное диалектическое продвижение и завершение идеи. У Лосева миф-идея есть некая чувственная данность, перешедшая в чувственное инобытие и там воплотившаяся [9].
Закономерно, что эта особенность мифа нашла свое воплощение в многочисленных музыкальных произведениях. Мифологические образы в мировой музыкальной культуре неисчерпаемы. Миф об Орфее явился сюжетом для одной из самых первых опер «Эвридика», представленной в 1600 году во Флоренции по случаю свадьбы Марии Медичи и Генриха IV. Её авторами были поэт Оттавио Ринуччини – первый в истории оперы либреттист – и певец-композитор Якопо Пери. Впоследствии этот миф становится одним из самых популярных сюжетных источников для оперы – вплоть до ХХ века.
В 1792 году в России был представлен "Орфей" Я.Княжнина и Е. И.Фомина.
"Орфей" Княжнина и Фомина – произведение подлинно трагическое, в котором внимание сосредоточено на глубоких психологических переживаниях героев. Как и в античном мифе, боги не возвращают Эври-дику Орфею. Но в отличие не только от древнего мифа, но и от всех других позднейших "Орфеев", Орфей осмелился выразить мятежный протест богам. Эта страстная мятежность замечательно выражена в музыке Фомина – в полной драматизма увертюре, в характеризующих Орфея и Эвридику выразительных, глубоко человечных оркестровых эпизодах, которым противостоит мрачный голос "рокового" хора, дикая финальная пляска фурий.
На сюжет «Орфея» создано свыше 50 опер. Среди них «Эвридика» Дж. Пери и Дж. Каччини, «Орфей» К. Монтеверди, оперная дилогия «Орфей» Р. Кайзера, «Орфей и Эвридика» Дж. Царлино и И. И. Фукса и др. Из музыкальных воплощений темы Орфея в XVII–XVIII вв. непреходящее художественное значение имеют оперы Монтеверди и Глюка. После Глюка были созданы оперы И. Г. Наумана, И. Гайдна (впервые исполненные лишь в XX в.). В XX в. были созданы камерная опера А. Казеллы «Сказание об Орфее», опера Э. Кшенека «Орфей», «опера-минутка» Д. Мийо «Несчастья Орфея», балет И. Стравинского «Орфей» и др. [5].
Особенно густо заселены мифологическими персонажами оперы, балеты, оратории и кантаты XVII– XVIII веков. Значительно реже встречаются они в музыке XIX века. И опять заметно возрастает их число в западноевропейской музыке XX века. Многие мифологические образы появляются по нескольку раз – в разные века и в разных музыкальных жанрах.
Так, например, знаменитого своими подвигами Геракла можно найти и в одной из реформаторских опер Глюка – "Альцеста" (1767), и спустя сотню лет – в симфонической поэме французского композитора Сен-Санса ("Юность Геракла", 1877). А из богов древнегреческой мифологии больше всего повезло в музыке, пожалуй, богу света, покровителю искусств Аполлону. Интересно, что начало тут положили сами древние греки – в самом первом программном инструментальном произведении, упомянутом в летописях истории музыки. Это была пьеса под названием "Битва Аполлона с пифоном" для авлоса — духового инструмента типа современного гобоя. В 586 году до н. э. за ее исполнение на пифийских играх в честь Аполлона в Дельфах некий Саккад из Аргоса был увенчан лавровым венком. Кантату "Состязание Феба и Пана" написал в первой половине XVIII века великий И. С. Бах. В оперной трилогии "Орестея", созданной в конце XIX века известным русским композитором С. И. Танеевым, с образом Аполлона связана замечательная по красоте музыка — гимн свету, разуму, справедливости. Балет "Аполлон Мусагет" сочинил в 1927 году И. Ф. Стравинский. Но самыми плодовитыми в музыке были и остаются поныне мифы об Орфее и Прометее [6].
1801 год явился в музыке своего рода "прометеевым". В этот год был поставлен балет "Творения Прометея" Бетховена. Музыкальная летопись 1900 года отмечена исполнением трагедии "Прометей" с музыкой Габриеля Форе. Но эта трагедия заканчивалась славой величественным богам. Неблагодарные люди отвернулись от Прометея, от своего героя-благодетеля. Так во Франции, где ярчайшая тираноборческая искра, блеснув на баррикадах Парижской коммуны, погасла, залитая кровью, накануне XX века пошатнулась вера в победу революции.
В 1908 году в России М.Ф. Гнесин написал симфоническое произведение, вдохновленный драмой "Освобожденный Прометей" английского поэта П.Б. Шелли. В 1909 году выдающийся русский музыкант С.И. Танеев сочинил хор "Прометей" .
В 1911 году в Москве А. Скрябин представил своего "Прометея", или иначе "Поэму огня". Композитор использовал в "Прометее" грандиозный состав оркестра с участием органа и хора, поющего без слов. Большой партии солирующего фортепиано была отведена роль самого героя – Прометея.
Музыка XX века, может быть, наиболее безусловный объект музыкально-мифологического анализа. Ведь именно на начало нашего столетия приходится "взрыв" нового мифологизма, внезапно сблизившего далекие, исторически разобщенные объекты культурного наследования. «У музыки, – пишет К.Леви-Стросс об европейской музыке после Вагнера и Дебюсси, – не было иного выхода, кроме как освободиться, обратившись к мифологическим структурам» [8] . Если музыка, «сменившая» миф в ХVII веке, дала культуре формы, которые, будучи «уже открытыми мифом», все же сформулированы музыкальным искусством, то в ХХ веке ситуация в известной степени симметрична. Миф не вытеснил музыку, однако новые способы организации звуковой материи, новое понимание композиции во многих случаях апеллируют к формулам мифа, минуя промежуточные культурные звенья.
При контакте мифа и музыки возникает своего рода территория, на которой не только сохраняются заданные изначально значения, но и рождаются новые смыслы. Этот контакт предполагает двусторонние отношения музыкального и внемузыкального планов – исходный смысловой уровень текста моделирует семантику музыкального плана, но в то же время в музыкальной интерпретации сам исходный текст мифа воспринимается в новых ракурсах. Оказывается возможной транскрипция содержания мифа, например, современное прочтение мифа: специально акцентируется современное сюжетное оформление, сближающее мифологические образы с настоящим временем. «Страдания Орфея» Д. Мийо – произведение, в котором миф об Орфее перенесен в современную эпоху. В опере Э.Кшенека «Орфей и Эвредика» (1926) миф подвергся свободному творческому пересказу – постигшие его синтагматические изменения очевидны. Об этой опере Б.Асафьев писал, что в ней миф превратился в «эротический кошмар». Тот же миф об Орфее в трилогии Дж.Малипьеро «Орфеиды» обретает аллегорическую и символическую трактовку. А его образы предстают в гротескно-трагическом освещении [6].
Таким образом, воссоздавая мифологическое пространство, композитор предлагает собственную трактовку мифологического сюжета. Внеиндивидуальное качество мифологических образов выводит их в достаточно широкую смысловую сферу, открывающую перспективы для значительного по масштабу обобщения. Именно в ХХ веке интерпретация мифа имеет открытый характер, свободный от какой-либо замкнутости и завершенности.
Различные интерпретации мифологических образов в музыке, при всем их своеобразии, тем не менее являются выражением основных свойств мифа – его синкретизма, нерасчлененности составных элементов, художественных и аналитических, повествовательных и ритуальных. Исследование единства музыки и мифа чрезвычайно важно для ХХI века, так как мифологическое пронизывает фундаментальную культуру, в которой одним из главных направлений ментальности становится неомифологическое сознание.