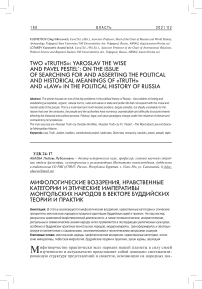Мифологические воззрения, нравственные категории и этические императивы монгольских народов в векторе буддийских теорий и практик
Автор: Любовь Лубсановна Абаева
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 2, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются мифологические воззрения, нравственные категории и этические приоритеты монгольских народов в процессе адаптации буддийских идей и практик. На наш взгляд, результаты креативной мифотворческой деятельности, а также тотемистические, анимистические, ритуальные и символические знания народа четко проявляются в последующих религиозных культурах, особенно в буддийских практиках монгольских народов, модернизируясь, трансформируясь и эволюционируя в соответствии с социальными, экономическими и политическими запросами социума.
Монгольские народы, мифологические воззрения, нравственные категории, этические императивы, тибетская мифология, буддийские теории и практики, закон кармы, эволюция
Короткий адрес: https://sciup.org/170174605
IDR: 170174605 | DOI: 10.31171/vlast.v29i2.8043
Текст научной статьи Мифологические воззрения, нравственные категории и этические императивы монгольских народов в векторе буддийских теорий и практик
Мифотворчество практически всех народов нашей планеты в силу своей изученности и актуальности представляет собой довольно систематизированную структуру представлений и сюжетов, основанную на народных зна- ниях и воззрениях; практике жрецов; картине мира, а также обширных рассуждениях ранних народных мыслителей и интерпретаторов о существующем мире вокруг. «Мощным символическим институтом религиозных представлений являются мифы, или священные предания, которые повествуют о создании мира и других значимых деяниях, совершаемых полубожественными героями. Мифы – это не просто объяснительные истории духовного космоса: они имеют сами по себе духовную власть, которая выражается в манере их изложения и сопровождаемых ритуальных действиях»1.
При этом необходимо отметить, что результаты креативной мифотворческой деятельности, а также тотемистические, анимистические, ритуальные и символические знания народа четко проявляются в последующих религиозных культурах каждого конкретного региона, модернизируясь, трансформируясь и эволюционируя в соответствии с социальными, экономическими и политическими запросами социума. Изучение феноменов религиозной культуры разных исторических эпох и трансформации нравственных парадигм и этических соображений способствует не только выявлению внешних признаков как индикаторов этничности, но и осмыслению некоторой сущностной специфики этнокультурной общности, которая отличает ее от других этносоциальных групп. Человек как существо и социальная сущность всегда вносил в культурные традиции своего этноса эволюционные тенденции важнейших атрибутов материальной реальности и духовности, составляющих основной каркас культуры каждого конкретного этноса. Эти тенденции, непосредственно связанные с реальной и мировоззренческой социокультурной деятельностью индивида и социума, в котором он находится, тесно связаны с особенностями его психологического склада, исторически и этнически сложившимися в процессе эволюции того или иного этносоциального организма.
В данном случае небезынтересно рассмотреть мифологические представления тибетцев в добуддийский период, поскольку регион Центральной Азии с точки зрения ориенталистики представлял собой единый этнокультурный анклав религиозных традиций, в который были вовлечены практически все тибетоязычные, монголоязычные и тюркоязычные племена того периода. Исследование мифологических представлений тибетцев позволяет глубже понять и интерпретировать современные культурные, этнокультурные и конфессиональных реалии, происходящие в русле эволюционных процессов этносов и этнических групп не только Гималайского региона. Это позволяет оценить всю целостность, полноту и уникальность этнокультурного пространства тибетцев, сопредельных этнокультурных анклавов в целом и монгольских народов в частности.
Согласно этногенетическим мифам, происхождение некоторых тибетских кланов связано с яком и белой лошадью, которые в добуддийский период считались тотемами некоторых тибетских кланов [Огнева 1982: 506]. Среди насельников восточных и южных районов Тибета существует также поверье, что их предки произошли от слияния горной ведьмы и обезьяны. Картина мира в традиционном мировоззрении тибетцев иногда ассоциируется с утробой матери, откуда все берет начало и куда все возвращается. Утроба также имеет свой верх и низ, внутри нее есть ассоциации неба и земли, мира людей и не-людей, живых и мертвых [Огнева 1982: 506]. Возможно, поэтому для тибетцев характерно почитание пещер в горах, и самих гор в том числе. Космогонические мифы тибетцев фиксируют трехчленное деление Неба и Земли, ее поверхности и подземельного пространства. Небо считалось обиталищем божеств, а Земля – жилищным пространством для людей. В подземном мире, по традиционным представлениям тибетцев, обитали различные злые существа и духи, приносящие вред людям. Земную твердь тибетская добуддийская культура представляла как некий особый материк, плавающий в океане на спине огромной черепахи (или рыбы), для устойчивости придавленный горой как осью Вселенной. В исторической эволюции тибетских космогонических мифов присутствует также и легенда о том, что, когда создавался мир, сначала первопредки соорудили кучу камней на леднике как символ горных божеств. По некоторым версиям, Вселенная, божества и человек появляются из яйца. По другой версии, они появляются от белого света, который впоследствии породил яйцо [Огнева 1982: 508]. Яйцо, как известно, в классической мифологии всех народов мира является первоосновой сотворения мира и Вселенной.
В мифологическую культуру тибетцев также входили различные мифы о происхождении металлов, минералов и полудрагоценных камней. Особо ценилась и ценится до сих пор бирюза, которая, по мнению некоторых исследователей, появилась практически одновременно с идеей яйца и белого цвета. В традиционных религиозных воззрениях белый цвет считается сакральным, и от него произошли все остальные цвета народов, населяющих Гималаи и Предгималаи. Однако, кроме белого цвета, они предпочитают синий/зеле-ный, желтый, красный, оранжевый. Тибетцы сохранили и различные мифы о роли кузнецов и их магической связи с небесными божествами в контексте своих добуддийских религиозных традиций. Небезынтересно отметить, что традиционная цветовая гамма тибетоязычных этносов и монгольского мира практически идентична как в конфессиональном контексте, так и на бытовом уровне [Абаева 2018: 119-127].
Представления о вечной генетической связи тибетских кланов с Небом, которое в их мировоззрении подразделяется на три сферы – верхнее, срединное и нижнее, также присутствуют в их традиционном мифологическом восприятии мира. Этот феномен в русскоязычной литературе получил название тэнгрианства. Тэнгрианские традиционные воззрения, создавшие собственную уникальную картину мира, возникшие еще в период мифотворчества и мифопоэтических образов, конечно же, остались в традиционном представлении насельников Центральной Азии, например на уровне восприятия небесного происхождения самого Чингисхана и других ханов и хаганов монгольского мира, о чем неоднократно и широко писали многие исследователи. Наиболее глубокие корни тэнгрианства мы обнаруживаем в космогонических мифах монгольских и тюркских этносов Центральной Азии. В процессе своего исторического развития у этих насельников Центральной Азии в результате кросс- и интеркультурных взаимоотношений складывалась идентичная дуальная религиозно-мировоззренческая система («Небо» – «Земля») как специфическая форма социальной самоорганизации, упорядочившая субъективное в сознании на уровне объективного кочевого мировоззрения. Из первоначального космического хаоса, по их мнению, появился определенный порядок, сформировалась традиционная картина мира, а также связанная с ней структура социального и природного бытия на основе этой дуальной организации. Здесь необходимо подчеркнуть, что единственный представитель тюркской метаэтнической общности – тувинцы – исторически и в настоящее время на протяжении уже нескольких веков являются адептами буддийской теории и практики. Это уникальное явление в религиозной культуре тюркских народов заслуживает особого внимания исследователей, т.к. адаптация буддийских религиозных знаний и практик в этнокультурной и социальной среде тувин- цев происходила в схожем и практически одинаково направленном векторе с монгольскими народами. Ведь тувинцы в составе Урянхайского края являлись сопредельным этносом монгольских народов, представляя вместе с ними практически единый этнокультурный анклав монгольского мира.
Проблема изучения специфики нравственных категорий и этических императивов монгольской метаэтнической общности и ее сопредельных представителей также, на наш взгляд, уходит в ее далекое историческое прошлое, сформированное иногда мифокреативными процессами. Однако чаще всего бессознательное/сознательное и практическое осмысление мира, своего социума и социумов вокруг метаэтническими сообществами Центральной Азии не имеют общего начала с параллельно формирующимися этическими нормами. В основном этические нормы и нравственные ориентиры монгольских социумов регулировались многочисленными обычными правами, степными уложениями, законами и указами, вводимыми в оборот светскими лидерами на уровне монгольских этнических групп регионального и локального характера. Важно подчеркнуть, что религиозные, мифологические воззрения тибетских, монгольских этносов, естественно, наряду с тюркскими, были практически аналогичными, возникнув как общее этнокультурное и структурное ядро семантических мифологем и отличаясь лишь региональными вариациями и локальными инвариантами.
Казалось бы, в формировании нравственных категорий и этических императивов должен бы доминировать такой психоэтический феномен, как душа. Европейская интерпретация понятия «душа» в культуре многих народов, на наш взгляд, относится к их древнейшим архаическим анимистическим представлениям об особой силе, обитающей в телесных проявлениях флоры и фауны окружающего их мира. Эти представления отражают развитие мифологического, религиозного, философского и антропологического сознания о сущности человека, характеризуя достаточно высокую степень их развития. В русле философии и психологии тех времен понятие «душа» раскрывалось и декларировалось прежде всего как некая внутренняя динамическая сила и как активное жизненное начало. В христианской же традиции душа является «индивидуальным проявлением единой духовной субстанции» или представляет «созданное богом неповторимое личностное начало» [Аристотель 1937: 9]. В традициях религиозной культуры монгольских народов термин «сунс» отражает их непосредственные знания о существовании у человека некой био- и психофизической энергетической субстанции, которой обладает индивид в реальной жизни и которая сопровождает его после кончины. Феномен «сунс», на наш взгляд, относится к категории непосредственных знаний монгольских народов и отражает объективную реальность кочевого образа жизни. Ощущения и восприятие как категории социальной антропологии относятся к непосредственным знаниям той или иной этнической культуры. Непосредственное знание, в свою очередь, базируется на дискурсивном познании, включающем логические рассуждения и рефлексии предшествующего опыта.
Существование понятий «сюльдэ» и «сунс» у монгольских народов свидетельствует о феномене некоей субстанции, которая в буддийской традиции отсутствует как категория «душа», но фиксируется в виде сгустка «дхарм» и реинкарнируется посредством создания потоков дхарм. В добуддийский период – в тэнгрианских и в более архаичных общемонгольских мифо-религиозных представлениях – она фиксируется как сгусток жизненной силы конкретного индивида и даже коллектива. При этом именно «конструкция» дхарм отдельного индивида и целого социума, фундаментальной основой которых является закон кармы, возможно, сформировала нравственные и этические ценности и приоритеты, возникшие в процессе развития монгольских народов, да и народов Центральной Азии в целом.
На наш взгляд, древние мифологические, мировоззренческие и религиозные идеи и позиции монголосферы свидетельствуют о достаточно длительных процессах их этнокультурной адаптации последующими стратами религиозных культур, а феномен их символизации в контексте уникальных процессов преемственности завершился в векторе расширения буддийских идей и практик. При этом нравственные императивы и этические ценностные нормы и ориентации монгольских народов преимущественно сформировались и развивались в контексте развития социально-политических процессов, происходивших в разновременные хронологические периоды в метаэтническом монгольском социуме.
Статья выполнена в рамках государственного задания «Трансформация направлений и школ буддизма: история и опыт взаимодействия с религиями и верованиями России, Центральной и Восточной Азии (с периода распространения буддизма до современности: Россия – ХVIII–XXI вв.; Китай – II–XXI вв.; Тибет – VII–XXI вв.; Монголия – ХVI–XXI вв.)», № 121031000261-9.
Список литературы Мифологические воззрения, нравственные категории и этические императивы монгольских народов в векторе буддийских теорий и практик
- Абаева Л.Л. 2018. Религиозная культура монгольских народов в векторе буддийских традиций. Улан-Удэ: Буряад-Монгол ном. 368 с.
- Аристотель. 1937. О душе. М.: Государственное социально-экономическое изд-во.109 c.
- Огнева Е.Д. 1982. Тибетская мифология. – Мифы народов мира. Т. 2. М.: Советская энциклопедия. 719 с.