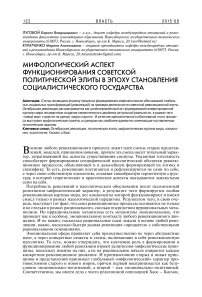Мифологический аспект функционирования советской политической элиты в эпоху становления социалистического государства
Автор: Луговой Кирилл Владимирович, Куратченко Марина Анатольевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 6, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу процесса формирования мифологических обоснований глобальных социальных трансформаций (революций) на примере деятельности советской революционной элиты. Октябрьская революция рассматривается как целенаправленный акт формирования инвертированной картины мира посредством создания семиотического двойника актуальной реальности, в рамках чего «новый мир» строится на руинах «мира старого». В качестве идеологического обоснования этого процесса выступают мифологические сюжеты и сценарии как наиболее адекватно отвечающие поставленным политическим задачам.
Октябрьская революция, политическая элита, мифологическая картина мира, космогония, эсхатология, космос и хаос
Короткий адрес: https://sciup.org/170167960
IDR: 170167960
Текст научной статьи Мифологический аспект функционирования советской политической элиты в эпоху становления социалистического государства
В основе любого революционного процесса лежит идея смены старых представлений, моделей, принципов новыми, причем эта смена носит тотальный характер, затрагивающий все аспекты существования социума. Указанная тотальность способствует формированию специфической идеологической оболочки революционных процессов, объясняющей и в дальнейшем формирующей их логику и специфику. То есть, революции постигаются и рефлексируются не сами по себе, а через свою собственную идеологию, создавая своеобразную герметичную структуру, в которой теоретические и практические аспекты оказываются замкнутыми сами на себя.
Потребность революций в идеологическом обосновании носит несомненный религиозно-мифологический характер, в результате чего формируется особая революционная картина мира, все компоненты которой функционируют и имеют смысл только в рамках идеологической парадигмы. Результатом чего, в свою очередь, выступает тот факт, что сами революционные процессы осознаются не только и не столько в рамках рационального, сколько посредством иррациональных механизмов. Но иррациональные механизмы есть механизмы эмоциональные, что приводит нас к особому, эмоциональному контексту любого революционного движения. И не важно, насколько рациональные идеи лежали в основе любой революции, важно, насколько быстро данная революция «прощается» с собственными рациональными основаниями.
Эмоциональная сфера проявляет себя преимущественно не через абстрактные идеи, а через конкретные сюжеты и схемы, включающие в себя революционную идеологию. То есть, можно утверждать, что ключевую роль в формировании и функционировании любой революции играют религиозно-мифологические принципы, поскольку именно на них, а не на рациональное начало опирается каждое конкретное революционное движение. И противостояние старых и новых принципов и представлений принимает глобальный «мифологический» характер противостояния старого и нового миров, причем первый воспринимается как безусловно эмоционально-негативный, а второй – как эмоционально-позитивный. Соответственно, мы имеем дело с чисто религиозной оппозицией Хаос – Космос, и процесс качественного перехода от одного к другому (собственно революция) носит несомненный эсхатологическо-космогонический характер. Революционная идеология в итоге с необходимостью приобретает мифологический характер со всеми характерными компонентами и вполне укладывающимися в общую схему отклонениями от базовой мифологической модели (например, переворачивание пространственно-временного континуума и т.д.).
Здесь мы подходим к необходимости вычленения и характеристики роли и функции политических элит в рамках революционных процессов. Так называемые профессиональные, или «пламенные», революционеры – это те, на чьи плечи ложится задача совмещения прагматического и идеологического (практического и символического) аспектов революционного движения, т.е. осуществления медиации между конкретными политическими действиями и их трансляцией/осмыслением. Причем в реальности революционная логика такова, что прагматика, по крайней мере в фазе самоосмысления, отступает перед символической рефлексией своих ключевых позиций. Иначе говоря, значимым является не действительно важное, а то, что мы определяем таковым. И это опять же сближает революционную идеологию и мифологию. Соответственно, революционная элита состоит из тех, кто способен создавать новые смыслы в актуальном политическом пространстве и кодировать (или же перекодировать) определенные элементы реальности. Основной признак профессиональной адекватности в этой области – способность к мифотворчеству.
Как же творятся революционные мифы? Схема здесь довольно проста, хотя эта простота кажущаяся. Дело в том, что задача, стоящая перед «пламенным революционером», достаточно нетривиальна, поскольку ему необходимо, пользуясь традиционным инструментарием, т.е. привычными и общеизвестными схемами и моделями, создать совершенно новый набор значений, т.е. уникальную картину мира, которая, с одной стороны, была бы знакомой и привычной даже в условиях потенциальной вариативности, а с другой – отвечала бы нуждам и чаяниям максимально широкой референтной группы. Политическая элита, по крайней мере на уровне теоретического самоопределения, должна быть одновременно внутри грядущего электората и вне него. И что характерно, наиболее успешные и эффективные профессиональные революционеры, помимо всего прочего, оцениваются и с этой позиции – насколько они способны удерживаться на грани «с народом» и «над народом» (здесь весьма показательным является произведение А.Т. Твардовского «Ленин и печник»).
Что касается формирования революционной мифологии, мы здесь наблюдаем довольно четкое расщепление на два этапа – эсхатологический и космогонический, последовательно отраженные в программном революционном тексте – «Интернационале». Там в соответствии с классическими мифологическими схемами предполагается, что создание чего-то нового (в нашем случае – мира, нового, справедливого и т.д.) возможно только в хаотизированном хронотопе, т.е. логическая двучленная последовательность «старое – новое» замещается последовательностью трехчленной: «старое – Хаос – новое». Соответственно, сначала «весь мир насилья мы разрушим до основанья», и лишь потом «мы свой, мы новый мир построим». В итоге первым пунктом революционной мифологии должно выступать обоснование необходимости эсхатологической операции, для чего «старый» мир представляется лишенным признаков нормального функционирования (аналогии – Железный век, Кали-юга, «век мечей и секир» и т.д.). А потом уже, доведя окружающий мир до состояния tabula rasa , можно приступать ко второй части глобального сценария, т.е. строить новый мир.
В результате в деятельности революционной элиты можно выделить два сменяющих друг друга вектора – направленный на разрушение/дискредитацию старого строя и нацеленный на формирование нового порядка и новых правил. В идеальных условиях эти векторы должны воплощаться в образах основных мифологических персонажей – трикстера и культурного героя. Важно отметить, что если культурный герой – безусловная концептуализация конструктивной модели, то трикстер является воплощением лишь возможности деструктивизации, но сама возможность в контексте настоящего исследования играет принципиальную роль. И последнее. Великая Октябрьская социалистическая революция здесь выступает в качестве одного из парадигматических образцов (она – часть своей собственной мифологии), поскольку, во-первых, все вышеперечисленные особенности ей с необходимостью присущи, а во-вторых, для всех последующих революционных движений именно она послужила программной схемой и идеальным мифологическим сценарием.
Образ В.И. Ленина как воплощение трикстерской модели поведения был прекрасно проанализирован Л.А. Абрамяном [Абрамян 2005: 68-88], и здесь трудно добавить что-то принципиально новое. В силу этого имеет смысл несколько больше акцентировать не столько собственно трикстерские, сколько эсхатологические мотивы в деятельности вождя революции. Прежде всего, они воплощаются в приписываемом В.И. Ленину принципе «чем хуже, тем лучше», в рамках которого идея «раскачивания лодки» достигает своего логического апофеоза. По сути, эта концепция означает, что объект (Российская империя) переходит в «рабочий режим» только по достижении состояния «хуже некуда», которое в мифологическом сознании определяется как Хаос.
Еще одним несомненным трикстером-деструктором в советской политической элите является Л.Д. Троцкий, чей образ можно рассматривать как идеальный коррелят с трикстерской моделью – начиная от диссонанса между внешним обликом и сферой революционной самореализации (создатель Красной армии и т.д.) и заканчивая идеей «сжигания» Советской России в огне мировой революции (очевидный эсхатологический набор смыслов).
Наиболее сильным и последовательным революционным образом, воплощающим эсхатологические идеи, является пролетариат, потенциальный источник политической элиты победившей революции. Это проявляется, прежде всего, в двух базовых характеристиках пролетариата, превратившихся в квинтэссенцию его символической сущности. Во-первых, это определение пролетариата как могильщика буржуазии, а во-вторых, утверждение, что пролетариату «нечего терять, кроме своих цепей». Эсхатологичность первой характеристики не нуждается в каких-то особых пояснениях, соответственно, имеет смысл подробнее остановиться на второй. Определение «нечего терять» описывает рабочий класс как специфически мифологическую tabula rasa , предначальный Хаос, в котором в качестве суммы всех потенциалов теоретически заключено все, но ничего не воплощено. Задача космогонического акта в любой мифологической традиции – проявить определенный аспект заложенного в Хаосе потенциала; так и в социалистической революционной космогонии профессиональные революционеры, политическая элита «пробуждают» пролетариат, заставляя его отбросить цепи и принять свою судьбу, предначертанную марксизмом. Эта судьба – власть, т.е. рабочий класс осуществляет социальное сальто, превращаясь из угнетенного класса в класс правящий, что в рамках мифологической логики выглядит как классическая космогония: то, что было возможно, но не явлено, стало реальным и воплощенным. Хаос стал Космосом.
После собственно акта творения, сводимого советской мифологией к штурму Зимнего дворца (на глубокую символичность которого обратил внимание в своей работе Л.А. Абрамян [Абрамян 2005: 73]), в стране начинаются революционные преобразования, в которых, помимо политической прагматики, можно без труда вычленить несомненный мифологический контекст. Космогония – это, прежде всего, конструирование новой реальности в географическом, социальном и смысловом аспектах. В итоге создается семиотический двойник реального государства, где указанные аспекты играют не столько прагматическую, сколько символическую роль. Новый мир оформляется посредством первых декретов («О мире» и «О земле») и основополагающих лозунгов («Земля – крестьянам», «Фабрики – рабочим», «Власть – Советам»). В итоге новая реальность принципиально отличается от старой (наконец-то построен «свой мир»), и радикальность преобразований выступает главным аргументом в пользу их невозможности без полного разрушения предыдущей версии бытия.
Мифологическая модель предполагает, прежде всего, контроль над хронотопом. Соответственно, от революционной идеологии стоит ждать радикальных представлений, преобразующих актуальный пространственно-временной континуум. Первым пунктом программы выступила реформа календаря. Конечно, мы здесь наблюдаем не столь масштабные перемены, как во время Великой Французской революции, а всего лишь переход на общеевропейскую схему, но для мифологической логики важен не размер или объем, а вектор. То есть, определяющим является факт изменения, а не его степень. Следующий пункт формирования контроля над временем – перенос момента Начала бытия, т.е. социально и культурно значимой точки отсчета календаря. Во-первых, центр тяжести смещается от Рождества к более светскому Новому году, а во-вторых, сам Новый год как бы двигается, частично уступая место новому Началу – дню творения революции и всего нового мира. Связь между Октябрьскими праздниками и Новым годом осуществлялась и в обратном направлении. Эта проблема настолько показательна, что имеет смысл остановиться на ней подробнее. После некоторого периода символической неопределенности в 1935 г. состоялось «возвращение» основного пространственновременного организатора праздника, новогодней елки. Учитывая мощнейший мифологический аспект образа Мировой оси, не удивительно, что этот символ воспринимался политической элитой как заведомо конкурентный и длительное время игнорировался. Но, оказавшись неспособной сформулировать столь же популярный в массах набор смыслов, отражающих символику принципиально нового Центра мира и соответствующих ему ритуальных коннотаций, элите пришлось пойти по более традиционному пути – взять старый образ и наполнить его новым значением. Подробнее о советской «новогодней елке» 28 декабря 1935 г. в «Правде», основной трибуне новой политической элиты, была опубликована заметка П.П. Постышева «Давайте организуем к новому году детям хорошую елку!» 1 , а уже 29 декабря в той же «Правде» сообщается, что в «Сокольниках будет открыта новогодняя елка… она будет украшена всевозможными игрушками, подарками для детей и разноцветными электрическими фонариками» 2 .
Феномен советской «новогодней елки» как ритуала анализируется в работе С.Б. Адоньевой «История советской новогодней традиции» [Адоньева 2001]. В контексте данного исследования представляется необходимым указать основные векторы трансформации. Так, в процессе превращения Сталина в новогоднего персонажа, присутствующего на каждом мероприятии, показателен сценарий, по которому проводилась в январе 1940 г. новогодняя елка в Московском доме пионеров и октябрят. На пригласительном билете и на входе в само здание располагался лозунг: «Спасибо великому Сталину за наше счастливое детство!». Огромный портрет Сталина с иллюминацией из электрических лампочек находился у входа в центре, а второй – на заднике сцены, где происходило действие. В ходе праздника дети должны были петь песни о Сталине, читать о нем стихи, скандировать лозунги и отгадывать о нем загадки 3 .
Контроль над пространством выразился, как и в любой мифологической традиции, в определении нового Центра мира, основной сакральной точки и места основных ритуальных действий. Такой точкой стал Мавзолей В.И. Ленина, очевидно, не случайно имеющий навязчивое сходство с зиккуратом, который, по определению М. Элиаде, «был, собственно говоря, Космической (Вселенской) горой, то есть символическим образом Космоса (Вселенной)» [Элиаде 2000: 31-32]. То есть, Центр социалистического мира формируется в четком соответствии с общей мифологической логикой, особенно если учесть, что именно здесь проводился основной календарный ритуал Советского Союза – демонстрация 7 ноября, являющаяся репликой космогонического революционного акта. Характерно, что к реальной космогонии, то есть взятию Зимнего дворца, это место не имело никакого отношения, т.е. выстроенная связь между Красной площадью и Октябрьской революцией была абсолютно искусственной, что также убеждает в исключительной мифологичности соответствующих социокультурных процессов.
Общая структура революционного пространства отличается существенной оригинальностью, поскольку строится не по мифологической, а скорее по героикоэпической логике. В социалистических представлениях о мире мы находим не только чисто мифологическую бинарность (свои – чужие), но и накладываемую на эту бинарность определенную дискретность, когда внутри своего пространственного модуса обнаруживаются чужие хаотические элементы (вредители, враги народа, белогвардейцы, шпионы, кулаки и т.д.), а внутри чужого пространства четко выделяются свои элементы с четко выраженными космогоническими коннотациями (пролетариат с его явным творческо-космогоническим потенциалом). Подобная картина мира позволила впоследствии создать концепцию альтернативного, не характерного для мифологической логики хронотопа, выраженного в принципе «усиления классовой борьбы по мере приближения к социализму». Для традиционной мифологии этот принцип глубоко парадоксален, поскольку в любой архаической системе хаотизация нарастает по мере удаления от сакрального состояния (не важно, пространственного или временного, поскольку это единое целое), тогда как в сформулированной революционной идее – все наоборот. Но это позволило советской политической элите создать определенную основу для разворачивающейся политики террора, обоснование которой в условиях нарастающей мифологизации концепций и явлений выглядело безупречно.
Кроме того, радикально меняется логика социальной реальности. С одной стороны, тот, «кто был ничем», вроде бы действительно «стал всем». Но, с другой стороны, новый правящий класс в силу своей многочисленности не мог получить те же возможности, что имел старый. Это проявилось в т.ч. и в феномене территориальности. Понятие «элитное жилье», не считая обобществленных «дворцов общего пользования» (дворцов культуры, дворцов быта и т.д.), касалось только непосредственно правящей элиты. Гегемону пришлось довольствоваться еще одним аспектом пересотворенной реальности – новому подходу к городскому жизненному укладу. Ярчайшим его появлением стали коммунальные квартиры, воплотившие в себе наиболее значимые компоненты нового, в т.ч. мифологизированного, бытия. Коммуналки превратились в своеобразный фокус постреволюционной действительности, стянув к себе и пересемантизировав многие мифологические символы, на деле только символами и оставшиеся. Еще один территориальный эксперимент новой элиты, может, менее показательный, но точно более яркий, – городские общежития пролетариата, ГОПы. Появление специфической субкультуры гопников, непосредственно связанной (конечно, только на начальном этапе) с этими социально-территориальными образованиями, говорит само за себя. Новый мир потребовал новой реальности, и эта реальность была дана; чисто космогоническая логика. А о последствиях думать было некогда, да и бессмысленно, поскольку символический аспект, несомненно, поглощал прагматический. Судя по всему, казалось, что мир будет именно таким, каким его придумают новые демиурги.
Другим примером новой, перевернутой по сравнению с имперским прошлым реальности служат коммунистические субботники. Идея неоплачиваемого труда – очевидная новация относительно знакомой рабочему классу капиталистической реальности. И явно, что именно этой новационности, отличности от предыдущей действительности и иррациональности эта идея обязана столь бешеной популярностью. Показательно, что те первые субботники превратились в смысловую парадигму и легли в основу целого пласта советской культуры, пережившего сам советский строй. И образ В.И. Ленина здесь, уже в своей культурно-героической ипостаси, столь же парадигматичен, и до сих пор субботник, закономерно называемый «ленинским», выступает в качестве ритуальной реплики изначальной космогонической реальности. Как и в традиционном ритуале, участие в субботнике – возможность совершить элиадевское «вечное возвращение» и приобщиться к священным ценностям эпохи первотворения, в нашем случае – трудовому героизму во имя чего-то значительно большего, чем может позволить себе обычный человек в обычное время.
Здесь вполне уместно вспомнить про феноменальную половую раскрепощенность, проповедовавшуюся в первые десятилетия советской власти. Это также далеко не случайный или же просто курьезный факт, напротив, он вполне органично укладывается в общую мифологическую логику. Переход от Хаоса к Космосу естественным образом сопровождается разрушением всех пространственных, социальных и ценностных структур, проявлением чего в традиционной культуре выступает специфическая оргиастическая модель поведения. Оргию здесь надо расценивать не только как факт телесности, но и как факт онтологии, свидетельствующий о маргинальном состоянии не столько собственно социума, сколько всего бытия [Зиневич 2002: 68]. Весьма показателен декрет о социализации женщин, появившийся во многих провинциальных городах России, где указывалось: «С 1 мая 1918 г. все женщины с 18 до 32 лет объявляются государственной собственностью. Всякая девица, достигшая 18-летнего возраста и не вышедшая замуж, обязана под страхом строгого взыскания и наказания зарегистрироваться в бюро “свободной любви” при комиссариате призрения. Зарегистрированной в бюро “свободной любви” предоставляется право выбора мужчины в возрасте от 19 до 50 лет… Мужчинам в возрасте от 19 до 50 лет предоставляется право выбора женщин, записавшихся в бюро, даже без согласия на то последних, в интересах государства. Дети, произошедшие от такового сожительства, поступают в собственность республики» 1 .
Теоретическое обоснование свободной любви было предложено А. Коллонтай в статье «Дорогу крылатому эросу!», опубликованной в журнале «Молодая гвардия» в 1923 г. «Для классовых задач рабочего класса совершенно безразлично, принимает ли любовь форму длительного и оформленного союза или выражается в виде преходящей связи. Идеология рабочего класса не ставит никаких формальных границ любви. Но зато идеология трудового класса уже сейчас вдумчиво относится к содержанию любви, к оттенкам чувств и переживаний, связывающих два пола. И в этом смысле идеология рабочего класса гораздо строже и беспощаднее будет преследовать “бескрылый Эрос” (похоть, одностороннее удовлетворение плоти при помощи проституции, превращение полового акта в самодовлеющую цель из разряда “легких удовольствий”), чем это делала буржуазная мораль» 2 . Большое распространение получила теория «стакана воды», отрицающая сложные любовные отношения между мужчиной и женщиной. Согласно этой теории, вступать в половые отношения предлагалось с той же легкостью и естественностью, что и утолять жажду.
Одновременно с этим шел процесс разрушения патриархальной семьи. В 1919 г. Коллонтай писала: «Семья отмирает, она не нужна ни государству, ни людям… на месте эгоистической замкнутой семейной ячейки вырастает единая большая трудовая семья» 3 . Связано это было как с экономическими (массовая урбанизация, неудовлетворительные условия проживания молодежи), так и с юридическими (законодательное уничтожение церковных браков в 1917 г., разрешение абортов в 1920 г. и пр.) факторами [Лебина 1994: 200]. При этом разрушение семьи происходило не только вследствие развода, но и через отречение детей от своих родителей. Здесь мы видим тот же эффект отрицания ценностей прошлого через переворачивание базовых социальных норм – эффект, основанный на актуализации идеи «рукотворной» бесструктурности (хаотизации) и маргинализации бытия.
Еще один важный аспект космогонической мифологии – лингвистический. Это касается, прежде всего, номинации модели творения посредством наделения именами (называния) элементов реальности. В итоге революционные преобразования в любой сфере – политической, культурной, экономической и др. – тяготеют к формированию нового языка. Октябрьская революция не явилась исключением, и революционный новояз стал одной из ярких примет нового образа жизни. Это, в свою очередь, было усугублено реформой русского алфавита, помимо всего про- чего, лишившей старую политическую элиту одного из своих видовых признаков – грамотности.
И последний элемент творения новой Вселенной – формирование границ. Грань между «своим» и «чужим» является системообразующим фактором любой культуры, традиционной и инновационной, и играет одну из ключевых ролей в процессе символизации реальности. Поэтому новая политическая элита не могла проигнорировать этот мощнейший ресурс и не заняться оформлением комплекса представлений о «нас» и «них», придавая ему привычный мифологический набор значений. Всему «нашему» в этой логике придаются позитивные характеристики с актуализацией идей правильности и порядка, а всему «чужому», напротив, характеристики негативные, усиленные образами Хаоса и тотального беспорядка. Именно здесь рождаются такие ключевые для советского пантеона «персонажи», как разнообразные темные силы, гидра капитализма и пр.
Проведенное исследование ставило перед собой цель не столько ответить на целый ряд актуальных вопросов, связанных как с недавним прошлым, так и с проблемами сегодняшнего дня, сколько поставить вопрос о значимости мифологического аспекта в деятельности политических лидеров в периоды большой социальной напряженности. И не так уж важно, о каком времени идет речь, существенно лишь то, насколько грамотно и творчески политическая элита задействует имеющийся в ее распоряжении мифологический инструментарий. Ведь именно от этого зависят и конструируемые в процессе государственного строительства смыслы, и общее время их функционирования. Не зря же многие смыслы Октябрьской революции пережили не только ее саму, но и собственно социалистическую государственность. По большому счету, вся современная ностальгия есть ностальгия по советской мифологии, яркой, образной и в прямом смысле мифологической.
Список литературы Мифологический аспект функционирования советской политической элиты в эпоху становления социалистического государства
- Абрамян Л. 2005. Ленин как трикстер. -Современная российская мифология. М.: Изд-во. 285 с
- Адоньева С.Б. 2001. История советской новогодней традиции. -Категория ненастоящего времени. Антропологические очерки. СПб: Петербургское Востоковедение. С. 44-58
- Зиневич О.В. 2002. Социальная природа телесного в альтернативных онтологиях Эроса. -Философские основания исследования пола как социального феномена. Новосибирск: Новосибирский гос. ун-т. 196 с
- Лебина Н.Б. 1994. В отсутствие официальной проституции. -Проституция в Петербурге (40-е гг. XIX в. -40-е гг. ХХ в.). М.: Прогресс-Академия. 219 c
- Элиаде М. 2000. Миф о вечном возвращении. -Избранные сочинения. М.: Ладомир. 414 с
- Давайте организуем к новому году детям хорошую елку! -Правда. 1935. № 357(6603). 28 дек.
- Новогодние елки. -Правда. 1935. № 358(6604). 29 дек.
- Елка: художественный материал для детей дошкольного возраста. 1940. М. С. 14-17.
- Социализация женщин. 1918. Петроград. С. 4-5.
- Коллонтай А. М. 1923. Дорогу крылатому эросу! -Молодая гвардия. № 3. С. 122.
- Коллонтай А. М. 1919. Семья в коммунистическом обществе. Одесса. С. 15.