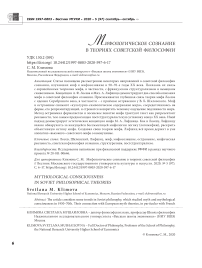Мифологическое сознание в теориях советской философии
Автор: Климова Светлана Мушаиловна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория культуры
Статья в выпуске: 5 (97), 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению некоторых направлений в советской философии сознания, изучавших миф и мифосознание в 50-70-е годы XX века. Показана их связь с европейскими теориями мифа, в частности, с французским структурализмом и немецким символизмом. Концепции А. Ф. Лосева и Мих. А. Лифшица демонстрируют два способа описания мифа в советской философии сознания. Прослеживается глубинная связь теории мифа Лосева с идеями Серебряного века, в частности - с приёмом остранения у В. Б. Шкловского. Миф и остранение снимают «культурно-символическое содержание мира», сосредоточиваясь на форме, его репрезентирующей, и стремятся возвратить человеку ощущение подлинности мира. Метод остранения формалистов и лосевское понятие мифа трактуют текст как репрезентант реальности, тем самым предвосхищая постструктуралистскую установку конца XX века. Иной подход демонстрирует эстетическая концепция мифа М. А. Лифшица. Как и Лосеву, Лифшицу важно обнаружить за кажущейся бессмыслицей мифологии логику (логомифию), раскрыть объективную истину мифа. Создавая свою теорию мифа, Лифшиц всё время держит в уме апологию «высокого» советского мифа о коммунизме.
Лосев, шкловский, лифшиц, миф, мифосознание, остранение, мифическая реальность, советская философия сознания, структурализм, постструктурализм
Короткий адрес: https://sciup.org/144161394
IDR: 144161394 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24412/1997-0803-2020-597-6-17
Текст научной статьи Мифологическое сознание в теориях советской философии
10.24412/1997-0803-2020-597-6-17
Научно-теоретическое изучение мифа началось ещё в XVIII веке. С этого времени мифосознание становится объектом анализа сразу нескольких гуманитарных дисциплин. В философии науки мифу обычно противопоставляется рационально-научный взгляд на мир – «логос», и сам термин «миф» употребляется в пейоративном значении: достаточно упомянуть «миф данного» (Myth of the Given) в эпистемологии и аналитической философии сознания от У. Селларса до Д. Дэвидсона1 или «высшие мифы» (higher myths) математики и физики, о которых писал У. Куайн. «Рассматриваемые изнутри феноменалистической концептуальной схемы, онтологии физических и математических объектов суть мифы. Качество мифа, впрочем, относительно; в данном случае – относительно эпистемологической точки зрения» [30, p. 19].
Вот уже более полувека атаки на позиции классического эмпиризма ведутся под знаменем разоблачения эпистемологической «мифологии». В свою очередь, мы обратимся к некоторым советским концепциям мифосознания, создававшимся в той же концептуальной рамке «мифологическое против рационально-научного» – хотя внешне они имели крайне мало общего с аналитической традицией философии науки и, в отличие от неё, питали куда больше уважения к мифам.
По меткому наблюдению М. А. Лифшица, миф заявляет о себе в ключевые моменты истории народов, оказавшихся в состоянии глубокого духовного кризиса. Это, как правило, периоды смены «мировоззренческих вех», когда столкновение и конфликт между ценностями прошлого и насущными требованиями жизни становится очевидным для широких масс. Исторический миф «гасит» духовный кризис, как правило, при помощи ностальгической идеализации и романтизации прошлого средствами мифологического языка. В настоящей статье мы обратимся к советским концепциям мифа, возникшим в 20–30-е годы прошлого века, в эпоху исторического расцвета нового мифосознания.
Советская философия мифосознания
Послевоенная советская философия мифа представлена самыми разными направлениями и исследованиями. В 1976 году выходит книга Е. М. Мелетинского «Поэтика мифа», представляющая первый крупный историографический текст по изучению мифа в литературоведении. Он опирается на концепцию символической природы мифа и подчёркивает связь мифологии XX века с модернизмом, называя миф «удобным языком описания вечных моделей личного и общественного поведения, неких сущностных знаков социального и природного космоса» [16, с. 9].
Двухтомная энциклопедия «Мифы народов мира», опубликованная в 1980 году под редакцией С. А. Токарева, не просто обобщила накопленный материал; она дала сравнительную картину отечественных и западных исследований в этой сфере.
Изучением мифов и мифологии занимался ряд выдающихся советских лингвистов, филологов и литературоведов, обретавшихся в едином интеллектуальном пространстве с западными мыслителями. Представители тартуско-московской школы, такие как Ю. А. Лотман, М. Л. Гаспаров, В. Н. Топоров, З. Г. Минц, вели свои семиотические исследования параллельно с французскими структуралистами [12].
В текстах А. Ф. Лосева и М. А. Лифшица мы находим многочисленные переклички с Клодом Леви-Строссом, чьи взгляды формировались под влиянием Ф. де Соссюра. В это же время появилась одна из самых известных работ в структурализме – книга Ролана Барта «Мифологии» (1957)1.
Сегодня советский структурализм стал объектом научного переосмысления в нескольких направлениях. Б. М. Гаспаров назвал эту школу «утопией 60-х», существование которой уже давно стало объектом научной деконструкции [4]. Заметим, однако, что для советских гуманитариев эта утопия имела невероятно оживляющий эффект в мире, где господствовала официальная марксистская схоластика.
Как отмечал представитель ростовской философской школы Ю. Е. Климов, «миф, утратив в своё время роль универсального способа мышления, сохранил её в обыденном, политико-идеологическом, художественном, массмедийном и т.д. сознании в качестве некоего “уровня”, “превращённой формы” или “фрагмента”. Доля этих мифологизированных формообразований существенно возросла в XX–XXI веках, которые можно сравнить с временами ми- фологических и идеологических “кентавров” сознания, во многом определяющих жизненные приоритеты современного общества» [5, с. 10].
В советской философии 1950–1970-х годов мифология трактовалась прежде всего как художественно-этическое откровение народной мудрости. Советский марксизм в разговоре о мифологии сохранял пафос «высокого мифа», ибо для него мифы были не только «продуктами народного творчества и фантазии», как говорилось у раннего Маркса, но и особой формой общественного сознания, выполнявшей функции этико-эстетического и мировоззренческого характера.
В 1950-е годы мы практически не находим у идеологов «исторического материализма» специального раздела о мифе как форме общественного сознания [см., например: 2]; о нём писали, как правило, лишь в связи с этнографией и религией. Но уже в 1960-е возникает истолкование мифа как особого рода формации общественного сознания на определённом этапе истории [3]. Миф становится объектом всестороннего философского анализа. Здесь особенно значимы имена М. К. Петрова, Ф. Х. Кессиди. М. А. Лифшица, А. Ф. Лосева, А. В. Потёмкина, М. И. Шахновича и других, в разных аспектах исследовавших феномен мифа и специфику мифосознания.
А. Ф. Лосев: миф и остранение
Лосевская теория мифологии во многом основана на концепции всеединства В. С. Соловьёва, а мифосюжеты её пронизаны идеями П. А. Флоренского. При этом в своих размышлениях философ активно использовал диалектический метод, и это отнюдь не было для него формальной данью советской цензуре.
Крупнейший отечественный исследователь мифосознания, Лосев пострадал за попытку опубликовать книгу «Диалектика мифа» без купюр, оказавшись на строительстве Беломорканала в 1929 году. А. А. Тахо-Годи написала о той истории статью «От диалектики мифа к абсолютной мифологии» [19]. Абсолютной мифологией Лосев назвал один из разделов своей книги; вместе с тем человек 1930-х годов оказался погружен в стихию абсолютного (тотального) мифотворчества.
В целом для Лосева миф – сугубо положительное понятие, которое он противопоставил вымыслу, идеальному бытию, любой метафизике. Его трактовка мифа абсолютно неординарна, даже для нашего времени. Миф для него – подлинная и конкретная реальность, «диалектически необходимая категория сознания и бытия» [11, с. 1].
Лосев возвращается к эпохе символизма, начавшейся с Вл. Соловьёва, и одновременно прокладывает мостик от своей теории символа к кассиреровской [см.: 29; 18]. Символ для Лосева – это единство обозначающего и обозначаемого, символизирующего и символизируемого. Вещи в мифе меняют своё обычное значение и обретают особый символический смысл. «Ковёр – обыкновенная вещь повседневной жизни. Ковёр-самолет – мифический образ. Какая разница между ними? Вовсе не в факте, ибо по факту своему ковёр как был ковром, так и остался. Разница в том, что он получил совершенно другое значение, другую идею; на него стали смотреть совершенно иными глазами» [11, с. 17] (курсив наш. – С. К. ). Такова же и природа символа, замещающего прямое значение слова его смысловой коннотацией.
Кажется, что Лосев вполне академичен в своём анализе мифа. В традициях евро- пейской мифологической школы он рассматривает миф сквозь призму его символической природы. Этот подход роднит его, с одной стороны, с имяславцами, а с другой – с тартуской семиотической школой. Он соглашается с тем, что «каждый миф – символ», но утверждает, что символ лишь тогда становится мифом, когда перестаёт быть знаком. Он видел в мифе саму жизнь, «личность» в её загадочной полноте существования, как наиреальнейшую реальность.
«Запомним раз навсегда: мифическая действительность есть подлинная реальная действительность, не метафорическая, не иносказательная, но совершенно самостоятельная, доподлинная, которую нужно понимать так, как она есть, совершенно наивно и буквально (курсив наш. – С. К. ). Никакой аллегоризм тут не поможет. Аллегоризм есть всегда принципиальное неравновесие между означаемым и означающим ... В мифе же – непосредственная видимость и есть то, что она означает: гнев Ахилла и есть гнев Ахилла, больше ничего; Нарцисс – подлинно реальный юноша Нарцисс, сначала действительно доподлинно любимый нимфами, а потом действительно умерший от любви к своему собственному изображению в воде. Даже если и есть тут какая-нибудь аллегория, то прежде всего необходимо утвердить подлинную, непереносную, буквальную реальность мифического образа, а потом задаваться аллегорическими задачами» [10, с. 162].
Миф – это особый способ видения, «вырывающий вещи из обычного течения ... и погружающий их, не лишая реальности и вещественности, в новую сферу, где выявляется вдруг их интимная связь» [11, с. 93–94]. Этот способ позволяет смотреть на вещи каким-то «иным», нестандартным, необщепринятым взглядом. Благодаря новой опти- ке происходит «вырывание вещи» из культурного контекста и плоского рационализма и помещение её внутрь мифической реальности, как в «новую среду» бытования. Если традиционный взгляд помещает вещь в мир конвенций и общепринятых культурных клише, то новая среда – это сфера сверхъявственного, мистического, чудесного, внутри которого вещь получает свои иные, но не менее подлинные, с его точки зрения, смыслы.
В этот цитате-характеристике мифичности вещи мы усматриваем прямую аллюзию на известный формалистический приём искусства 1920-х годов – «остранение», выдвинутый В. Б. Шкловским в его знаменитом манифесте русского формализма1. То, что Лосев назвал мифичной отрешённостью и мировосприятием мира, соотносится с тем, что Шкловский назвал остра-нением. Миф и остранение становятся двумя, противоположными по форме, но схожими по сути приёмами деконструкции и переописания реальности. Лосев, подобно русским формалистам, убирает «процессы восприятия и мышления из их конвенционального прагматического контекста и рассматривает [миф] как имманентный феномен» [22, с. 14].
Остранение как специальный художественный приём заставлял читателей смотреть на всем известное (мир культуры / конвенций, автоматическое узнавание), как на увиденное впервые. Цель остранения, по Шкловскому, новое формальное (авангардное) искусство, которое должно перестать быть реалистическим, символическим, аллегорическим; перестать нести бре- мя культурных (читай – ложных) стереотипов. «И вот для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи для того, чтобы делать камень каменным, существует то, что называется искусством» [25, с. 6]. Шкловский в момент создания своего манифеста находился под влиянием трактата Толстого «Что такое искусство» (1897) [21], а именно – его рассуждений о роли и значении искусства для жизни. В трактате отражены две тенденции, ставшие объектом дискуссий первой половины ХХ века: искусство как автономная область эстетического сознания с его приматом удовольствия и красоты, и искусство как этика, как схватывание религиозного народного мировоззрения, «среди которого оно возникло».
Шкловский в более ранней статье потребует вернуть ощущение первозданной подлинности любому слову, перестать его «узнавать» и начать его «видеть» как будто впервые. Формалисты попытались разоблачить все законы стереотипизации сознания, заставить людей видеть и понимать мир по-своему – уникально. Но чтобы оживить слово, увидеть новую форму за старыми клише, надо, по Шкловскому, совершить неожиданное: «разломать и исковеркать слово» и деконструировать форму, заставить смотреть на то и другое новым взглядом. «Другой взгляд» дарит нам искусство. Самое поразительное, что это может быть как реалистическое, так и авангардное искусство [23].
В XXI веке эти требования неожиданно обернулись своей обратной стороной. Как тонко заметил М. Эпштейн, таким «разломанным образом» увиденная вещь, как правило, ведёт не к её оживлению, а к её окончательному умерщвлению [27].
Русские формалисты пытались свести многообразие окультуренного мира к неким формализованным, схематичным характеристикам-описаниям. Они стремились разломать «плоть» слова, связанную и с символизмом, с культурными и историческими коннотациями, и показать суть «каменистости» камня, её формализованное ядро, её этимологическую «чистую» первооснову.
Миф Лосева точно так же направлен на видение вещей «по-новому» и на критику их автоматического восприятия. Но это, как бы, требование «наоборот»: всему самому прозаическому и обыденному необходимо, с его точки зрения, придать статус особой мифической реальности. Миф есть принципиальное неостранение (термин О. Меерсон) материального (вещи) от всего идеального – чудесного, сказочного, обнаруживаемого в вещах или мире. Он, так же как и Шкловский, принуждает читателя сделать условное, непонятное, чудесное, сверхъестественное – безусловным и реальным основанием вещи, назвать мифическую реальность – «напряжённой реальностью». Если формалисты пытаются добраться до «скелета» вещи и тем самым борются с окультуренным содержанием, то миф Лосева направлен на то, чтобы надеть на вещь сотни волшебных одёжек и растворить форму в многослойном диалектическом противоречии.
По сути, миф и остранение – это два противоположных приёма неавтоматического вглядывания в мир. Устраняя «культурно-символическое содержание мира», сосредоточившись на форме, его репрезентирующей, они возвращают человеку ощущение подлинности мира в этом остранён-но-вещно-мифотворческом акте. Метод остранения приводит к тому, что художественный текст обретает в итоге статус реальности, став в XX веке особым объектом постструктуралистского анализа.
Очевидно, что и миф Лосева, так же как и остранение, выступает новой формой искусства, претендуя быть эстетической репрезентацией реальности. «Для Лосева философия, эстетика, мифология – плоды одного дерева» [20, с. 7].
Миф Лосева, как и остранение Шкловского, производит деавтоматизацию реальности, понуждает человека преодолеть стереотипность видения и понимания мира, навязываемую ему традиционными формами знания, стандартной культурой и формальной логикой. Их схожесть обнаруживается уже в одинаковом противопоставлении остранения/мифа и поэзии. Шкловский разоблачает идею восприятия поэзии как «мышления образами», показывает, что поэзия использует образы-символы лишь для усиления впечатления, но не как принцип мышления или познания реальности. Точно так же и Лосев отмечает в поэзии «отрешённость от факта или реальности», а в мифе – «отрешённость от смысла, от идеи повседневной и обыденной жизни. По факту, по своему реальному существованию действительность остаётся в мифе той же самой, что и в обычной жизни, и только меняется её смысл и идея» [11, с. 94]. Очевидно, что миф заставляет верить в реальность идеального прямо и непосредственно. Безусловно, здесь Лосев развивает идеи платонизма, оказавшиеся весьма востребованными в русском Серебряном веке.
То, что было Шкловским названо толстовским «наивным взглядом», позволявшим через остранение заниматься денонсированием иллюзорной окружающей реальности, Лосев осуществил через миф, рассмотрев его как новую гносеологию , преодолевающую плоскость обыденного реализма – в том числе советского диамата с его «теорией отражения».
Таким образом, остранение и миф в 20-е годы XX века оказались двумя немарксистскими приёмами описания реальности, иносказательно разоблачая идеологию тогдашней культуры и философии. Как Шкловский находился в конфронтации с идеологами марксистского подхода в литературе, так и Лосев своей диалектикой мифа никого не ввёл в заблуждение «марксистскими словами и понятиями». В логике мифа открывалось то же самое, что и в логике платонизма, которую он изящно воссоздавал от «имени диамата» [14, с. 210].
В итоге Лосев сформулировал логос мифа, описывающий мифическую действительность с разных сторон, в том числе с точки зрения эстетики. В этом пункте он оказывается незримым собеседником и оп- понентом другого знаменитого советского теоретика мифа – М. А. Лифшица.
М. А. Лифшиц – миф и искусство
Будучи марксистом по своим взглядам, Лифшиц исследовал мифологию и в гносеологическом плане, и как эстетический феномен. При этом он ищет пути рационализации мифа, обнаруживая своеобразную «диалектическую связь» с идеями Э. Кассирера и структурализма К. Леви-Стросса.
Лифшиц борется за «рациональное» в мифе, оппонируя кассиреровскому символическому миру. Действительно, с общепринятой точки зрения, «символизм мифа восходит, по Кассиреру, к тому, что конкретно-чувственное (а мифологическое мышление именно таково) может обобщать, только становясь знаком, символом ...» [17, с. 18]. Лифшиц указал, что символы, в отличие от мифа, этически нейтральны, формальны, никакого общественного сознания они не отражают. Миф же, с его точки зрения, наполнен моральными и воспитательными характеристиками, он служит скреплению общества, его самосохранению. В этом советский философ и находит главное предназначение мифа. Лифшиц категорично заявляет, что «любые символы духовно-практического сознания – обряды, церемонии, схемы личного поведения – всё это может превратиться в тёмную силу “исторического бреда”» [8, с. 343] при абсолютизации их иррациональной сути.
Лифшиц видит большую опасность как в символической теории Кассирера, так и в придании исключительной роли в мифе символизации. Чтобы указать на своё, особое мнение, Лифшиц – как нам кажется, опять-таки не без влияния Лосева1 – вводит авторское понятие логомифии, снимая с себя упрёки в иррационализме и споря с символизмом мифомышления.
Из французов ему был ближе К. Леви-Стросс с его теорией о единой логике человечества, в том числе и первобытной. И эта близость оказывается неожиданно более тесной, чем его связь с марксизмом.
Парадокс в том, что, будучи противником всякого формализма, в том числе и структурного изучения мифов, Лифшиц тем не менее именно в структурной типологии Леви-Стросса увидел подтверждение гегелевской идеи всеобщего восхождения мышления от низшего к высшему, от абстрактного к конкретному. «... После почти столетия насмешек над “дикарём-философом” Леви-Стросс доказал способности дикарей, les sauvages, к абстрактному мышлению» и обобщениям [8, с. 367]. Однако, по мнению советского философа, француз преувеличил значимость собственных «математических открытий», формализации первобыт- ной логики, выплеснув с «водой и ребёнка», якобы забыв, что страшная последовательность логики и схематизм есть синоним её полного недостатка и отрицания.
При этом анализ мифа у Лифшица, построенный на основе генетического метода, описан через бинарный код, характерный для структуры всех мифов мира . Этот код был открыт именно Леви-Строссом. Оппозиция высокого и низкого, возвышенного и карнавального, священного и уродливого, «культурного героя» и «трикстера», представленная в художественном творчестве древних народов, не просто фантастическое отражение реальности, но – доказательный способ вполне логического её объяснения. Для Леви-Стросса важны были не только бинарные оппозиции, но и медиаторы, посредством которых одна пара противоположностей заменяется парой менее выраженных оппозиций и т.д., а последняя в итоге заменяется символической фигурой трикстера. Такая логика ведёт к преодолению амбивалентности и бриколажу, делая миф произвольным или субъективным образованием.
С точки зрения Лифшица, в логоми-фии осуществляется синтез противоположных моментов мифомышления. Логоми-фия, с одной стороны, демонстрирует преодоление иррационального – бредового начала в жизни древних обществ, соотнося его с рациональным или смысловым содержанием мифообразов и сюжетов, а с другой – явно намекает на противоречия, кризис рационализма и прагматизма XX века, в своём «действительном господстве» беспощадно разрушавших гармонию и духовное единство природы, космоса и человека. Логос мифа древних как бы обнажает и наступивший кризис современной идеологической машины, сначала жившей в высо- ком мифе, а потом превратившей и чувства, и веру людей в «исторический бред» реальных войн, лагерей, массового устрашения и безмолвия.
Таким образом, Лифшиц анализирует не только исторические, но и идеологические мифы. Он поддерживает высокий миф людей тридцатых годов о коммунизме, о новой России, о беспредельности человеческих сил и возможностей, утверждая, что без этой утопической веры в идею и в нового человека сознание масс вряд ли было бы так хорошо подготовлено к сопротивлению в Великой Отечественной войне и даже к «оттепели», ставшей её духовным итогом.
Противопоставил же он им «героев 60-х» – модернистов, творцов нового искусства и нового, антисоветского мифа. Современность назвала их «жертвами» хрущёвского самодурства. Знаменитая «бульдозерная выставка» молодых художников-абстракционистов стала нарицательным символом затхлого советского времени. Кажется, что, критикуя модернистов, Лифшиц на стороне ретроградов и власти. Но его философская позиция была основана не на субъективных или конъюнктурных соображениях, а на убеждении в своей правоте и правоте коммунистической идеи. Для Лифшица авангардные художники-шестидесятники – просто люди с дурным вкусом, для которых форма практически полностью съедает содержание. Их кумиром становится не красота, а безобразие, не истина, а ложь, не добро, а зло, доведённое до полного апогея «надизма», «ничего» или, как он пишет, ничевочества.
В 1966 году Лифшиц в «Литературной газете» опубликовал свой знаменитый эпатажный манифест с говорящим заглавием: «Почему я не модернист?» (текст на- писан был в 1963 году), в котором не просто резко обрушился на новое искусство, но и показал, что оно является разновидностью западного иррационализма, в котором можно найти основы для вдохновения в чём угодно, даже в фашистской мифологии. «Вы хотели витальной силы, вы пресытились цивилизацией, вы бежали от разума в тёмный мир инстинктов, вы презирали массы в её стремлении к элементарным основам культуры, вы требовали от боль- шинства слепого подчинения иррациональному зову сверхчеловека? Ну что ж, получите всё, что вам причитается» [9, с. 189]. Дерзость статьи была настолько ошеломляющей, что ей оппонировали десятки учёных; среди них были и такие выдающиеся фигуры, как Д. С. Лихачёв, Г. С. Померанц и другие. Лифшиц не принял их аргументов [7, с. 172], оставаясь упрямым «полезным ископаемым марксистом» в своих убеждениях. Своё требование соответствия художественной формы истинному содержанию он рассматривал как единственно верный способ реализации принципа подлинности в искусстве [13, с. 184]. Осуждая модернизм, Лифшиц отмечает, что сознание художника такого типа настолько изощрено, он настолько боится мысли, что в итоге сводит искусство к «реальности голого факта» [9, с. 26], превращая феномен в подлинное содержание культурного объекта.
С точки зрения Лифшица модернизм в искусстве – это форма приспособления человека к условиям «отчуждённого мира». В этом тезисе неожиданно также слышится отголосок разговора об остранении. Если Шкловский требовал вернуть вещи её изначальный, первозданный смысл, рождаемый в процессе её сотворения, то Лифшиц считал, что модернизм практически уничтожа- ет в вещах всякий смысл, лишая целостности и самодостаточности осмысляемое. Настоящее искусство должно способствовать воспитанию нравственных идеалов. Это делает и художественный миф.
Наконец, мифология даёт человеку бесценный урок свободы , служит противоядием от фаталистического смирения перед «наличным бытиём». «Везде, где человек детского мира встречает перед собою “стену” (говоря словами Достоевского), он обращается к мифу как царству свободы , рассказу о свободной основе всех вещей, опутанных в его положении сетью необходимости. Миф есть именно царство свободы, которое люди находят только в своей фантазии и не находят в сером свете будничного существования» [8, с. 413, 414].
Итак, Лифшиц не считает миф ни аллегорией, ни системой знаков, ни символом, но целостным, главным образом этико-эстетическим отражением реальных духовно-жизненных ситуаций, схватывающих целостность смыслов через систему художественных образов.
Лифшиц был уверен, что «разоблачение» коммунистического мифа, его подмена модернистским суррогатом означало распад общественных отношений и одновременно деформацию человека, подчинившего свою жизнь не идеальным законам жизни, но законам «надизма» и мещанства. В этой вере отражён авторский миф и самого М. А. Лифшица.
Заключение
Изучение мифа в советской философии велось в разных направлениях – феноменологическом, гносеологическом, психологическом [6]. В статье, с одной стороны, показана глубинная связь теории мифа А. Ф. Лосева с идеями Серебряного века и выявлена немарксистская методологическая почва данной трактовки советской философии мифа: платонизм, приём остранения В. Б. Шкловского. Остранение и миф рассмотрены как два способа репрезентации «бытия», не только не определяющего сознание, но и напрямую от него зависимого.
С другой стороны, «высокий» советский миф этически и эстетически консолидировал массы вокруг гуманистического идеала всесторонне и гармонично развитой личности и общества, в котором «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех» (Маркс). Эту сторону дела выразил в своём творчестве М. А. Лифшиц, прежде всего проводя параллель между высокой мифологией античного и советского периодов.
Анализ современных форм мифосозна-ния при помощи философско-методологического инструментария, разработанного этими двумя мыслителями, способен значительно углубить наше понимание культуры, в которой мы живём, и помочь выработать рационально-научное отношение к действительности, необходимо включающее в себя «импульс мифа».
Список литературы Мифологическое сознание в теориях советской философии
- Зенкин С. Н. От Тарту до Парижа (Заметки о теории) // Новое литературное обозрение. 2019. № 6 (160). С. 336-347.
- Келле В., Ковальзон М. Формы общественного сознания. Москва : Политическая литература, 1959. 263 с.
- Кессиди Ф. Х. От мифа к логосу. Становление греческой философии. Москва : Мысль, 1972. 312 с.
- Ким Су Кван. Основные аспекты творческой эволюции Ю. М. Лотмана: «иконичность», «пространственность», «мифологичность», «личностность». Москва : НЛО, 2003. 176 с.
- Климов Ю. Е. Импульс мифа. Борисоглебск : БГПИ, 2011. 120 с.
- Косарев А. Ф. Философия мифа. Москва : Университетская книга, 2000. 303 с.
- Кузнецова Е. В. Этическое, гносеологическое, эстетическое в советской философской публицистике (1960-е - 1985) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. 2014. № 4. С. 166-174.
- Лифшиц М. А. Античный мир, мифология, эстетическое воспитание. Партийность и реализм // Сочинения : в 3 томах. Москва : Изобразительное искусство, 1988. Том 3. 563 с.
- Лифшиц М. А. Почему я не модернист? // Лифшиц М. А., Рейнгардат Л. Кризис безобразия. От кубизма к поп-арт. Москва : Искусство, 1968. С. 187-200.
- Лосев А. Ф. Диалектика мифа. Москва : Правда, 1990. 147 с.
- Лосев А. Ф. Философия имени // Из ранних произведений. Москва : Правда, 1990. С. 11-195.
- Лотман Ю.М. О структурализме: работы 1965-1970 годов. Таллинн : Изд-во ТЛУ, 2018. 518 с.
- Мареев С. Н., Мареева Н. С. Лифшиц о модернизме // Михаил Александрович Лифшиц / Институт философии РАН, Некоммерческий научный фонд «Институт развития имени Г. П. Щедровицкого» ; под редакцией В. Г. Арсланова. Москва : РОССПЭН, 2010. С. 174-215.
- Мареева Е. В., Мареев С. Н. Проблемы мышления: созерцательный и деятельностный подход. Москва : Академический проект, 2013. 280 с.
- Меерсон О. Апокалипсис в быту. Поэтика неостранения у Андрея Платонова. Москва : Гранат, 2016. 362 с.
- Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. Москва : Наука, 1976. 407 с.
- Мелетинский Е. М., Токарев С. А. Мифология // Мифы народов мира. Энциклопедия : в 2 томах / главный редактор С. А. Токарев. Москва : Советская Энциклопедия, 1987. Том 1. А-К (Корейская мифология). С. 10-16.
- Оболевич Т. От имяславия к эстетике. Концепция символа Алексея Лосева. Историко-философское исследование. Москва : ББИ, 2014. 443 с.
- Тахо-Годи А. А. От диалектики мифа к абсолютной мифологии // Вопросы философии. 1977. № 5. С. 168-175.
- Тахо-Годи А. А. «История античной эстетики» А. Ф. Лосева как философия культуры // Лосев А. Ф. История античной эстетики : [в 8 томах]. Москва : АСТ ; [Харьков] : Фолио, 2000-. [Том 1] : Ранняя классика. 2000. С. 3-40.
- Толстой Л. Н. Что такое искусство // Полное собрание сочинений : в 90 томах / под общей редакцией В. Г. Черткова. Москва ; Ленинград : Художественная литература, 1934-1958. Том 30. С. 27-207.
- Ханзен-Лёве О. А. Русский формализм. Методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения. Москва : Языки русской культуры, 2001. 669 с. (Studia philologica).
- Шкловский В. Б. Воскрешение Слова. Санкт-Петербург : Типография З. Соколинского, 1914. 16 с.
- Шкловский В. Б. Искусство как приём // Сборники по теории поэтического языка. Петроград : Типография З. Соколинского, 1916-1923. Выпуск 4. Опояз. 1921. С. 15-23.
- Шкловский В. Б. О теории прозы. Москва : Советский писатель, 1983. 384 с.
- Эйхенбаум Б. М. Теория «формального метода» // Литература: Теория. Критика. Полемика. Ленинград : Прибой, 1927. С. 116-148.
- Эпштейн М. Н. Иронии идеала. Парадоксы русской литературы. Москва : НЛО, 2015. 384 с.
- Davidson D. (2001) Subjective, Intersubjective, Objective. Oxford: Oxford University Press.
- Klimova S. (2016) Mikhail Lifshits' logomythy: "the art of discrimination". Studies in East European Thought. Vol. 68, no. 4 : 283-293.
- Quine W. V. (1963) From a Logical Point of View. 9 Logico-Philosophical Essays. New York: Harper & Row.