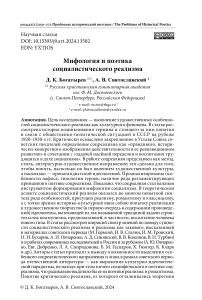Мифология и поэтика социалистического реализма
Автор: Богатырев Д.К., Святославский А.В.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.22, 2024 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования - выявление художественных особенностей социалистического реализма как культурного феномена. В статье рассмотрена история возникновения термина и стоящего за ним понятия в связи с общественно-политической ситуацией в СССР на рубеже 1920-1930-х гг. Критически осмыслено закрепленное в Уставе Союза советских писателей определение соцреализма как «правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии» в сочетании с «задачей идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма». В работе соцреализм представлен как метод, стиль, литературно-художественное направление; это сделано для того, чтобы понять, насколько он был явлением художественной культуры, а насколько - пропагандистской идеологемой. Проанализированы особенности пафоса, типологии героев, наличие ряда регламентирующих принципов в поэтике соцреализма. Показано, что соцреализм стал важным инструментом формирования мифологии социализма. В теоретическом аспекте социалистический реализм оказался во многом попыткой синтеза ряда особенностей, присущих реализму, романтизму и классицизму, а с точки зрения историко-культурной явил собою попытку реализации в художественном творчестве (в первую очередь в содержании произведений) идеологемы, вытекающей из так называемой триединой задачи строительства коммунизма, предполагавшей, в частности, воспитание человека нового типа. В статье рассмотрен широкий спектр мнений по поводу сущности социалистического реализма и реализма как такового, высказанный в материалах советского периода (М. Горький, И. В. Сталин, И. М. Гронский, Н. И. Бухарин, А. И. Овчаренко, А. Д. Синявский, В. В. Кожинов, В. Н. Турбин) и в работах современных исследователей в России и за рубежом (А. Ю. Овчаренко, Евг. Добренко, Л. А. Спиридонова, Б. М. Гаспаров, Х. Гюнтер, К. Кларк и др.). Авторы статьи приходят к выводу о возможности выделения особенного соцреалистического направления и этапа в рамках советского периода отечественной литературы - как выражения культурно-идеологической парадигмы, не находя при этом ничего специфического в поэтике соцреализма, что радикально выделяло бы ее из поэтики реализма и романтизма. Понятие критического реализма, от которого отталкивались теоретики соцреализма для обоснования нового метода по принципу от обратного, видится сегодня избыточным с точки зрения теории литературы.
Поэтика, мифология, советская литература, социалистический реализм, критический реализм, романтизм, классицизм, пафос, творческий метод, положительный герой, отрицательный герой
Короткий адрес: https://sciup.org/147243491
IDR: 147243491 | DOI: 10.15393/j9.art.2024.13502
Текст научной статьи Мифология и поэтика социалистического реализма
Ф еномен социалистического реализма, который должен был получить всестороннее обоснование по итогам Первого
Всесоюзного съезда советских писателей (1934), вызывает и сегодня немало вопросов именно по причине так и не выработанного в советском литературоведении вполне корректного научного определения. Закрепленное в Уставе Союза советских писателей определение соцреализма как метода, предполагающего «правдивое, исторически-конкретное изображение действительности в ее революционном развитии»1, звучало слишком размыто и не давало возможности однозначно определить специфику нового метода по отношению к существующим реализму и романтизму. Уже в 1971 г. в изданном ИМЛИ им. А. М. Горького РАН двухтомнике «Проблемы художественной формы социалистического реализма» признавалось, что «все попытки дать однолинейное определение социалистического реализма при помощи замкнутой раз навсегда формулы не увенчиваются успехом, ибо социалистический реализм — сложное, развивающееся, живое явление» [Мясников: 15].
Для современного исследователя остается нерешенным вопрос о том, существовал ли все-таки социалистический реализм как метод — таким, каким он декларировался на писательском съезде? И если да, то не нуждается ли он в ином, более корректном названии? Например, можно ли использовать термин «романтический реализм», в том смысле, в каком его понимал Горький, или в данном случае это не метод, а некая культурная парадигма, связанная с особого рода мировоззрением? Так или иначе, можно исходить из того, что к 1930-м гг. в отечественной литературе формируется новое направление, отличное от русской литературы предшествующих лет, что уже в те годы признается многими. Однако оценки художественной значимости этого явления принципиально расходились в СССР и за рубежом, в том числе в работах авторов русского зарубежья.
Из письма Горького Р. Роллану (27 ноября 1932 г.) следует, что поначалу создатели нового метода предполагали выбрать что-то из уже существующих терминов:
«В литературе новаторы не так заметны, — информирует Горький по итогам поездки в СССР, — но и здесь идут упорные поиски новых форм и методов. Все чаще раздаются голоса молодых о том, что реализм не в силах отражать современную действительность, но не удовлетворяет ее и романтизм, особенно же — стиль Шиллера и В. Гюго»2.
«Споры шли не только о том, — пишет А. Ю. Овчаренко, — как обновляется реализм в новых условиях, шел и поиск определения, которое могло бы закрепить его новое качество: "монументальный реализм" (А. Н. Толстой), "социальный реализм" (А. Луначарский), "неореализм" (А. Воронский), "диалектический реализм" (А. Лежнев), "романтический реализм" (В. Полонский), "синтетический реализм" (Д. Горбов) и т. д. Но в праве на существование именно реализма сомнений почти не было. Перевальцы, как и большинство их современников-писателей, были убеждены, что будущее искусство должно быть реалистическим» [Овчаренко А. Ю.: 101].
По воспоминаниям И. М. Гронского, председателя Оргкомитета по подготовке Первого Всесоюзного съезда советских писателей, именно он первым предложил И. В. Сталину назвать основанную на новых принципах литературу «пролетарским социалистическим», а еще лучше «коммунистическим реализмом», и тогда Сталин одобрил вариант «социалистический реа-лизм»3. В воспоминаниях передан ход мысли Сталина:
«Стоит ли нам в определении творческого художественного метода, который должен объединить всех деятелей советской литературы и искусства, специально оговаривать и даже подчеркивать пролетарский характер советской литературы и искусства? Мне думается, большой нужды в этом нет. Указание на конечную цель борьбы рабочего класса — коммунизм — тоже правильно. Но ведь мы пока не ставим в качестве практической задачи вопрос о переходе от социализма к коммунизму…»4.
Гронским же была впервые озвучена идея нового метода для широкой аудитории, когда 23 мая 1932 г. в «Литературной газете» было опубликовано его выступление на собрании актива литкружков Москвы. Гронский, в частности, сказал:
«— До последнего времени очень много писалось деклараций, много разговаривали о методах, но разговаривали схоластически, абстрактно. Было очень много группочек, но мало творческого соревнования. А надо больше заниматься литературой, творчеством. Вопрос о методе нужно ставить не абстрактно, не подходить к этому делу, так что писатель должен сначала пройти курсы по диалектическому материализму, а потом уже писать. Основное требование, которое мы предъявляем к писателям, — пишите правду, правдиво отображайте нашу действительность, которая сама диалектична. Поэтому основным методом советской литературы является метод социалистического реализма»5.
Первоначально попыткой навязать единый метод литературе отметился РАПП: у рапповцев фигурировал термин «диалектический метод», против которого возразил Сталин. Выступая 20 октября 1932 г. в узком кругу литераторов в квартире Горького, он остановился на двух видах романтизма, один из которых — побуждающий к действию , — дескать, полезен для советской литературы. Вождь сделал вывод о том, что «революционный социалистический реализм для нашей эпохи должен быть главным, основным течением в литературе. Но этим не исключается использование писателем и метода романтической школы. Надо только знать — когда, к чему и как применить тот или иной метод»6.
В итоге, в Уставе Союза советских писателей было определено:
«Социалистический реализм, являясь основным методом советской художественной литературы и литературной критики, требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии. При этом правдивость и историческая конкретность художественного изображения действительности должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма»7.
Глядя на специфику исторического момента в СССР тех лет, становится очевидно: попытка дать определение новому методу исходила из принципа «от обратного» — пытались оттолкнуться и оторваться от представления о т. н. «критическом реализме». Считается, что термин «критический реализм» вошел в обиход благодаря Горькому. Действительно, мы находим этот термин в нескольких письмах и выступлениях Горького, начиная с конца 1920-х гг. Так, в переписке 1933 г. с Ефимом Добиным, назначенным заместителем главного редактора журнала «Литературная учеба», читаем:
«"Буржуазно-дворянский реализм" был критическим реализмом у Стендаля, Бальзака, Толстого. Именно за это — за критицизм, выраженны й в образной форме, — Ленин одобрял Толстого,
Энгельс — Маркс одобряли Бальзака. Наш реализм имеет возможность и право утверждать , его критика обращена на прошлое и отражение прошлого в настоящем. А основная его задача — утверждение социализма путем образного изображения фактов, людей и взаимоотношений людей в процессах труда »8.
Впоследствии советское литературоведение использовало эту мысль, так что главное отличие социалистического реализма от критического сводилось к тому, что критический реализм развенчивал и ниспровергал буржуазную реальность, а социалистический утверждал новую реальность, новый тип отношений в обществе. Таким образом, можно говорить о противопоставлении пафоса отрицания и пафоса утверждения как о принципиальных характеристиках, составляющих основу данной бинарной оппозиции. Тем не менее условность такого деления бросалась в глаза. Весьма своеобразное и небесспорное мнение на этот счет высказывал В. В. Кожинов, когда писал, что произведения европейского критического реализма не подпитаны общественным идеалом, а именно он является характерной чертой русского реализма 1840–1870-х гг.: «Ставя вопрос о смене, взаимодействии и борьбе направлений в русской литературе XIX века, я отдаю себе ясный отчет в том, что границы этих направлений более или менее условны и что невозможно целиком ввести творчество (и даже отдельный период творческого развития) того или иного — особенно великого — художника в русло определенного направления. Но для меня столь же ясно, что концепция, согласно которой все развитие русской литературы от зрелого Пушкина до Бунина протекает в рамках критического реализма, — ошибочна и неплодотворна. С типологической точки зрения, творчество Пушкина вполне соответствует тому, что мы называем ренессансным реализмом, Гоголя — барокко, Герцена и Тургенева — просветительскому реализму, Достоевского — романтизму и т. д.» [Кожинов: 124]. Сегодня многие литературоведы принципиально отказываются от термина «критический реа лизм», понима я, что он возник из большого желания новаторов
1930-х гг. противопоставить соцреализм литературе Запада и буржуазной России прошлого.
Также возникает вопрос, насколько русский реализм XIX в., относимый теоретиками 1930-х гг. к критическому, был ограничен пафосом ниспровержения пороков социальной жизни, и не более того. В. Н. Захаров, говоря о социально-психологическом и историческом детерминизме реализма XIX в., отмечает наличие в лучших образцах русской классики особого духовного пласта бытия, приобретающего характер обращенности к трансцендентному — как источнику высшей системы ценностей. Тогда «за социальными, психологическими и историческими явлениями во многих произведениях русской литературы стоит иной план бытия, иная концепция действительности» [Захаров: 8]. Таким образом, обращение к высшей (не классовой или конкретно-идеологической) системе ценностей позволяет говорить о наличии утверждающего начала в русской классике XIX в., причем конкретно — православного начала.
С другой стороны, признанная в свое время образцом социалистического реализма «Жизнь Клима Самгина» Горького со своим первоначальным названием «История пустой души» — в первую очередь воспринимается как критическое изображение и облика главного героя, и вскормившей его среды.
В одной из последних работ Л. А. Спиридонова утверждала, что сам Горький, объявленный отцом-основателем нового метода, всячески склонялся в сторону понимания его как романтического реализма, при том, что словосочетание «социалистический реализм» охотно употреблял: «…можно сказать, что его понимание нового метода не совпадало с официальным. <…> До самой смерти Горький так и не дал четкой формулировки нового метода советской литературы, называя его чаще всего социалистическим романтизмом. <…> Можно сказать, что к тому догматическому пониманию социалистического реализма, который превратился после смерти Горького в пугающий жупел в итоге информационной войны между СССР и зарубежными странами, он не имел никакого отношения» [Спиридонова: 119–120]. В то же время исследовательница полагала, что Горький может считаться основателем — но не метода, а художественного направления в русской литературе первой половины XX в. По ее мнению, он стал «зачинателем литературного направления, которое сегодня чаще всего называют "новым реализмом", а в живописи даже "романтическим реализмом"» [Спиридонова: 120].
Горькому было доверено сформулировать принципы нового метода на Первом Всесоюзном съезде советских писателей, однако фактически он и здесь обращается к любимому им романтизму, причем опираясь на понятие «мифа», несущего негативные коннотации в рамках советского идеологического дискурса тех лет (незадолго до этого за книгу «Диалектика мифа» пострадал А. Ф. Лосев): «Миф это вымысел. Вымыслить — значит извлечь из суммы реально данного основной смысл и воплотить в образ — так мы получили реализм. Но если к смыслу извлечений из реально данного добавить — домыслить, по логике гипотезы — желаемое, возможное и этим еще дополнить образ, — получим тот романтизм, который лежит в основе мифа и высоко полезен тем, что способствует возбуждению революционного отношения к действительности, отношения, практически изменяющего мир»9.
Нельзя не согласиться с Е. А. Добренко, обратившим внимание на то, что «отношения между соцреализмом и революционным романтизмом всегда оставались сложными и непроясненными, поскольку со времен РАППа последний прочно ассоциировался с "реакционным идеализмом", субъективизмом, агностицизмом и мистикой. Реализм, напротив, — с прогрессизмом и материализмом. Между тем понять соцреализм, в основе которого лежит "жизнь в ее революционном развитии", без "романтического" компонента невозможно» [Добренко: 572].
Впрочем, и в советское время высказывалось мнение не только о сосуществовании романтизма и соцреализма, как это прозвучало у Сталина в беседе с литераторами 20 октября 1932 г., но и о расширительном понимании соцреализма. А. И. Овчаренко писал в 1960-х гг. о том, что соцреализму не противопоказаны «ни романтическая, ни условная форма, ни фантастика, ни сказочность, ни гротеск, ни различные деформации, если они способствуют, помогают писателю глубже, тоньше, вернее, выразительнее воссоздать картину действительности в ее сложнейшем превращении из настоящего в будущее» [Овчаренко А. И.: 158].
Во главу угла литературы соцреализма может быть поставлен героический пафос, которого, впрочем, не лишен и романтизм — это зачастую приводило к путанице при попытке развести понятия «социалистический реализм» и «революционный романтизм». Ставя в пример советским литераторам роман В. Я. Зазубрина «Горы», Горький писал:
«Наш реализм должен быть именно героико-эпическим, для того, чтоб художественно преодолеть "золаизм" и натурализм и дать подлинно художественное отображение действительности»10.
Героический пафос предполагает создание определенного типа героев, связанных с революционными, трудовыми или боевыми подвигами. В ряде случаев их деятельность может быть отмечена жертвенностью: жертва во имя революции, во имя светлого будущего, во имя социалистической родины. Это относится уже к горьковской повести «Мать» (1906), к героям «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского, «Молодой гвардии» А. А. Фадеева. Героическими личностями, посвятившими себя делу революции, предстают Чапаев в одноименном романе Д. А. Фурманова, Павел Корчагин у Николая Островского («Как закалялась сталь»). Образ героя-вождя дан А. С. Серафимовичем в образе Кожуха («Железный поток»), А. А. Фадеевым в образе Левинсона («Разгром»). Однако при этом важно было показать и героизм масс, так, например, А. Г. Малышкин в процессе работы над повестью «Падение Даира» исключил из нее специально посвященную командарму М. В. Фрунзе главу, перенося акцент на образ народа. Однако как таковая тема жертвенности в литературе не является изобретением соцреализма.
Важной чертой поэтики произведений, традиционно относимых к социалистическому реализму, является пафос преобразования, пафос труда. Литература призвана была помочь реализовать триединую задачу строительства коммунизма: формирование материально-технической базы, формирование нового типа общественных отношений, формирование нового человека. Возникает определенная динамика в изображении характеров, когда, наряду с примерно-образцовыми фигурами, изображаются характеры, которым предстоит внутренняя перестройка в овладении новой идеологией. Среди таких «отстающих» могут быть как герои, несущие отпечаток старой, буржуазной, России, так и носители т. н. «левацкой» и анархической идеологии.
По-видимому, начало «производственной тематике», ставшей одной из важнейших в советской литературе, было положено романом Федора Гладкова «Цемент», где, при всем разнообразии характеров, сюжет строится вокруг трудового лидера Глеба Чумалова, организовавшего восстановление цементного завода. Примечательно, что роман, написанный в 1922 г. и опубликованный в 1925 г., иногда назывался первым произведением прозы соцреализма в СССР, правда, он дорабатывался автором в последующих изданиях в соответствии с требованиями, предъявленными к советской литературе после Первого Всесоюзного съезда советских писателей. М. М. Голубков в качестве главной характеристики героя нового типа отметил его позитивную социальную активность: «…становление "нового реализма" выделило имена Л. Леонова, А. Фадеева, А. Толстого, К. Федина, М. Шолохова и др. В их творчестве формировалась новая концепция личности: не только характер испытывает на себе воздействие "среды" ("среда заела"), но утверждается способность личности влиять на среду, преобразуя ее» [Голубков: 248]. Записывая в дневник впечатления от работы Первого съезда советских писателей, Пришвин заметил:
«Съезд похож на огромный завод, на котором загадано создать в литературе советского героя…»11.
Постепенно в произведениях социалистического реализма складывается определенная типология характеров. Положительный герой является носителем правильной партийной идеологии, чаще всего — выходцем из рабочих, городских низов, или из революционеров эпохи подполья. Отрицательный герой или прямо олицетворяет собою буржуазную, мещанскую, дворянскую, прежнюю крестьянскую культуру, или несет на себе отпечаток этого «темного» прошлого. Очень характерно выстроена типология образов в «Поднятой целине» М. А. Шолохова: «двадцатипятитысячник», бывший революционный матрос Семен Давыдов являет собою полное торжество большевистской идеи, более умеренно (не лишен недостатков) выглядит второй положительный герой — предисполкома Андрей Раз-метнов, а секретарю гремяченской партячейки Нагульнову еще предстоит работа по избавлению от того, что мешает ему в формировании личности сознательного проводника правильной линии партии. Юмористически представленный дед Щукарь — тип селянина, сочувствующего новой власти, а бывшему есаулу белогвардейцу Половцеву отведена роль главного отрицательного персонажа, вставшего помехой на пути социалистических преобразований. Тем не менее Шолохов, как и наиболее талантливые мастера литературы того времени, сумел сгладить схематизм благодаря мастерству создания индивидуального психологического портрета. Георгий Адамович, сравнивая роман с «Тихим Доном», писал: «"Поднятая целина" по замыслу мельче. Но в ней все, о чем рассказывает Шолохов, живет: каждый человек по-своему говорит, всякая психологическая или описательная подробность правдива» [Адамович, 2007: 317].
Развернувшаяся кампания выявления «врагов народа» ввела в литературу конспирологического рода антигероя в лице замаскировавшегося врага — из дворян, бывших офицеров царской армии, сельских кулаков, а также троцкистов и шпионов, которые готовы вредить советской власти. Таков образ Глеба Про-токлитова в романе Л. М. Леонова «Дорога на океан», образы «дяди» и Якова в повести А. П. Гайдара «Судьба барабанщика», целая галерея отрицательных персонажей в пьесе Н. Е. Вирты «Заговор».
Важнейшим требованием являлся показ руководящей роли партии при обращении к теме строительства социалистической экономики («производственная тема») и к военной тематике. Нередко в литературе и кинематографе роль разрешающего разного рода конфликты героя отводилась секретарю райкома партии, который становится устойчивым типом соц-реалистического искусства. Оргсекретарь Союза писателей А. С. Щербаков в 1934 г. указывал А. О. Авдеенко на роман «Столица» (позднее опубликован как «Судьба»):
«Художественное произведение о пятилетке не может претендовать на значительность (я уж не говорю о таком произведении, которое собирается быть непревзойденным в ближайшие 3–4 года), если в этом произведении более или менее развернуто не отражена героическая и руководящая роль партии»12.
Но речь шла, конечно, не только о героях пятилетки. Примечательным примером несовместимости формировавшегося литературного шаблона и «правдивости» вкупе с «исторической конкретностью» стала история создания Фадеевым первой редакции романа «Молодая гвардия» (1945–1946). Автору, который сам теоретизировал на предмет соцреализма, пришлось переделывать роман из-за отсутствия изображения партийного руководства молодыми подпольщиками в Краснодоне. Фадеев поначалу пытался оправдывать свой роман тем, что следовал жизненной правде, которая сама по себе подчеркивала высокую сознательность организовавшей подполье советской молодежи, но роман пришлось-таки переделывать, вводя образы коммунистов.
Обращаясь к проблеме поэтики соцреализма, нельзя обойти вниманием порожденную советским литературоведением триаду: классовость—партийность—народность. Объясняя принцип партийности, обычно обращались к работе В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература» (1905), впрочем, посвященной не художественной литературе, а, прежде всего, партийной публицистике. Наиболее важным положением виделось следующее: «Литературное дело должно стать составной частью организованной планомерной, объединенной социал-демократической партийной работы»13. Отсюда выводилось указание авторам проявить в своем творчестве признаки мировоззрения, отражающего партийную идеологию. По мере формирования т. н. новой исторической общности «советский народ» проблема служения интересам трудовых классов заменялась проблемой служения всему советскому народу, триада преобразовывалась в диаду «идейность—народность». Само понятие народности как эстетической категории, конечно, не было изобретением теоретиков соцреализма, а уходило корнями в начало XIX в. и оказалось предметом многих дискуссий в истории русской критики. Народность в рамках концепции соцреализма понималась как следование литературы интересам народа. Это очевидно перекликается с представлением о литературе «с направлением» в литературной критике второй половины XIX в.
На принципиальную регламентированность произведений соцреализма после Первого Всесоюзного съезда советских писателей обращали внимание представители первой волны русской эмиграции, а в СССР одним из первых — Андрей Синявский, определивший этот метод в статье 1957 г. как социалистический классицизм: «Что такое социалистический реализм? <…> Может быть, это всего лишь сон, пригрезившийся испуганному интеллигенту в темную, волшебную ночь сталинской диктатуры? Грубая демагогия Жданова или старческая причуда Горького? Фикция, миф, пропаганда?» [Синявский, 2003: 139]. Синявский видел главную особенность соцреализма в телеологическом аспекте: «В основе этой формулы "правдивое, исторически-конкретное изображение действительности в ее революционном развитии" — лежит понятие цели того всеохватывающего идеала, по направлению к которому неуклонно и революционно развивается правдиво изображаемая действительность. Запечатлеть движение к цели и способствовать приближению цели, переделывая сознание читателя в соответствии с этой целью, — такова цель социалистического реализма — самого целенаправленного искусства современности. <…> Поэт не просто пишет стихи, а помогает своими стихами строительству коммунизма» [Синявский, 2003: 140–141].
Синявский находит интересные пересечения поэтики романа «Мать» с формирующейся через четверть века эстетикой
«сталинского ампира». Речь идет о монументальности образа Павла Власова, тяготеющего к некоему памятнику идее. «Павел, — отмечает Синявский, — по складу и облику напоминает ходячую статую, которая без конца резонерствует. Недаром в сцене первомайской демонстрации несколько раз упоминается его "бронзовое лицо", которым любуется мать. Это, конечно, аналогия с классическими, под античность, статуями — предвестие социалистического классицизма сталинской поры» [Синявский, 1988: 35]. Отмечена критиком также нарочитая героическая пафосность, порождающая стереотипы и штампы (повторяющийся образ «героически горящих» глаз Павла; постоянный обмен рабочих рукопожатиями и др.).
В. З. Паперный, оперируя собственной терминологией, условно обозначил культурный перелом начала 1930-х гг. в СССР как переход от т. н. «Культуры 1» к «Культуре 2». Последняя и включает в себя искусство соцреализма, характеризуемое своего рода «заданностью» результата благодаря наличию идеологических установок, регламентирующих творчество писателя, причем в методе видятся черты ритуала. При этом даже механизм внутренней цензуры преобразуется так, что она «все меньше является фильтром и все больше генератором сообщений…» [Паперный: 243].
По-своему подошел к выявлению специфики литературы социалистического реализма В. Н. Турбин, в принципе отвергавший анализ литературных произведений по т. н. творческим методам и направлениям («-измам») и попытавшийся исходить из жанрологии близкого ему М. М. Бахтина, где «жанр — тип мышления, предваряющий, предуказующий пути устроения социального бытия» [Турбин: 38]. Для Турбина вся культура советской России — это период господства эпического мышления. При этом эпичность понимается не в хронотопическом смысле, но в устремлении к некоей масштабности сознания, порождавшей, в частности, установку на монументальность (ср. у Синявского выше). Эпичность культуры, по Турбину, рождалась из устремления ко всему гигантскому, масштабному: процессы масштабного строительства вели к эпизации мышления, общественного сознания и, соответственно, сознания художественного: «Эпос требует ясности: непогода, так уж непременно гроза; вёдро, так уж солнечным светом все залито. И ясны отношения между людьми: равновесие в мире отцов и детей; друг, так друг, а уж коли враг, так какой-нибудь Калин-царь…» [Турбин: 8]. Этого рода эпичность, считал Турбин, зародилась «в первых проблесках» сразу после Октябрьской революции — с ленинским планом монументальной пропаганды, достигла апогея в момент победы над Германией в 1945-м, чтобы затем пойти на спад, когда эпос поддерживался лишь «внешне, административно», и иссякнуть к началу 1990-х гг.
Стереотипность, схематичность произведений соцреализма неизбежно вытекала из конкретных идеологических требований к писателю, причем по мере усиления идеологического контроля над искусством она ощущалась все сильнее. Итоги движения советской литературы к шаблонности поэтически отразил А. Т. Твардовский в поэме «За далью — даль», написанной в конце 1950-х гг.:
«Глядишь, роман, и все в порядке: Показан метод новой кладки, Отсталый зам, растущий пред И в коммунизм идущий дед;
Она и он — передовые,
Мотор, запущенный впервые, Парторг, буран, прорыв, аврал, Министр в цехах и общий бал… И все похоже, все подобно Тому, что есть иль может быть, А в целом — вот как несъедобно, Что в голос хочется завыть»14.
Тематика произведений социалистического реализма отражает историческую ситуацию, складывающуюся в СССР: доминируют сюжеты, почерпнутые из событий революции и Гражданской войны, на смену которым в 1930-е гг. все больше приходит производственная проза, а в 1940–1950-е гг. добавляется тема Великой Отечественной войны, к 1960-м гг. становится за метным кризис соцреализма.
По мнению Катерины Кларк, даже явив себя миру в виде готовых текстов, соцреализм так и не смог вполне четко самоопределиться в среде тех, кто теоретизировал на эту тему: «Некоторые установки соцреализма могут быть принципиальными (литература должна быть оптимистичной, доступной массам, партийной), но они слишком общие, чтобы стать руководством к реальной художественной практике. Ответ на вопрос "что такое социалистический реализм?" стоит искать не в теоретических статьях, а в практических примерах» [Кларк: 12].
В строгом смысле типичными примерами литературы соцреализма стали со временем считаться те, которые таковыми были признаны официально : премированы, получили положительные отзывы в официальной печати.
Затрудняясь поиском конкретных признаков творческого метода, проще попытаться взглянуть на социалистический реализм как на период в истории отечественной литературы и культуры, отмеченный попытками самой власти сформировать новую литературу и искусство, на что и обратила внимание К. Кларк. Так, например, в литературной критике русского зарубежья (первой волны эмиграции) находим деление истории советской литературы на ранний пореволюционный период (до начала 1930-х гг.) и период социалистического реализма. При этом если в литературе первого периода находилось что-то достойное внимания в художественном отношении, то наступление второго периода означало для русских писателей и критиков зарубежья деградацию советской литературы, задавленной идеологией. Г. Адамович писал в статье по случаю двадцатилетия советской литературы: «Вспомним, что советская литература началась с "Двенадцати", — и посмотрим, к чему она постепенно скатилась! Перечтешь пресловутый гладков-ский "Цемент": как ни удивительно, все-таки в этой квази-"классической", художественно-несносной книге есть на теперешний слух, при сравнении с позднейшими советскими романами, опоэтизирование труда и какое-то стремление к свободе. "Цемент" сейчас не мог бы быть написан — потому что иссякли настроения, вызвавшие его к жизни. Но рядом с этим естественным процессом "иссякания революции" нельзя не видеть и того, как упорно и настойчиво власть гасила в литературе дух, ей не нужный, и для нее ставший даже опасным» [Адамович, 2018: 359].
Представляет интерес точка зрения Х. Гюнтера, логично связавшего перемены в литературной политике в СССР начала 1930-х гг. со сталинским разворотом от классово-революционной идеологической доминанты к национально-патриотической и уходом от идеи мировой революции к практическому строительству новой империи в России. Если литература революции должна была питаться установкой на романтическую утопию, то в 1930-х гг., по мнению Гюнтера, наступает период практического социализма, где повседневный труд должен вытеснить мечты о счастливом будущем, к тому же это будущее уже отчасти настало, как фиксировал Сталин в 1936 г. известной фразой о том, что «Жить стало лучше…». «"Реализм" направлен против утопизма, а слово "социалистический" указывает на преодоление пролетарской идеологии. Новый лозунг, возникший в 1932 г., стал водоразделом между революционной и собственно советской культурами», — считает Гюнтер [Гюнтер: 47].
Вопреки распространенной в советском литературоведении точке зрения на революцию как жесткий водораздел между старой и новой литературой, Б. М. Гаспаров видит определенную преемственность между ранней советской литературой и предшествующим периодом, считая, что «фундаментальные ценностные категории, связывающие социалистический реализм с идеализмом Серебряного века, имеют в основном неоромантическую природу» [Гаспаров: 275], а феномен, называемый соцреализмом, в сущности своей обнаруживает себя как «неоромантический идеализм» [Гаспаров: 275].
Подведем итоги. Очевидны два факта: с одной стороны, наличие, на первый взгляд, конкретного нормативного определения метода социалистического реализма в формулировке Устава Союза советских писателей, а с другой — неудовлетворительность этой формулировки для корректного выявления его специфики, что привело исследователей к попыткам отойти от самого термина и охарактеризовать искусство соцреализма как «революционный романтизм» [Спиридонова], «социалистический классицизм» [Синявский], «эпичную культуру» [Турбин], «Культуру Два» [Паперный], «советский постмодернизм» [Кондаков]. Причиной рождения самого феномена соцреализма видится охватившее идеологов коммунистической партии и значительную часть народа желание все делать по-новому, создавать все свое, отталкиваясь от предшествующего. Отсюда рождение понятия критического реализма, как необходимого компонента бинарной оппозиции «критический/со-циалистический», в основе которой, по Горькому, лежит различение пафоса ниспровержения и пафоса утверждения. Неслучайно уже первое выступление Горького на писательском съезде в 1934 г. строилось во многом на принципе отрицания старой отечественной культуры (досталось Ф. М. Достоевскому, в частности) и культуры буржуазной Европы. Некоторая парадоксальность ситуации с рождением соцреализма заключалась в том, что обычно тот или иной творческий метод, художественное направление, стиль осмыслялись теоретиками, располагавшими достаточным корпусом произведений, задним числом; кроме того, на съезде была сделана попытка сформулировать некие принципы метода с опорой на очень небольшое количество уже написанного (М. Горький, Вл. Маяковский, Ф. Гладков), а следом призвать советских литераторов работать в рамках нового изобретения. Тем самым, с позиций Первого Всесоюзного съезда советских писателей, литература соцреализма виделась в большей степени как литература будущего, причем идеология должна была регламентировать и контролировать литературный процесс.
В 1990-х гг. при обращении критиков к характеристике соцреализма едва ли не самым частотным стало слово «миф» с уничижительным оттенком, правда, нередко забывали, что каждая культура творит свой миф. Действительно, сотворение мифа (это слово, как помним, прямо произносит Горький применительно к новой литературе в том самом выступлении на съезде) характеризует соцреалистическую литературу, требуя определенной идеализации новых форм жизни, сокрытия ряда противоречий, следования конкретным идейным установкам. Чтобы избежать обвинений в утопизме, идеологи соцреализма предлагали рассматривать создаваемый миф как реальность будущего, которая объективно предсказана научным марксистско-ленинским учением, поэтому отступления от реалистического принципа изображения, по их мнению, не происходит.
Таким образом, приходится разделять подход к анализу явления социалистического реализма с теоретических позиций эстетики и с позиций истории культуры. В первом случае то, что долгое время называлось новым творческим методом, предстает не более чем попыткой синтеза ряда особенностей поэтики реализма, романтизма и даже классицизма в их общем понимании, поскольку, по большому счету, основное требование к литературе соцреализма лежало не в плоскости эстетики, а в плоскости идеологии — как соответствие авторов конкретному идеологически обусловленному мировоззрению, находящему выражение в их творчестве.
С позиций же историко-культурных, многим исследователям постсоветского времени, как и их предшественникам, видится оправданным выделение некоей эпохи в истории отечественной литературы, отмеченной особенным направлением, которое принято называть соцреалистическим. В рамках этого направления была сделана попытка поиска новых художественных форм, но фактически основная задача сводилась к выполнению средствами литературы воспитательных, агитационных и пропагандистских задач. Кризис соцреализма был предопределен изначально противоречием между требованием правдивого отражения реальной исторической действительности и выдвинутой Горьким идеи «домысливать» реальность с точки зрения желаемого.
Список литературы Мифология и поэтика социалистического реализма
- Адамович Г. В. Шолохов // Литературные заметки: в 5 кн. СПб.: Алетейя, 2007. Кн. 2 / подгот. текста, сост. и примеч. О. А. Коростелева. С. 316–323.
- Адамович Г. В. Двадцать лет // «Последние новости». 1936–1940 / подгот. текста, сост. и примеч. О. А. Коростелева. СПб.: Алетейя, 2018. С. 358–367.
- Гаспаров Б. М. Имплицитный идеализм культуры 1930-х гг. как источник ее харизматической притягательности // Ностальгия по советскому / отв. ред. З. И. Резанова. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2011. С. 271–279.
- Голубков М. М. О литературе социалистического реализма // Наука о литературе в ХХ веке: история, методология, литературный процесс: сб. ст. М.: ИНИОН РАН, 2001. С. 245–262.
- Гюнтер Х. Соцреализм и утопическое мышление // Соцреалистический канон: сб. ст. / под общ. ред. Х. Гюнтера и Евг. Добренко. М.: Академ. проект, 2000. С. 41–48.
- Добренко Е. А. Поздний сталинизм. Эстетика политики. М.: НЛО, 2020. Т. 1. 712 с.
- Захаров В. Н. Христианский реализм в русской литературе (постановка проблемы) // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. Вып. 6. С. 5–20 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2511 (10.10.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2001.2511
- Кларк К. Советский роман: история как ритуал. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2002. 262 с.
- Кожинов В. В. Русская литература и термин «критический реализм» // Вопросы литературы. 1978. № 9. С. 95–125.
- Кондаков И. В. Вместо Пушкина. Незавершенный проект. Этюды о русском постмодернизме. М.: МБА, 2011. 383 с.
- Мясников А. С. Социалистический реализм и изучение художественных форм // Проблемы художественной формы социалистического реализма: в 2 т. М.: Наука, 1971. Т. 1. С. 9–70.
- Овчаренко А. И. Социалистический реализм и современный литературный процесс. М.: Советский писатель, 1968. 316 с.
- Овчаренко А. Ю. О творческом методе содружества писателей революции «Перевал» // Вестник РУДН. Вопросы образования: языки и специальность. 2008. № 1. С. 100–105 [Электронный ресурс]. URL: https://repository.rudn.ru/ru/records/article/record/71500/ (10.10.2023).
- Паперный В. Культура Два. М.: НЛО, 1996. 384 с.
- Синявский A. Роман М. Горького «Мать» — как ранний образец социалистического реализма // Cahiers du Monde russe et soviétique. Janvier-Mars 1988. Vol. 29. No. 1. Maksim Gor’kij (1868‒1936) cinquanteans après. Pp. 33–40. DOI: 10.3406/cmr.1988.2129
- Синявский А. Д. Что такое социалистический реализм // Синявский А. Д. Литературный процесс в России: литературно-критические работы разных лет. М.: РГГУ, 2003. С. 139–175.
- Спиридонова Л. А. Знаем ли мы Горького? // Acta Eruditorum. 2019. Вып. 31. С. 117–120 [Электронный ресурс]. URL: https://rhga.ru/upload/iblock/782/78237d0db5ecc1031234ab3d4cae273f.pdf (10.10.2023). DOI: 10.25991/AE.2019.49.96.024
- Турбин В. Н. Прощай эпос? Опыт эстетического осмысления прожитых нами лет. М.: Правда, 1990. 48 с.