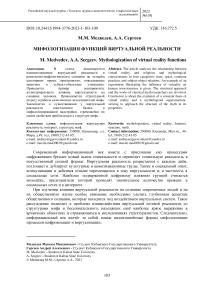Мифологизация функций виртуальной реальности
Автор: Медведев Максим Максимович, Сергеев Андрей Алексеевич
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Рубрика: Школа молодых исследователей
Статья в выпуске: 1, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется взаимоотношение виртуальной реальности и религиозно-мифологического сознания по четырём категориям: время, пространство, повседневные практики и субъект-объектные отношения. Приводится пример эксперимента, иллюстрирующего влияние виртуальности на сознание человека. Привлекаются структурный подход и работы классических исследователей мифа. Заключается о существовании у виртуальной реальности константного базиса и мифологизированной надстройки, стремящейся по своим свойствам приблизиться к структуре мифа.
Мифологизация, виртуальная реальность, интернет, структура, миф
Короткий адрес: https://sciup.org/142237358
IDR: 142237358 | УДК: 316.772.5 | DOI: 10.24412/1994-3776-2023-1-103-109
Текст научной статьи Мифологизация функций виртуальной реальности
Современный информационный век вместе с присущими ему процессами цифровизации бросает новый вызов социальности и переводит социальную реальность в искусственный сетевой формат. Виртуальная реальность разрастается с каждым днём, поглощает и дублирует культурные и цивилизационные труды. Также и социальный опыт, коммуникации и действия отныне перемещаются в зону виртуальности и, в частности, в социальные сети. Наиболее подверженной цифровому влиянию группой считается молодёжь, представители которой проводят значительное количество времени в социальных сетях и в интернете.
При изучении влияния виртуальной реальности на сознание современных людей и на их общественную жизнь особое внимание необходимо уделять глубинным аспектам общественного сознания, которые находятся под воздействием виртуальных систем. Такое рассуждение подводит к проблеме взаимодействия виртуальной сетевой реальности со структурами мифа и бессознательного, находящих своё наиболее яркое выражение в архаичных обществах и отражающихся в исследованиях структуралистов. Следовательно, информационный век влечёт за собой новые видоизменённые формы мифологизации процессов цифровизации и виртуализации.
Медведев Максим Максимович - Студент Кубанского Государственного Университета.
Сергеев Андрей Алексеевич - Студент Кубанского Государственного Университета.
М. Medvedev - Student of Kuban State University.
-
A. Sergeev - Student of Kuban State University
© Медведев М.М., Сергеев А.А., 2023
Для изучения влияния социальных сетей на современную молодёжь было проведено пилотажное социологическое исследование, результаты и ход которого представлены в другой работе [10]. Группе из семи студентов было предложено отказаться от пользования социальными сетями и смартфонами на пять дней, в течение которых участники вели дневниковые записи. Далее будет представлен краткий анализ некоторых полученных результатов эксперимента.
В первые дни эксперимента некоторые участники стали описывать то, что они называли «убийством времени» – участники погружались в рутинный быт или сон, желая скоротать время и поскорее дождаться конца дня и наступления нового утра. Также ряд участников выражал беспокойство по поводу того, что для них время стало тянуться медленнее, а сами сутки казались им дольше обычного. Часть участников стали испытывать ощущения опустошённости, дискомфорта и того, что участники называли «ломкой».
С каждым новым днём эксперимента всё больше участников отмечали изменения в восприятии времени, с чем были связаны ощущения страха, «выпадения из реальности», участники писали, что чувствуют, как «жизнь протекает мимо», а их самих «почти не существует». В то же время часть участников отметили частичную дезориентацию в реальном пространстве, что ранее нивелировалось повсеместным использованием геолокации и навигаторов.
Существенным замечанием стало чувство стыда у некоторых участников, вызванное пользованием кнопочным телефоном, в то время как остальные члены общества продолжали использовать смартфоны. Ряд участников стали испытывать ощущение отчуждённости от социума и старались скрыть факт отказа от смартфона. Вплоть до окончания эксперимента большинство участников чувствовали отрешённость от общества, страх, опустошённость и одиночество.
Анализ дневниковых записей показал, как у большинства участников изменилось восприятие времени, пространства и социальных отношений. Ряд испытуемых отмечали, как их дни стали длиться дольше, а движение времени замедлилось, описывали дезориентацию в пространстве и чувство стыда за пользование кнопочным телефоном, указали на ощущения отрешённости от общества, исключения из хода социальной жизни. Объяснение таких изменений кроется в структуре человеческого мышления, а также в характере виртуальной реальности.
Особенности людей информационного века становятся очевидными при их сравнении с архаичными людьми, людьми традиционной эпохи. Мышление архаичных людей зачастую имело мифологический характер, структуры их сознания либо периодически упраздняли время благодаря повторению космогонического акта и периодическому обновлению времени и мира, либо придавали времени сакральный надисторический смысл, и тем самым, по сути, боролись с ходом времени. Мифологическое время способно разворачиваться не только от прошлого через настоящее к будущему, но и в самые причудливые направления, порой находя тождество прошлого и будущего в настоящем и состоя при этом из разнонаправленных начал и их повторов. Любое сакральное время не всегда является линейным, в отличие от профанного.
Таким же образом устроено и виртуальное время. Присущая виртуальной реальности свобода входа и выхода, обратимость процессов и возможности перезагрузки или обновления находят некоторое соответствие с циклическим характером мифологического времени и его вечным возвращением. «Мгновения «сейчас» настоящего, прошлого и будущего в виртуальной реальности не следуют с необходимостью друг за другом. Сакральное время, как и виртуальное, не движутся в сторону будущего. Это антиисторичное время. Субъект не поставлен в ситуацию «решимости», где он должен сделать свободный выбор исходя из своего будущего» – заключают в своём исследовании И. В. Черданцева и О. С. Кузуб [12].
Большинство участников эксперимента описывали, как они «выпали» из своего жизненного потока, из привычного цикличного движения времени. Участники пытались найти средства, чтобы ускорить ход времени и старались восстановить цикличность смены дней и ночей – причём по признанию многих, ранее они использовали социальные сети как раз для такого ускоренного зацикленного времяпровождения. Они чувствовали дискомфорт из-за ощущения линейной направленности времени, рассматривая его в мимолётных быстропротекающих днях, что послужило причиной для «убийства времени» – погружения в рутинные циклы профанных действий с целью приближения конца суток и начала нового дня, а также моделирования цикла, то есть своеобразной попытки отмены исторического времени, однако путём повторения не сакральных, а профанных образцов. Исключением являлись только два участника эксперимента, которые, ко всему прочему, в своих дневниках описывали принадлежность к институту церкви и выражали свою религиозность, рассказывая о распорядке своих дней, по ходу которых они посещали храмы, слушали проповеди и прочее. В своих дневниковых записях оба участника не описывали какие-либо перемены в поведении, беспокойство и нарушения в восприятии времени, что наталкивает на вывод о том, что данные участники попросту не изменили своего временного мироощущения, сохраняя независимый от виртуальной реальности мифологически-религиозный характер мышления, из-за чего страх скоротечности жизни отсутствовал, время не приходилось «убивать».
Можно заметить, как виртуальная реальность мифологизируются, выполняя функции религиозных институтов по упразднению времени, описанные в исследованиях М. Элиаде [14]. Однако социальные сети подменяют эти функции патологической иллюзией, симулякром. Эксперимент показал, что большинство участников и пользователей социальных сетей не борется со временем, не пытается его отменить в своём сознании, а прибегает к другим методам взаимодействия со временем – к эвфемизации времени, сливаясь с виртуальной реальностью в клипированном водовороте, тем самым получая иллюзию отсутствия линейного временного хода, ощущая вместо этого цикличную текучесть времени.
Утверждать о полном тождестве виртуального и мифологического времени невозможно ввиду наличия существенных отличий, описанных Н. Н. Карпицким: «Виртуальная темпоральность надстраивает над константной каузальностью иную каузальность, которая продолжает соотноситься с априорной темпоральностью, но по отношению к константной темпоральности в целом становится внерациональной в силу разности каузальных принципов… Этот принцип внерациональности неприменим для отношения мифологической темпоральности и темпоральности обыденной реальности. Поскольку мифологическое время имеет свою априорную темпоральность, оно не надстраивает над какой-либо другой казуальностью собственную казуальность, а создаёт её как изначально самобытную» [7]. Таким образом виртуальная реальность не имеет своего самобытного темпорального основания и представляет из себя скорее надстройку, созданную по лекалам профанной и сакральной темпоральности. Сегодня многие люди прибегают к симуляции архаично-религиозных функций мышления путём погружения в виртуальную реальность, в сетевое пространство.
Так же и виртуальное пространство находит некоторые аналогии с мифологическим. Пространство мифа конструируется архаично-этническим сознанием, имеющим ноэтический характер. Мир организовывается путём развёртывания ноэм – собственно объектов внешнего мира, складывающихся в парадигмальные пространственные цепи. Таким образом мифологическое пространство состоит из набора ноэтически сконструированных объектов, имеющих собственные имена, конституируемых языком.
При этом оно принципиально концентрично – развёртывается вокруг конкретного центра, являющимся главной осью упорядочивания хаоса и ограничивания мира от чего-либо другого [4, с. 278–280].
Ранее учёные указывали на ризоматический характер виртуального сетевого пространства – децентрализованной безиерархичной структуры, однако, согласно замечанию И. В. Черданцевой и О. С. Кузуба, современное развитие виртуальной сети внесло некоторые коррективы в сложившуюся тенденцию [11]. Алгоритмы персонифицированного поиска и механизмы персонализации создают не безграничное ризоматическое пространство – но антропоморфную структуру, направленную на упорядочивание хаотичной информации вокруг пользователя, выступающего отныне как персонифицированный центр, ограниченный от геометрически возрастающего числа Других. Равно как в мире мифа объекты призываются к бытию при названии их имён и без них не имеют существования – так и функционирование виртуального пространства напрямую определяется действиями пользователя, а прерывание действия означает прерывание существования функционирующего элемента сетевого пространства.
Результирующие дневниковые записи участников вышеприведённого эксперимента подчёркивают и нарушение в восприятии пространства и дезориентации после отказа от социальных сетей и смартфонов, в частности у участников, отмечающих до этого трансформации в ощущении темпоральности. Следует предположение, что, покинув сетевое пространство и столкнувшись с геометризированным или перцептуальным пространством, участники, плотно погружённые в виртуальную реальность и социальные сети, испытали некоторого рода шок и дискомфорт, аналогичные их ощущениям при столкновении с линейным временем.
Таким образом сходство мифологического и виртуального пространства прослеживается в космологическом и концентричном характере обоих из них, а также в возможности конституирования пространства языком традиционного человека или действиями (а также информацией) современного пользователя. Однако утверждать полную гомологию пространства мифа и виртуальной реальности не представляется возможным на аналогичном основании, которое выдвигал Н. Н. Карпицкий в рамках рассуждения о темпоральности – виртуальное пространство не имеет своей самобытной основы, и кажущиеся упорядоченность и концентричность произрастают из первоначальной ризоматической структуры, то есть являются критической надстройкой [5]. Ризома не имеет «ни начала, ни конца, ни истока, ни предназначения, она всегда в середине» [2, с. 434] и в самом широком смысле может служить образом постмодернистского мира, фундированного радикальным отказом от презумпции константной гештальтной организации бытия – мира, в котором отсутствует централизация, упорядоченность, ограниченность, иерархичность и симметрия, – всё это противопоставлено древовидной иерархической системе, классической для логики модерна и более ранних эпох. Таким образом вновь прослеживается скорее пародийный, симуляционный характер виртуального пространства как симулякра мифа.
Ещё одну аналогию между мифом и виртуальной реальностью можно рассмотреть в наборе практик, свойственных повседневному поведению пользователя сети и ритуальной обрядовости членов традиционных общностей. Так становится возможным использовать понятие «виртуального инстинкта» [6], актуализирующегося в сетевой реальности в виде замещающего реальные инстинкты аналога и предстающего перед субъектом в качестве мифа. Д. А. Щукин, опираясь на исследования французского социолога Р. Кайуа, подходит к выводу о том, что «существует аналитически оправданная возможность определения трёх регистров функционирования виртуального субъекта – пространственной идентификации, интерсубъектных отношений и взаимодействия с реальностью – через понятия мимикрии, комплекса шаманства и магических законов» [13]. Автор руководствуется именно ранними представлениями о сетевых структурах как ризоматических, учитывая общую постмодернистскую топику, но не учитывая современные изменения сетевого пространства, связанные с недавним появлением алгоритмов персонализации информации. Тем не менее проделанная работа является весьма показательной в структурном плане.
Действия пользователя, попадающего в сетевое пространство, может быть проанализировано через мифопоэтическую категорию мимикрии, в ходе которой субъект распространяет свойства пространственного контекста на собственную телесность и совершает попытку устранения космоса-порядка, что противоречит упорядоченному характеру современной персонифицированной надстройки виртуальной реальности, но описывает суть её ризоматической структуры в основании. Социальная обусловленность и одобряемость пользователя сети проявляется через количественные показатели числа подписчиков или реакций, в то время как социальная обусловленность архаичных шаманов зависит не от реальных плодов его магии, а от веры окружающего социума и его положения в дискурсивной системе. Также возможно подчеркнуть, что в социальных сетях различные кодифицированные или некодифицированные нормативные установки рестриктивного характера в условиях мифомагической реальности выполняли бы функцию негативного обряда и социального табу, которые предшествуют позитивному обряду, очерчивая границы магического в обществе. Возможно, ощущения стыда, описываемое некоторыми участниками экспериментами при полном отказе от смартфонов, вызвано представлением о табуированности такого ограничительного акта и его общественном порицании, что затем стало основой для чувства отрешённости и отчуждённости от общества.
Виртуальный интерфейс, система символических реакций и смайлов, количественных показателей социального одобрения оставляют на своём месте символический «протез», беря под контроль и замещая собой бессознательные порывы члена социума. Несомненно, несмотря на приведённые из работы Д. А. Щукина примеры, необходимы дальнейшие исследования в области компаративистики морфологии языка мифа и виртуального текста, мифологического содержания процессов игрофикации и виртуальных игр, иных форм архаичных обрядных и пользовательских практик и так далее.
Продолжая анализ в данном направлении, можно заметить аналогии между функциями мифа в традиционной общности и информации в информационном обществе. Информация, согласно формуле М. Маклюэна «Medium is the message» [15], есть прежде всего состояние, смысл которого состоит в самом процессе её получения [4, с. 498]. Однако здесь находится кардинальное различие, коренящееся в субъект-объектных отношениях внутри мифа и виртуальной информации. Современная активность информации, постулируемая некоторыми постмодернистскими учёными [8], выступает как неявное приписывание ей функции субъекта – что, согласно выводам М. П. Бузского является весьма упрощённым обобщением содержания субъект-объектных отношений в информационном обществе, «информационным монизмом» [1]. Информация так же представлялась центром организации сетевого пространства и его территориальных элементов, как и сакральные объекты мифа представляются центрами мира. Помимо этого, информации приписывались субъектные качества, как и мифу, являющимся, согласно А. Ф. Лосеву «всегда неким субъектом» [9, с. 49] или согласно Ж. Дюрану – траектом, средней между субъектом и объектом особой онтологической категорией [3, с. 70–78]. Однако такие положения о виртуальной реальности поддерживаются преимущественно в области постмодернистской топики социологии и философии.
Вопреки всем представлениям о самобытной субъектности информации можно заметить, что «внутри информационного потока сохраняется и воспроизводится соотношение субъективного и объективного. Несмотря на различия этих сторон, в информационном пространстве они должны быть максимально сближены друг с другом. Это означает, что субъективное теряет многие свои существенные черты – духовность, идеальность, свободу, воображение, личностную экзистенциальную автономность и др., а объективное – уходит от своего материально-природного или общественного «первичного» смысла и воплощения» [1]. В данном случае информация представляет собой скорее субстанцию, возникающую в отношениях субъекта и объекта и в информационном обществе заменяющая собой деятельность личности, в то время как миф является энергийным самоутверждением личности [9, c. 178]. С такой точки зрения «информационный монизм» обретает скорее религиозные черты в понимании А. Ф. Лосева, всё больше походя на некоторую форму культа (для Лосева религия является как раз субстанциональным утверждением личности в вечности).
Таким образом можно заключить о процессах активной мифологизации функций и элементов виртуальной реальности и, в частности, социальных сетей. Социальные сети в современном обществе начинают выполнять функции, в традиционных обществах выполняемые мифами и религиозными институтами. Ввиду этого при отказе от социальных сетей у пользователей наблюдаются нарушения в социальном взаимодействии со временем, пространством и общественными группами, вызванные конфликтами бессознательных мифологических элементов мышления с реальностью. Виртуальная реальность заменяет собой миф, однако невозможно заключить о полном структурном тождестве виртуальности и мифа. Миф самобытен в своей основе и напластованиях, однако виртуальная реальность лишь пытается приблизиться по своим свойствам к мифу, изначально имея основанный на константной реальности базис. Виртуальное разнонаправленное время является надстройкой над априорной темпоральностью, иерархичность и ограниченность виртуального пространства достигается технологическими нововведениями особых алгоритмов в изначально беспорядочное ризоматическое пространство, архаичные практики и бессознательные желания замещаются виртуальными «протезами» инстинктов, а субъектность информации и её центральность в обществе провозглашается философией постмодерна.
Так можно выделить в виртуальной реальности: 1) некий базис, состоящий из априорной темпоральности, ризоматического пространства, инстинктивных провокаций и воспроизводства привычного (хоть и бездуховного) отношения субъективного и объективного и 2) надстройку, состоящую из цикличной темпоральности, концентрированного пространства, симуляции архаично-религиозных практик и постулируемой субъектности. Именно благодаря этой надстройке всё более заметной становится мифологизация виртуальности.
Такое механическое наделение виртуальной реальности и социальных сетей качествами и функциями мифа поддаётся деконструкции и тщательному анализу. Потенциально дальнейшие процессы мифологизации виртуальности могут привести к полному замещению функций сохранившихся традиционных институтов по конструированию времени, пространства, практик и мировоззрения безосновательными иллюзиями, предоставляемыми социальными сетями – то есть привести к полному контролю виртуальной реальности над рациональными и мифологическими элементами человеческого сознания.
Список литературы Мифологизация функций виртуальной реальности
- Бузский М. П. Объективное и субъективное в современном информационном обществе // Logos et Praxis. 2019. №3. С. 25–35. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obektivnoe-i-subektivnoe-v-sovremennominformatsionnom-obschestve (дата обращения: 20.12.2022).
- Делёз Ж. Логика смысла. М.: Раритет, Екатеринбург: Деловая книга, 1998. 480 с.
- Дугин А. Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. М.: Академический Проект; Трикста, 2010. 564 с.
- Дугин А. Г. Этносоциология. Москва : Академический проект, 2011. 634 c.
- Емелин В. Глобальная сеть и киберкультура. Ризома и Интернет [Электронный ресурс]. URL: http://emeline.narod.ru/rhizome.htm (дата обращения: 02.12.2022).
- Кайуа Р. Богомол // Миф и человек. Человек и сакральное. Москва : ОГИ, 2003. С. 52–82.
- Карпицкий Н. Н. Виртуальность и темпоральность // Известия ТПУ. 2003. №4. С. 132–136. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnost-i-temporalnost (дата обращения: 24.12.2022).
- Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: пер. с англ. / под науч. ред. О.И. Шкаратана. Москва : ГУ ВШЭ, 2000. 608 c.
- Лосев А. Ф. Диалектика мифа. Москва : АСТ, 2021. 448 с.
- Сергеев А. А., Медведев М. М. Социальная реальность в виртуальном пространстве и её влияние на молодёжь // Сборник статей победителей 72-й конференции ФИСМО в рамках Молодёжной недели науки КубГУ. Краснодар, 2022. С. 256–259.
- Царева А. В. Ризоматические структуры социальной самопрезентации в сетевом виртуальном пространстве // Дискуссия. 2013. №7 (37). С. 96–99. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rizomaticheskiestruktury-sotsialnoy-samoprezentatsii-v-setevom-virtualnom-prostranstve (дата обращения: 02.12.2022).
- Черданцева, И. В. Мифологические черты виртуальной реальности / И. В. Черданцева, О. С. Кузуб // Философские дескрипты. 2018. № 19. URL: http://philosophdescript.ru/?q=node/147 (дата обращения: 20.12.2022).
- Щукин Д. А. Интерпретация виртуальности в контексте мифологических структур // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2015. Вып. 4(24). С. 16–21.
- Элиаде М. Миф о вечном возвращении. Избранные сочинения. Москва : Ладомир, 2000. 414 c.
- McLuhan M., Fiore Q. The medium is the Massage: An Inventory of Effects. New York : Random House, 1967. 159 p.