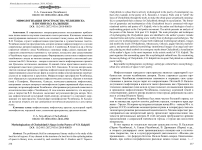Мифологизация пространства Челябинска в поэзии В. О. Кальпиди
Автор: Смышляев Евгений Александрович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (45), 2018 года.
Бесплатный доступ
В современных литературоведческих исследованиях проблемным полем является изучение локального текста регионов. Ключевым элементом конструирования локального текста, как отмечают такие ученые, как В.В. Абашев, В.Н. Топоров, служит мифологизация пространства в художественных текстах. Челябинск является пространством, которое активно мифологизируется в поэзии современных авторов (например, в поэзии А. Самойлова, Я. Грантса и др.). Поэты стремятся «обжить» локус Челябинска с помощью мифа, сделать городское про- странство семантически значимым и, тем самым, осмыслить свое существование в Челябинске через его сакрализацию. Формирование геопоэтики и мифопоэтики челябинского локуса во многом связано с культуртрегерской и поэтической деятельностью В.О. Кальпиди - автора и идеолога такого мифотворческого проекта как Уральское поэтическое движение. В данной статье представлен анализ стихотворений известного уральского поэта В.О. Кальпиди. В поэзии автора выявляются основные принципы и приемы мифологизации пространства Челябинска: травестирование классических форм и сюжетов мифа; конструирование новой реальности из мифологем и архетипов. Мифологизируя пространство Челябинска, поэт обращается к традиционным мифологическим сюжетам, образам и мотивам (миф о Полифеме, Мнемозине, Одиссее; языческие-славянские мифологемы), выстраивает личную авторскую неомифологию (травестированный образ ангела, вампира; антропоморфизация Челябинска; обыгрывания ритуальной символики в космогоническом мифе о Челябинске). В ходе анализа выявляется, что ведущую роль в творчестве В.О. Кальпиди выполняет актуализация фигуры автора. Поэт, как мифологический культурный герой-демиург, организует и озвучивает окружающее его пространство. Конструируя неомифологию Челябинска, В. Кальпиди пытается открыть его как самоценную поэтическую реальность и дать городу голос.
Мифологизация, мифологема, архетип, культурный герой, неомифология, городской текст, семиотика пространства, уральская поэзия
Короткий адрес: https://sciup.org/14914710
IDR: 14914710 | DOI: 10.24411/2072-9316-2018-00030
Текст научной статьи Мифологизация пространства Челябинска в поэзии В. О. Кальпиди
Мифологизация городского пространства является характерной особенностью поэзии челябинских авторов. Поэты стремятся сделать пространство Челябинска семантически значимым и оправдать свое существование в данном локусе через его сакрализацию. Поэзия В.О. Кальпи-ди (главного мифотворца и идеолога такого феномена, как «Уральское поэтическое движение») как нельзя лучше подходит для выявления приемов и принципов мифологизации Челябинска, поскольку ключевой темой в стихотворениях данного автора является тема города, рефлексия над жизнью в столице Южного Урала.
В советский период Челябинск был лишь частью большой страны, одним из множества городов-заводов, рабочих городов, «опорного края державы - Урала». Историко-культурная ситуация конца 80-х - начала 90-х гг. (распад СССР, ослабление моноцентризма страны и литературы) стала катализатором развития региональной идентичности. Москва перестает рассматриваться как авторитетный центр, происходит переосмысление значимости региональных центров. В этой ситуации пробуждаются древние представления о сакральной значимости города, о городе как целостном микрокосме.
В этот период из «подполья» выходят уральские поэты: В. Кальпиди (Пермь-Челябинск), А. Гашек (Челябинск), В. Дрожащих (Пермь) и др., и открыто декларируют свою провинциальную позицию как в поэтическом творчестве, так и в культуртрегерской деятельности: «Москва для провинциала - это формула бегства. Нельзя бежать вперед. Невозможно. Бежать при любом географическом раскладе можно только назад. <...>
Убегая с того места, где ты родился, можно изменить только автобиографию. А вот твердая почва судьбы в этот момент исчезает из-под твоих ног <.. > Создание провинциальной литературной схемы не есть конкуренция с Москвой... Но провинциальная литературная схема - это жест свободы» [Кальпиди 2000, 167]. По мнению таких исследователей уральской литературы, как В.В. Абашев, М.П. Абашева, А.А. Сидякина, именно фигура В.О. Кальпиди стала ключевой в изменениях культурного ландшафта региона. Стремление В. Кальпиди к обустройству родного места, как отмечает А.А. Сидякина, стало «целеустремленным вектором “героической” модели поведения» [Сидякина 2004, 34]. Этот вектор проявляет в контексте жизни и поэзии Кальпиди.
Прежде чем перейти к непосредственному анализу поэтического творчества В.О. Кальпиди и выявлению способов и приемов мифологизации пространства Челябинска, дадим определения ключевым терминам, используемым в данной статье.
Под мифом, вслед за Е.М. Мелетинским, мы понимаем «средство концептуализации мира - того, что находится вокруг человека и в нем самом» [Мелетинский 2000 а, 25]. Терминологические дефиниции «мифологизация», «мифологема», «мифопоэтика», «неомифологизм» и т.д. у разных исследователей имеют разное смысловое наполнение, но сводятся к общей сути - наличию множества форм проявления мифа в художественной литературе. В исследования таких ученых, как В.Н. Топоров, Ю.М. Лотман, Е.М. Мелетинский, Е. Фарыно, А.Ф. Лосев, под мифологизацией понимается включение в художественный текст мифологических элементов (героев, мотивов, мифологем, использование мифологических композиций и хронотопа). В.Н. Топоров в своем исследовании «Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического» рассматривает мифологизацию как «создание наиболее семантически богатых, энергетичных и имеющих силу примера образов действительности» [Топоров 1995, 5]. В современном литературоведении под мифологемой имеется в виду устойчивая мифологическая тема, мотив или образ, заимствованный из мифологии. Мифологема может быть традиционной или созданной в результате мифотворчества, появившейся при формировании неомифа. Термин неомифологизм вводится Е.М. Мелетинским для идентификации ремифологизации культуры и литературы, продолжающейся в XX в. Е.М. Мелетинский указал на «сознательное совершенно неформальное, нетрадиционное использование мифа (не формы, а его духа), порой приобретающие характер самостоятельного поэтического мифотворчества» [Мелетинский 2000 Ь, 215], таким образом неомифологизм предстает как трансформация, метаморфоза, разыгрывание классического мифа в новом месте и времени.
Кальпиди Виталий Олегович - поэт, культуртрегер, издатель. Родился в 1957 г. в Челябинске. Жил в Перми, Свердловске, с 1990 г. снова в Челябинске. В. Кальпиди - лауреат множества литературных премий, автор 11 книг стихотворений. Автор и главный редактор многотомного проекта «Антология современной уральской поэзии», проекта «Энциклопедия.
Уральская поэтическая школа», составитель, издатель и оформитель более 40 книг современной уральской литературы.
Мифологичность поэтического творчества В.О. Кальпиди - сознательная авторская модель творческого поведения, которую он открыто декларирует и развивает в каждой своей книге: «Миф - это сверхреальность. Стихи - сверхречь. Поэзия - выражение мифа стихами, т.е. сверхреальности сверхречью» [Кальпиди 1995, 11].
Виталий Кальпиди в каждой предстает в качестве харизматического автора-героя, «осознавшего свою призванность, принявшего вызов и разыгрывающего драму судьбы на апокалиптически подсвеченных площадках уральских городов: “косоносой Перми”, “протокольного Свердловска” и “города Ч.”» [Абашев 2000, 358]. Биография поэта, таким образом, сю-жетизируется и, как отметил в своей книге «Пермь как текст» современный исследователь уральской литературы В.В. Абашев, «развертывается в квазироманный сюжет» [Абашев 2000, 358], который объединяет все творчество поэта. Таким образом, авторское «Я» сливается в стихотворениях В.О. Кальпиди с фигурой лирического героя.
В своих ранних поэтических работах, относящихся еще к «Пермскому циклу» (условное обозначение нескольких десятков стихотворений В.О. Кальпиди 1982-1993 гг), В. Кальпиди намечает основные принципы и приемы мифологизации пространства, которые становятся доминирующими и разрабатываются в дальнейшем: травестирование классических форм и сюжетов мифа («Город стоит за спиной деревянней коня, / в прожекторах на кифаре Гомерище воет» [Кальпиди 1990, 113]) и конструирование новой реальности из семантических первоэлементов мифологического языка («Словно взломанный череп коня, Пермь лежала, и профиль Олега / (здравствуй тезка отца) запечатал окно караулки» [Кальпиди 1990, 348]).
Несмотря на то, что в книгах стихов, относящихся к «Пермскому циклу», Пермь является доминантной темой и объектом мифологизации, образ Челябинска периодически встраивается в контекст жизнетворчества как ностальгический город детства, «потерянный рай», своеобразная Итака, которую был вынужден покинуть лирический герой - автор:
Уверен, что детство в Челябе мое не исчезло, а просто свернулось под взглядом изнанки бинокля:
Вот оно лилипутствует, обжимая мой нынешний письменный стол [Кальпиди 1990,351].
Двойною слезой занавешен от певчего У’лисс он вспомнил Итаку. Итак, завершается миф <.. > <.. > в Челябе хранит мульчуганов с «Арго».
Пусть бурым вином наполняются рыжие кубки - за круглое небо! - которое выше всего [Кальпиди 1990, 67].

В своей седьмой книге стихотворений «Запахи стыда», написанной в 1999 г, В. Кальпиди активно обращается к мифологизации челябинского пространства. Неомифологизм становится главным инструментом упорядочивания художественного пространства книги и проявляется в творческом заимствовании древних мифологических мотивов, сюжетов и образов, а также в сознательном вскрытии заимствования:
<.. > слепой фрагмент, что за уши слегка притянут мной из мифа Полифема [Кальпиди 2015, 110].
-
<.. .> то струны, а то пространства странной тетки Мнемозины,
без которой страх - не танец, а березовая боль... - сам-то я не понимаю что сие обозначает <.. > [Кальпиди 2015, 114].
Персонификация фигуры автора в тексте выстраивает доверительные отношения автор-читатель, необходимые для создания убедительной мифологической системы. Автокомментарий и исповедальность автора апеллируют к эмоциональной составляющей мышления читателя, к его бессознательному, которое активно усваивает мифическую матрицу текста, поскольку, является хранилищем архетипических структур.
В поэме «Вампиры позорной Челябы» из книги «Запахи стыда» актуализация фигуры автора играет ведущую роль. Фигура автора-наррато-ра встраивается в ткань повествования. Автор, одновременно обыгрывая роль культурного героя, создателя мифологического пространства текста, является также активным участником событий, происходящих внутри этого мира:
Замечу в скобках, но зато я сами скобки не замечу: вампиры в розовых пальто там появляются под вечер. <...
Я знаю кое-что про них: что одному уже - за тридцать, во-первых. Знаю, во-вторых, что их блистающие лица не будут, в-третьих, нам нужны для розыска убийц и гадов, поскольку кровь людей страны они не пить, а сплюнуть рады в любое время... На краю Челябы, в 23.15, они стоят, и я стою <...> [Кальпиди 2015, 116].
Автор, становясь героем своих произведений, выступает в качестве фиксатора собственного творческого акта. Он словно наблюдает за самим собой в процессе творения. Подобный прием эксплицирован как некий творческий ритуал, в результате которого расширяется точка зрения автора, вмещая в себя все большие контексты. Он будто впадает в транс, в котором ему открывается истинная суть вещей:
Вот бы зрение утроить, чтобы тайну раскусить, что из камня глупо строить, если камень можно пить [Кальпиди 2015, 139]
-
<.. .> не перчить сухой люцерной
(или даже поперчить), а добавить в память нашу и немного подогреть, из нее совсем не страшно испарится слово «смерть» <.. > [Кальпиди 2015, 137].
Ритуально-церемониальный комплекс является важнейшим элементом формирования мифологической системы и связан с мистико-экстатическими практиками. Большое значение в ритуально-церемониальном комплексе, по мнению известного культуролога Мирчи Элиаде, имеют сакральное место и время проведения ритуала. Так, в поэтическом тексте описывается ритуал, который проводят «вампиры» с целью защиты города («вампиры собственной слюной / нас занавесили от блуда»). Ритуал этот проводится в сакральном месте («на краю Челябы») в точное время (23:15):
<...> На краю Челябы, в 23.15, они стоят <.. > <.. > в сатурново кольцо вращающейся крови каждый из них сует свое лицо, используя ночную жажду для расщепленья, те. кровь становится сухой <.. > <.. > В 00 часов, похожих на сортир для вечности, на город уже наброшена слюна <...> [Кальпиди 2015, 118].
Авторский образ вампира являет собой аллюзию на образ поэта - героя, трансформирующего реальность посредством языка. Вампиры выступают в качестве сил, упорядочивающих хаос пространства «Челябы» через космогонический ритуал «вскапывания» Челябинску, как некоему добытийственному хтоническому существу, земляной глотки. Космого-
ничность ритуала заключается в попытке придать пространству голос, вложить в пространство дар речи, т.е. из немого добытийственного хаоса сконструировать упорядоченный словом космос:
И я увидел, как Гав ил копает яму, сняв пилотку, как роет из последних сил Челябе земляную глотку, как появляются на свет, допустим, глиняные гланды... [Кальпиди 2015, 118].
В. Кальпиди, осмысляя посредством мифа окружающую действительность, пытается открыть Челябинск как самоценную поэтическую реальность и выработать для него новый модус поэтического языка, дать голос городу - «вырыть глотку», как это было проделано им с пространством Перми: «Он (Кальпиди - прим, ред.) принял и открыл Пермь как состояние маргинальной речи. В современной русской поэзии нет аналогов такого широкого принятия в поэзию маргинального языка городской улицы, какое рискованно продемонстрировал Кальпиди» [Абашев 2000, 280].
Челябинск в поэзии В.О. Кальпиди персонифицируется, предстает как гермафродитный добытийственный персонаж, существо из мира хаоса:
Челябинск с сиськами Челябы -себя поглОтит - поглотИт изнанкой самопальной ямы, не потому что он/она -
Она и Он... [Кальпиди 2015, 137].
Обыгрывание и травестирование гендерных различий мужского и женского часто встречается в текстах В. Кальпиди о Челябинске. Так, в тексте «Шамаханское время, что не означает...» челябинские женщины наделяются брутальными чертами, свойственными скорее мужскому полу:
Уцелевшие женщины в мире уральских людей различимы, поскольку у них к завершению дня из небритых подмышек соленый свистит соловей, то есть свист соловья [Кальпиди 2015, 161].
В образах женского тела у В. Кальпиди зачастую отражается гротескная эстетика безобразного. Женские тела чаще всего ассоциативно связаны только с плотским желанием, изображаются как вульгарные, уродливые, несуразные, обреченные на старение и увядание:
Женщина лежит и любит, лижет, трогает, лежит;
то инъекцией остудит тривиальный вагинит, то шутя к сопрано меццо присобачит, то цветы мне сажает прямо в сердце, видимо, для красоты [Кальпиди 2015, 98].
Через подобную гротескную образность В. Кальпиди обращается к карнавальной культуре как «ритуальной части мифа» (по М.М. Бахтину).
В челябинских текстах В. Кальпиди распространены ругательства, «срамословия божества» (М.М. Бахтин), а также разного рода непристойности, «т.е. часть лексикона, запрещенного официальными нормами» [Бахтин 1965, 9], что свойственно карнавальной культуре:
Челябинск населенье мацает, как впукловыпуклое тесто [Кальпиди 2015, 160]
<.. >случайной юности, покуда их 1акелы, как факела, шипят от собственного зуда [Кальпиди 2015, 135].
Такие исследователи, как М.М. Бахтин, Е.М. Мелетинский, О.Д. Буренина, указывают на то, что миф обращается к приемам народной культуры, фольклора, гротеску и поэтике абсурда и служит в современной литературе для описания сознания личности. По мнению исследователя поэтики и мифологии абсурда О.Л. Чернорицкой, миф и карнавал отражают состояние сознания, которое является «нейтрализатором между всеми фундаментальными культурными бинарными оппозициями, прежде всего между жизнью и смертью, правдой и ложью, иллюзией и реальностью» [Чернорицкая]. Таким образом, опираясь на народную смеховую культуру и карнавальную эстетику В.О. Кальпиди трансформирует объективную реальность, превращая ее в фантасмагоричный неомиф, в котором сложное мироустройство сводится к простым гротескным формам, представленным в контрастном освещении.
Через карнавализацию и гротескную образность В. Кальпиди маркирует челябинское пространство как абсурдное, находящееся в эстетическом и бытийственном кризисе. На всех этапах исторического развития карнавальная культура была связана с кризисными вехами в жизни человека (смерть и рождение, смены и обновления). Как отмечает О.Д. Буренина в своем исследовании «Символистский абсурд и его традиции в русской литературе и культуре первой половины XX в.», карнавал имеет сходство с абсурдом, который также появляется в переломных ситуациях «как индикатор наметившегося кризиса сложившейся системы, к примеру, эстетической, или кризиса определенных иллюзий, например, эстетических, абсурд маркирует завершенность этой системы со всеми ее иллюзиями»
[Буренина 2005, 34].
Пространство Челябинска в поэтических текстах В. Кальпиди изображается как хаотичное, неструктурированное. Именно пространство хаоса, пустое и враждебное, позволяет автору проявить максимальные возможности своей модели творческого поведения. Как отмечает сам В.О. Кальпиди в одном из своих интервью: «<...> именно здесь, где энергетика находится “ниже уровня моря”, только и стоит что-нибудь строить. Во всех других местах мы вынуждены будем только перестраивать, путаясь в чужих удачах и неудачах» [цит. по: Абашев 2000, 356]. Исходя из понимания пространства Челябинска как пространства с «отрицательной энергетикой», В.О. Кальпиди актуализирует в поэтических текстах инфернальные, эсхатологические и хтонические мотивы и сюжеты, архетипы и мифологемы.
На протяжении всего творческого пути в поэзии В.О. Кальпиди происходит трансформация мифологемы «культурный герой». Один за другим сменяются автобиографические мифы (Гамлет, Одиссей, Орфей). После утверждением себя в качестве демиурга культурного пространства Перми и попытками развития той же модели взаимодействия с пространством по отношению к Челябинску, на первый план выходит новый автобиографический миф - В. Кальпиди как культурный герой, демиург. Подобно мифологическому культурному герою В. Кальпиди становится персонажем уральской литературы: «‘Тений К” в прозе Н. Горлановой, персонаж стихов Дмитрия Долматова и Антона Колябина <.. > биографическим мифом становится сам Кальпиди» [Абашев 2000, 340], - очень точно отмечает В.В. Абашев.
В.О. Кальпиди через автобиографический миф взаимодействует с мифом локальным: старается открыть место во всех его онтологических возможностях, или даже организует и озвучивает окружающее пространство. Точно демиург, В. Кальпиди пытается создать с помощью авторской неомифологии, культурное пространство в добытийственном, хаотичном и немом (в его понимании) мире - Челябинске.
Продуцирование челябинского мифа - часть более масштабного мифотворческого проекта В.О. Кальпиди - «Уральского поэтического движения» (УПД). Феномен УПД акцентирует внимание на геопоэтике и мифопоэтике, формирует парадигму пространственного представления челябинских поэтов. Принципы мифологизации городского пространства В.О. Кальпиди активно усваиваются местными поэтами. Так, А. Самойловым в 2015 г. был создан интерактивный литературный проект «Маршрут 91». Формальной основой для книги послужил маршрут челябинского такси №91. Читателю предлагается проследовать путем, которым поэт добирается из дома в Ленинском районе на Северо-Запад, где он работает, и обратно. Гипертекстовая структура проекта «Маршрут 91» за счет сложного нелинейного построения, направление пути в котором постоянно изменяется, создает у читателя ощущение блуждания по мифическому лабиринту. Характерной чертой известного челябинского поэта Яниса Грантса, сближающей его с мифопоэтикой В. Кальпиди, является изображение Че- лябинска как сакрального центра жизни. Таким образом, сгенерированный В. Кальпиди широкомасштабный миф современной уральской поэзии прочно входит в творчество современных поэтов Челябинска.
Список литературы Мифологизация пространства Челябинска в поэзии В. О. Кальпиди
- Абашев В.В. Пермь как текст. Пермь, 2000.
- Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965.
- Буренина О.Д. Символистский абсурд и его традиции в русской литературе и культуре первой половины ХХ в. СПб., 2005.
- Кальпиди В.О. Избранное = Izbrannoe: стихи. Челябинск, 2015.
- Кальпиди В.О. Мерцание: стихи с автокомментариями. Пермь, 1995.
- Кальпиди В.О. Пласты. Свердловск, 1990.
- Кальпиди В.О. Провинция как феномен культурного сепаратизма (лирическая реплика)//Уральская новь. 2000. № 6. С. 166-175.
- Мелетинский Е.М. От мифа к литературе. М., 2000.
- Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 2000.
- Сидякина А.А. Маргиналы. Уральский андеграунд: живые лица погибшей литературы. Челябинск, 2004.
- Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического: избранное. М., 1995.
- Чернорицкая О.Л. Поэтика абсурда в аспекте литературно-художественной методологии. URL: http://samlib.ru/c/chernorickaja_o_l/abs.shtml (дата обращения 8.04.16).