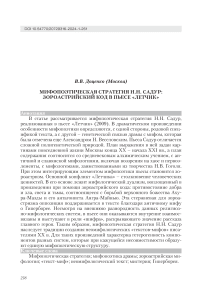Мифопоэтическая стратегия Н.Н. Садур: зороастрийский код в пьесе «Летчик»
Автор: Доценко В.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 1 (68), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается мифопоэтическая стратегия Н.Н. Садур, реализованная в пьесе «Летчик» (2009). В драматическом произведении особенности мифопоэтики определяются, с одной стороны, родовой спецификой текста, а с другой - генетической связью драмы с мифом, которая была отмечена еще Александром Н. Веселовским. Пьеса Садур отличается сложной полигенетической природой. План выражения в ней задан картинами повседневной жизни Москвы конца ХХ - начала XXI вв., а план содержания соотносится со средневековым алхимическим учением, с античной и славянской мифологиями, включая воззрения на хаос и первоэлементы, с мифологемами, заимствованными из творчества Н.В. Гоголя. При этом интегрирующим элементом мифопоэтики пьесы становится зороастризм. Основной конфликт «Летчика» - столкновение человеческих ценностей. В его основе лежит мифологический дуализм, воплощенный в произведении при помощи зороастрийского кода: противостояние добра и зла, света и тьмы, соотносящееся с борьбой верховного божества Ахура-Мазды и его антагониста Ангра-Майнью. Эта стержневая для зороастризма оппозиция поддерживается в тексте благодаря античному мифу о Гиперборее. Несмотря на внешнюю разнородность данных религиозно-мифологических систем, в пьесе они оказываются внутренне взаимосвязаны и выступают в роли «шифра», раскрывающего значение рассказа главного героя. Таким образом, мифопоэтическая стратегия Н.Н. Садур наследует традиции создания неомифологических «текстов-мифов» писателями XX в. Для таких произведений характерна гетерогенность компонентов разных систем, которые при кажущейся несовместимости образуют единую мифопоэтическую структуру.
Мифопоэтическая стратегия, мифопоэтика драмы, зороастрийская мифология, «текст-миф», неомифологический текст, мистерия, гиперборея
Короткий адрес: https://sciup.org/149145250
IDR: 149145250 | DOI: 10.54770/20729316-2024-1-251
Текст научной статьи Мифопоэтическая стратегия Н.Н. Садур: зороастрийский код в пьесе «Летчик»
Специфика мифопоэтики драматического текста определяется в первую очередь особенностями драмы как рода литературы. Благодаря исключительным условиям организации художественного пространства и времени восприятие событий в драматическом произведении осуществляется «здесь и сейчас», сближаясь с непосредственным переживанием мифа в архаических ритуалах. Ориентация на сцену отсылает к изначальной тесной связи драмы и культа, из которого она возникла. Как отмечает Александр Н. Веселовский, наличие культовых корней в драме отразилось и «в очеловеченном и человечном содержании мифа, плодящем духовные интересы, ставящем вопросы нравственного порядка, внутренней борьбы, судьбы и ответственности» [Веселовский 2011, 259].
Изучение мифопоэтики русской литературы конца ХХ – начала ХХI вв. непредставимо без опоры на достижения исследователей другого рубежного периода – Серебряного века: современная нам эпоха тоже осмысляется в художественных текстах как переходный этап истории, сопровождающийся коренным сломом в культуре. Его преодолению, в частности, служат мифопоэтические средства, направленные на восстановление целостной картины мира. Так, Д.Е. Максимов показал, что мифопоэтический уровень художественного текста может создаваться разными способами: через использование древних мифологических представлений-концепций, путем введения сюжетов и образов искусства Нового времени, благодаря собственным мифотворческим построениям автора [Максимов 1979, 21–23]. З.Г. Минц концептуализировала эти теоретические поиски. Способы обращения к мифу она разделила на традиционный и неомифологический: в первом из них автор разрабатывает известные мифологические образы и сюжеты и конструирует собственные мифы, во втором – «мифологический, литературный, исторический и современный планы изображения постоянно иронически смещаются и “мерцают” друг в друге» [Минц 1979, 120], тексты становятся полигенетическими. Такие «тексты-мифы» имеют определенную структуру: план выражения в них задан изображением современности или истории, а план содержания доступен пониманию только через соотнесение с мифом. Как отметил В.В. Полонский, мистерия – «инкарнация чистой театральности со всеми ее исконными культовыми импликациями» [Полонский 2008, 82] – глубинно наиболее родственна театру. На примере драматургии А. Белого ученый показал, что на рубеже XIX–XX вв. мистериальный характер символистской драмы выражался «стремлением заклясть обуревающий сознание хаос в художественном акте мистериального преображения мира» [Полонский 2008, 89], подобная тенденция прослеживается и в литературе XX–XXI вв.
В качестве объекта нашего исследования выбрана пьеса Н.Н. Садур «Летчик» (2009), которая заключает в себе черты, характерные для нео-мифологического «текста-мифа». План выражения в ней задан картинами повседневной жизни Москвы конца ХХ – начала ХХI вв., а план содержания соотносится со средневековым алхимическим учением, с античной и славянской мифологиями, включая воззрения на хаос и первоэлементы, с мифологемами, заимствованными из творчества Н.В. Гоголя. При этом интегрирующим элементом мифопоэтики пьесы становится зороастризм, а стремление к преобразованию реальности обнажает мистериальную основу текста. Соответственно, комбинация разных религиозно-мифологических систем формирует мифопоэтическую стратегию Садур. Рассмотрим ее реализацию на примере конкретных принципов и способов работы автора с мифологическим материалом.
Предварительно отметим, что первые работы, специально посвященные пьесе «Летчик», появились совсем недавно [Красноухова 2020; Красноухо-ва 2023]. Пристальное внимание в них сосредоточено на советском мифе об авиации и образе Москвы. Оба эти аспекта действительно участвуют в формировании мифопоэтики текста, однако они не являются исчерпывающими.
***
Зороастризм – одна из древнейших религий Ближнего Востока, которая зародилась в первых веках I тысячелетия до н. э. на «на основе религиозных верований и мифологических представлений древнеиранских племен» [Дорошенко 1982, 12], называвших себя ариями. Эксплицитно зо-роастрийские элементы явлены в пьесе на лексико-семантическом уровне: дворник-таджик Шамшид в картине 8 произносит имя Ахура-Мазды – верховного божества этой религии; в эпилоге главный герой, полярный летчик Паоло, называет его «огнепоклонником» (распространенное наименование последователей учения Заратустры) и прямо говорит: «…наши с тобой прапредки – древние арии, брат-таджик»; там же в ремарке дворник оказывается в «белоснежных одеждах зороастрийца» [Садур 2015, 110–111].
В зороастризме ярко выражено противоборство сил добра и света, возглавляемых Ахура-Маздой, и сил зла и тьмы, руководимых Ангра-Майнью: «В ответ на создание благим началом мира, жизни, света, тепла Анхра-Майньо создал смерть, зиму, холод, зной, вредных животных и насекомых» [Дорошенко 1982, 14]. Мир в зороастрийской мифологии предстает как арена борьбы противоположностей. Каждый человек самостоятельно выбирает сторону в этом противостоянии, осознавая, что оно обязательно завершится победой добра. В пьесе Садур указанный дуализм разворачивается в систему бинарных оппозиций, главная из которых – противопоставление света и тьмы. Конфликт в «Летчике» имеет мифологическую основу: химерические черные риелторы Лазуткины, очевидно избравшие темную сторону, противодействуют Паоло, который стремится к спасению и Истине, следуя по пути добра.
Уже авторское определение жанра («Ночная пьеса в 2 актах») указывает не только на время действия, но и на антитезу света и тьмы, космоса и хаоса, которая, разумеется, присутствует в разных мифологиях: «С остатками хаоса на земле связан ужас, страх, порождаемый тьмой, ночью, бесформенностью, отсутствием надежных границ между человеком и царством хаоса» [Топоров 1992, 581], – в том числе в зороастризме: «До его прихода всегда был полдень – рапитвин <…>, но Ахриман (другое имя Ан-гра-Майнью. – В.Д. ) сделал мир таким “поврежденным и мрачным”, что в полдень он стал подобным темной ночи» [Чунакова 2004, 37].
Впервые мотив света появляется в начале пьесы – в ремарке, открывающей действие картины 1, которое происходит во дворе Дома полярников в Москве: «Свет из окон дома падает на уныло опущенное лицо памятника (Гоголю. – В.Д. )» [Садур 2015, 64]. Он же завершает эту картину: «На черное месиво дворового снега ложится золотой квадрат света – зажглось окно в Доме Полярников» [Садур 2015, 66]. Источник света – окна квартиры Паоло, в картине 4 им же будут освещены Зиновий и Петя: « Лена, глядит на квадрат оконного света, в котором стоят отец и сын Лазуткины.
Л е н а. Вы в свете моего дедушки стоите» [Садур 2015, 79].
То, что действие во дворе дома происходит под светом из окон квартиры Паоло, имеет принципиальное значение для организации композиции пьесы, построенной на приеме обрамления. Можно предположить, что все происходящее мы видим глазами полярного летчика, все освещается его взглядом на мир. Поскольку герой находится в пограничном, полубредо-вом состоянии, его рассказ сложен и непоследователен. В более позднем варианте текста пьесы (2015) Садур добавила поясняющую ремарку: «Город видит сон о самом себе, все герои пьесы – это сон Города» [Садур 2015, 64], – которая, во-первых, усиливает связь Паоло с Москвой, а во-вторых, выдает установку автора на интериоризацию событий. В таком случае они утрачивают реальный статус и воспринимаются как чья-то галлюцинация. Следовательно, в плане субъектной организации пьеса образует своего рода «матрешку» из разных восприятий: город видит сон о Паоло, который искаженно воспринимает окружающий мир. Именно его полусумасшедшее сознание рождает мифологические мотивы и образы.
Прием обрамления «сращен с сюжетогенным мотивом “спасения от опасности или бедствия”» [Корзина 2008, 200]. Поводом к рассказыванию истории о соседях становится желание полярного летчика убедить дворника Шамшида бежать в Гиперборею и спасти Москву. Рамку образуют две первые картины первого действия и эпилог. Внутри нее помещен рассказ Паоло, который для него связан с экспедицией на север:
П а о л о. <…> Хочешь, я расскажу тебе что-нибудь про моих соседей? Что-нибудь веселое, увлекательное и дикое?
Ш а м ш и д (вежливо). Зачем? <…>
П а о л о. Пойми, не могу я сказать тебе, что искала наша экспедиция. Это тайна государственного значения [Садур 2015, 72].
Для Паоло цель экспедиции заключалась в поиске божественного спасения любимого города от насилия, ссор, обманов и хищничества, в которые погружены его соседи и шире – все жители Москвы.
Главный герой имеет некоторые черты Язата – персонажа из персидской мифологии, младшего бога-порождения Ахура-Мазды, который тоже способен излучать свет. В этой связи очевидно, что на мифопоэтическом уровне Таджик соотносится с зороастрийским жрецом. В картине 8 Шам-шид входит в транс и над огнем призывает Ахура-Мазду, после чего в окне появляется Паоло: «Вдруг вверху открывается золотое окно – льется заливистый озорной свист» [Садур 2015, 96].
Темнота и ночь, мифологически соотнесенные с хаосом и потусторонними силами, в пьесе персонифицированы в солдатах разведотряда. Они появляются в конце картины 1 («Через минуту во двор вбегает отряд вооруженных мужчин. Озираются, выставив перед собой автоматы. И так же молча отступают обратно, во мрак» [Садур 2015, 66]) и в картине 8 («Майор и отряд уносятся в ночь» [Садур 2015, 96]). Место привычного нахождения этих персонажей – мрак, они часть ночи и хаоса. Один из бойцов, Шкраба, очень точно определяет состояние раздробленного универсума рубежа эпох: «Кого тут сыщешь – все поперемешалось – поперепуталось в мире!» [Садур 2015, 96].
Первоначальное состояние мира до его космизации описано в картине 2, когда старик летчик объясняет Таджику, почему он не может раскрыть цель полярной экспедиции: «Я слово давал генсеку, ослепительному товарищу Сталину. Давал слово молчать, молчание типа тьмы. Чернота и бездна так молчат» [Садур 2015, 70]. Определение ослепительный в отношении Сталина – отсылка к верховному божеству зороастризма Аху-ра-Мазде, главное воспринимаемое свойство которого – беспредельный свет. Между тем представление о Сталине как о божестве, несущем свет, показано в пьесе как неверное и даже пагубное. Он не освещает путь, а ослепляет: отец Лены, который верил в избранность и исключительность вождя, разбился в дороге. Сталин назван «ослепительным», потому что он лишает зрения, а значит, распространяет тьму.
Шамшид тоже связан с зороастрийским мотивом света. В картине 1 он одет в оранжевую светоотражающую куртку дворника, а в эпилоге преображается: снимает ее с себя и «остается в белоснежных одеждах зороастрийца» [Садур 2015, 111]. Данная ремарка подтверждает, что «профанное» бытовое облачение косвенно соотносится с культом огня.
Имплицитно в пьесе присутствует образ солнца. Так, в речи героев не раз встречается название горы Памир: на ней живет жена Таджика, сигареты с этим названием курит Паоло. Согласно предположению исследователей, номинация горы восходит к имени бога солнца древних иранцев «Михр», или «Митр», поэтому слово Памир, или «Па-и-михр», «должно означать “подножье солнца или бог солнца”, то есть горную страну на востоке, из-за которой выходит солнце. По отношению к землям, населенным древними иранскими народами, Памир действительно занимает такое положение» [Агаханянц 1962, 6].
Своеобразный двойник Таджика – Электрик. Первый раз он появляется на уроке химии в картине 3 и заявляет: «Если вы будете электриков взрывать, у вас свет погаснет. В обесточенной школе учиться нельзя» [Са-дур 2015, 76]. Затем, в картине 7, он возникает в аналогичной ситуации. Здесь Электрик назван «обгорелым», то есть пострадавшим от огня. Картина 9 становится ключевой для развития образа персонажа. В актовом зале школы Электрик украшает рождественскую елку гирляндами, находясь под потолком:
Л е н а. Можно уже к елке подойти?
Э л е к т р и к. А мне-то что? Я здесь не распоряжаюсь. Я электрик! Л е н а (нежно смеется). Я думала, вы ангел [Садур 2015, 97].
В мифопоэтическом плане Электрик, с одной стороны, всегда находится рядом с источником света, поэтому его можно было бы считать приближенным к Ахура-Мазде. Однако этот второстепенный персонаж никак не взаимодействует с Паоло, а потому встраивать его в иерархию божественных образов неправомерно. Героев сближает только мотив полета.
Согласно одной из ремарок Садур, «Электрик повторяет тему летчика, но пародийно. Он такой летчик – для низких людей» [Садур 2015, 97]). Если Паоло – настоящий полярный летчик, то Электрик на детском празднике срывается с потолка и на гирлянде входит в пике. Упоминание фигуры пилотажа создает комический эффект, тогда как образ главного героя, напротив, трагичен. С другой стороны, Электрика, как и Таджика, можно сравнить с зороастрийским священнослужителем: он заботится о сохранности елочной гирлянды – источника особого, волшебного света, поддерживает ее горение, как жрец сохраняет огонь.
Итак, между тремя персонажами пьесы существует семантическая близость: Таджик разводит огонь, Паоло озаряет всех светом из своего окна, Электрик развешивает гирлянды и обеспечивает их свечение.
Финал картины 9 ознаменован угасанием света в сцене родов: «Марья Петровна издает долгий протяжный рев. От этого рева разноцветные лампочки на потолке цепочками – взрываются. Свет медленно меркнет» [Са-дур 2015, 103]. Погружение во тьму подчеркивает, что ребенок появился на свет в хтоническом мире и искусственное яркое освещение не способно противостоять окружающей темноте.
В эпилоге, после исчезновения Паоло и Таджика, Майор разведотряда отдергивает штору, «смотрит в ночь» и заключает: «Он сделал это! Проклятый летчик! Сделал! Он забрал с собой Москву» [Садур 2015, 113]. В окне персонаж увидел безграничную первозданную пустоту.
Безусловно, борьба света и тьмы, истоки которой у Садур восходят к зороастризму, выступает ключевым элементом мифопоэтической структуры пьесы, в целом объясняет ее композицию, соотнесенность образов и авторскую идею. Другая значимая часть мифопоэтического мира произведения – античный миф о Гиперборее, который интегрируется в зороа-стрийские представления.
Гиперборейская страна – это идеальное царство, не имеющее определенной локализации и представляющее собой «не столько географическую местность, сколько определенного рода социальную категорию» [Лосев 1996, 477]. С гиперборейцами связан упоминавшийся ранее мотив полета. Так, Лукиан писал: «Я считал совершенно невозможным верить им, и, однако, как только впервые увидал летающего иностранца, варвара, – он назвал себя гиперборейцем, – я поверил… И что, в самом деле, оставалось мне делать, когда на моих глазах днем человек носился при мне по воздуху, ступал по воде и медленным шагом проходил сквозь огонь» [Лосев 1996, 467]. Как известно, в Гиперборею невозможно попасть привычным способом. Это представление закрепилось и в сочинениях Ф. Ницше: «Ни по воде, / ни по суше / к нам туда не добраться – / к гиперборейцам» [Ницше 2006, 507–508].
Сходная идея о недоступной северной стране встречается в мифологии арийских народов: «Сохранилось немало легенд, повествующих о пути в мифические северные страны, которые и древним индийцам, и древним иранцам казались недоступными. И если кому-то удавалось попасть туда, то он добирался лишь, как сообщают предания, особым, чудесным образом. Эти- ми “счастливцами” обычно оказывались не цари и воители, а святые мужи, обладавшие магическими таинствами жрецы, прославленные священнослужители, высокочтимые мудрецы» [Бонгард-Левин, Грантовский 1983, 92]. Неудивительно поэтому, что тайна Гипербореи открылась Паоло – полярному летчику, который, очевидно, близок по духу гиперборейцам.
Можно найти и более точное определение местоположения этой страны, с точки зрения древних, – «под Полярной звездой и созвездием Большой Медведицы» [Халилова 2022, 76]. Поэтому опосредованно ее образ возникает уже в ремарке, описывающей интерьер комнаты Паоло в картине 2: «В углу комнаты, главная роскошь, всех поражающая, – чучело белого медведя» [Садур 2015, 66]. Более того, именно в чучеле находится вход в Гиперборею, который используют Паоло и Таджик, планируя спрятать там Москву: «Гиперборея, как шкура моей матери – белой медведицы, она вберет в себя этот город и спрячет его навсегда, навсегда» [Садур 2015, 111].
Паоло берет с собой в путешествие Таджика, который обладает знаниями жреца, необходимыми для такого перемещения. В пьесе эти знания описаны намеренно сниженно: «Мне нужен был товарищ, тот, что благоразумно прячет кусочки сахара на груди, зная, как пригодятся они в ледяных скитаниях» [Садур 2015, 111].
Приведенные сведения о гиперборейском мифе демонстрируют внутреннюю согласованность и взаимосвязь этой части мифопоэтической системы пьесы с элементами зороастрийской мифологии.
Как видно, мифопоэтическая стратегия Садур состоит в активном освоении и преобразовании разных религиозно-мифологических систем с ориентацией на одну магистральную, что в полной мере соответствует структуре неомифологического «текста-мифа». Однако автор этой концепции, З.Г. Минц, применяла ее для анализа лирических и эпических произведений Серебряного века. Она отмечала, что в драматическом тексте почти всегда «собственно неомифологические тенденции отодвинуты на задний план» [Минц 1979, 120], сменяясь традиционным подходом к мифам. На этом же акцентировал внимание В.В. Полонский: для мифопоэтических поисков Серебряного века в области драматургии характерно в первую очередь осмысление и переработка античного материала [Полонский 2008, 84]. Мифопоэтика пьесы Н.Н. Садур очевидно отличается от драматических разработок рубежа XIX – XX вв. мифологическим материалом и полигенетическим подходом к нему. Специфика мифопоэтики драматического произведения определяется его потенциальной постановкой на сцене и «проживанием» событий художественного мира в реальном времени, что реактуализирует модальность непосредственного восприятия, свойственную мифу. Во многом поэтому большое внимание в тексте Садур уделено визуальной составляющей (свет из окна, костер, гирлянды). Речь здесь идет не только о сценическом эффекте: восходящее к зороастрийским представлениям противоборство света и тьмы образует основной конфликт «Летчика» и стержень его мифопоэтической структуры.
Список литературы Мифопоэтическая стратегия Н.Н. Садур: зороастрийский код в пьесе «Летчик»
- Агаханянц О.Е. Между Гиндукушем и Тянь-Шанем: история изучения природы Памира. Душанбе: Таджикгосиздат, 1962. 127 с.
- Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А. От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история. М.: Мысль, 1983. 206 с.
- Веселовский А.Н. Избранное: Историческая поэтика. СПб.: Университетская книга, 2011. 687 с.
- Дорошенко Е.А. Зороастрийцы в Иране (Историко-этнографический очерк). М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1982. 133 с.
- Красноухова Ю.С. Культурная основа в изображении топоса Москвы в пьесе Н.Н. Садур «Летчик» // Сибирский филологический журнал. 2023. № 1. С. 193–203.
- Красноухова Ю.С. Советский миф об авиации в пьесе Н. Садур «Летчик» // Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения: сборник материалов VII (XXI) Международной научно-практической конференции молодых ученых (16–18 апреля 2020 г.). Вып. 21. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2020. С. 349–352.
- Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. М.: Мысль, 1996. 975 с.
- Максимов Д.Е. О мифопоэтическом начале в лирике Блока (Предварительные замечания) // Творчество А.А. Блока и русская культура XX века: Блоковский сборник III. Тарту: ТГУ, 1979. (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 459). С. 3–33.
- Минц З.Г. О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов // Творчество А.А. Блока и русская культура XX века: Блоковский сборник III. Тарту: ТГУ, 1979. (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 459). С. 76–120.
- Ницше Ф. Черновики и наброски 1887–1889 гг. Лето 1888 // Ницше Ф. Полное собрание сочинений: в 13 т. Т. 13. М.: Культурная революция, 2006. С. 497–521.
- Полонский В.В. Мифопоэтика и динамика жанра в русской литературе конца XIX – начала XX века. М.: Наука, 2008. 285 с.
- Корзина Н.А. Рамка // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / [гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко]. М.: Издательство Кулагиной; Intrada, 2008. С. 200–201.
- Садур Н. Чудная баба. М.: АСТ, 2015. 320 с.
- Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М.: Издательская группа «Прогресс» – «Культура», 1995. 624 с.
- Топоров В.Н. Хаос первобытный // Мифы народов мира: в 2 т. Т. 2 / гл. ред. С.А. Токарев. М.: Советская энциклопедия, 1992. C. 581–582.
- Халилова Т.Ш. Гиперборея в античных и индоперсидских источниках // Вестник Международной академии наук. Русская секция. 2022. № S1-1. С. 76–81.
- Чунакова О.М. Пехлевийский словарь зороастрийских терминов, мифических персонажей и мифологических символов. М.: Восточная литература, 2004. 286 c.