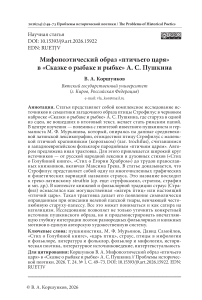Мифопоэтический образ «птичьего царя» в «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина
Автор: Коршунков В.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.24, 2026 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой комплексное исследование источников и семантики загадочного образа птицы Строфилус в черновом наброске «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, где старуха в одной из сцен, не вошедших в итоговый текст, желает стать римским папой. В центре изучения — полемика с гипотезой известного пушкиниста и германиста М. Ф. Мурьянова, который, опираясь на данные средневековой латинской лексикографии, отождествил птицу Строфилус с маленькой птичкой крапивником (корольком) (лат. trochilus), считавшимся в западноевропейском фольклоре пародийным «птичьим царем». Автором предложена иная трактовка. Для этого привлекается широкий круг источников — от русской народной лексики и духовных стихов («Стих о Голубиной книге», «Стих о Егории Храбром») до трудов православных книжников, включая Максима Грека. В статье доказывается, что Строфилус представляет собой одну из многочисленных графических и фонетических вариаций названия страуса. Это название восходит к греко-латинскому struthio (ср. еще: струфокамил, стратим, страфил и мн. др.). В контексте книжной и фольклорной традиции страус (Страфил) осмыслялся как могущественная «матерь птиц» или настоящий «птичий царь». Такая трактовка делает его появление символически оправданным при описании нелепой папской тиары, венчающей честолюбивую старуху-папессу. Все это может пониматься и как сатира на католицизм. Исследование позволяет не только уточнить конкретный источник пушкинского образа, но и продемонстрировать впечатляющую глубину интеграции поэтом разнородных фольклорных и книжных мотивов в единую авторскую художественную систему.
Пушкинистика, М. Ф. Мурьянов, Давид Самойлов, «Стих о Голубиной книге», «царь птиц», страус, птицы в мифологии и фольклоре, литература и фольклор, фольклор и мифология, истори- ческая поэтика, литературное источниковедение, интертекстуальность
Короткий адрес: https://sciup.org/147253030
IDR: 147253030 | DOI: 10.15393/j9.art.2026.15922
Текст научной статьи Мифопоэтический образ «птичьего царя» в «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина
«Сказку о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкин написал осенью 1833 г. в Болдине. Первоначально он включил в нее эпизод с превращением корыстной и честолюбивой старухи, который не вошел в окончательный вариант текста. А именно: перед тем как возжелать стать владычицей морскою, она захотела примериться к папскому престолу. Возвращаясь в очередной раз с морского берега, старик видит твердыню католической веры:
«[Перед ним монастырь] латынский —
На стенах монахи
Поют латынскую обедню
Перед ним вавилонская башня
На самой на верхней на макушке
Сидит его старая старуха
На старухе сорочинская шапка
На шапке венец латынский На венце тонкая > спица На спице Строфилус > птица» [Пушкин, 1995: 1087–1088].
В конце XIX в. В. В. Майков предполагал, будто Пушкину, приехавшему в Оренбургскую губернию, сюжет «Сказки о рыбаке и рыбке» сообщил знаток и собиратель фольклора В. И. Даль [Майков В.], притом что явные указания на это не известны. Майков обратил внимание на несколько русских народных сказок, в чем-то похожих на пушкинскую, и решил, что не одна только Арина Родионовна делилась с поэтом затейливыми фольклорными историями. Хотя один из специалистов-современников работу Майкова назвал «превосходной» [Сумцов: 118], но сейчас понятно, что это не так. Дядя В. В. Майкова Л. Н. Майков, не указывая прямо на статью племянника, допускал, что Пушкин и в самом деле мог получить от Даля «материал для своей сказки», однако уже задолго до того «стал перекладывать в стихи народные сказки, слышанные им от своей няни» и заинтересовался славянским фольклором [Майков Л.: 425–426]. Некий русский священник из Стокгольма, откликнувшись на статью В. В. Майкова, уверял, что у немцев и шведов существует много народных сказок, очень похожих на пушкинскую, но при этом делал парадоксальный вывод: Пушкин мог-таки использовать аналогичную русскую сказку1.
Позднее фольклорист М. К. Азадовский, отметив, что сходные по сюжету русские народные сказки значительно отличаются от сказки пушкинской, утверждал, вслед за некоторыми своими предшественниками: «…сказка Пушкина выпадает из русской традиции, но всецело примыкает <…> к традиции западноевропейской. Ближе всего она к сказке сборника бр[атьев] Гримм» [Азадовский: 138]. К нашему времени окончательно установлено, что источником этого сюжета стала опубликованная братьями Гримм померанская сказка «Рыбак и его жена»2 (похожий вариант из того же сборника — гессенский)3. Не зная немецкого языка (тем более его диалектов), но увлекаясь сказочным фольклором, Пушкин читал эту сказку братьев Гримм в имевшемся у него французском издании4, а среди его рисунков лета 1833 г., когда он писал свою сказку, есть набросок двух мужских изображений, в которых Т. Г. Цявловская опознала Якоба и Вильгельма Гриммов [Цявловская: 339].
Уже в нашем веке было высказано мнение, что источником для Пушкина могла быть 21-я идиллия Феокрита «Рыбаки» (с оговоркой, что это «не отменяет обращения к иным источникам…») [Шульц: 129]. Действительно, прямых доказательств нет, да и сюжет сказки Пушкина совсем не схож с феокрито-вым (а на немецкую народную сказку пушкинская очень похожа). Не Пушкин, а Н. И. Гнедич переводил Феокрита и под впечатлением от его творчества создал свою русскую идиллию «Рыбаки» (1821). Единственное, что роднит текст Пушкина с Феокритом — у античного поэта рыбак во сне вытянул рыбу из золота (в немецкой сказке волшебница-камбала вовсе не золотая). Возможно, счастливая идея назвать сказочную рыбку золотой и на самом деле восходит к феокритовой идиллии5.
Литературоведы изучали самые разные особенности «Сказки о рыбаке и рыбке», делая интересные, подчас неожиданные открытия. В. С. Непомнящий обнаружил в ней глубокий философский смысл: «Это — сказка об угнетении равного равным…»; «Сказочный сюжет превращается в философский, сказка о наказании за алчность — в притчу о преходящем и вечном» [Непомнящий: 162, 164]6. Г. П. Макогоненко, вслед за И. П. Лупа-новой, указал на социальную структуру нарисованной Пушкиным картины: угнетенные крепостные крестьяне, а над ними властвует бездушная, жестокая знать и монархи-самодуры. «Желания старухи точно социально обусловлены…»; метаморфозы старухи наглядно раскрывают ее социальную психологию: «С переменой социального положения шло и извращение человеческой натуры старухи, наглядно раскрывалась растлевающая сила собственности и власти». То есть «Пушкин показал социальную неотвратимость вырождения господствующего сословия…» [Макогоненко: 24–26]7. В. А. Кошелев раскрыл затаенный трагизм личной жизни поэта: «С "биографической" точки зрения "Сказка о рыбаке и рыбке" — метафизическая притча Пушкина о собственной "женатой" жизни»; «Предметом пушкинской сказки становится как раз семейная дисгармония»; «Собственно, "Сказка о рыбаке и рыбке" — это представление Пушкина о жене как "обстоятельстве" его бытия» [Кошелев: 10, 11, 13]. Неужели красавица Наталья Николаевна, хотя и не выглядела старухой, тоже раз за разом демонстрировала мужу все большие свои амбиции: новенького корыта и добротной избы ей уже было мало, она мечтала стать царицей и владычицей морскою?‥
В последние годы выходит множество статей об этой пушкинской сказке. Ее читают в детских садах и школах, предлагают иностранным студентам — значит, педагоги и филологи пишут о восприятии сказки детьми, о понимании иностранцами ее лексики и фразеологии, о переводах на иностранные языки. Вслед за известными учеными-пушкинистами авторы рассуждают о художественных образах, мифофилософском подтексте и уроках сказки. Вопрос об источниках сюжета представляется решенным.
В немецкой сказке жена рыбака, улучшив с помощью необычной камбалы свое материальное положение (обретя хороший дом, а потом замок), последовательно становилась королем, императором, римским папой. И только возжелав сделаться Богом, она вернулась в свое первоначальное состояние. Комментаторы отмечали, что мотив стремления крестьянки быть римским папой имеется и в исходной немецкой сказке, и в пушкинском черновике (см., например: [Пушкин, 1936: 560–562]. Б. В. Томашевский судил так: «Свободно переделывая сказку, Пушкин заменял западноевропейский колорит народным русским. Вероятно, поэтому он исключил из окончательной редакции эпизод о старухе, ставшей "римской папой". Эпизод этот находится в немецкой сказке, но он слишком противоречит русскому колориту…» [Томашевский: 435]8.
Не так давно С. А. Фомичев вновь привлек внимание к тому, что Пушкин и Даль интересовались народными сказками, но он не ставил задачей опровергнуть гипотезу о тексте из сборника братьев Гримм как основном источнике «Сказки о рыбаке и рыбке» [Фомичев]9.
Известный филолог-германист и пушкинист М. Ф. Мурьянов, исследовавший эпизод с римским папой в пушкинской сказке, рассуждал: «Картина оригинальна, не имеет ничего общего с описанием этого эпизода в сказке братьев Гримм и тем более с церемониалом Ватикана: она выглядит как непонятный гротеск в сравнении с меткими штрихами реалистических портретов старухи в роли столбовой дворянки и царицы». По его мнению, «наиболее обещающим для текстологического разбора должно быть ключевое слово Строфилус, в русской лексикографии отсутствующее» [Мурьянов, 1971: 104]. Незадолго до того Ф. Я. Прийма заметил: «Появление Стрефилус-птицы (так! — В. К. ) в этой "немецкой" по происхождению сказке не привлекало еще, насколько известно, внимания исследователей. А между тем оно заслуживает специального рассмотрения» [Прийма: 116].
Если издатели пушкинских сочинений после слова «Стро-филус» ставят знак вопроса, то вот почему. С. М. Бонди изучал черновые рукописи Пушкина и в своей первой книге 1931 г. обратился к сюжету о превращении старухи в римского папу. Он определил, что «было написано "Стофилус", зачеркнуто, внизу начато "строф" и тоже зачеркнуто» [Бонди: 55, прим.]. Пожалуй, можно считать доказанным, что Пушкин имел в виду птицу Строфилус. Но все же не Стрефилус , такой формы нет (см. НКРЯ), хотя количество вариантов имени сказочной птицы в разных текстах весьма велико.
Вообще-то в аналитическом каталоге фольклорно-мифологических мотивов Ю. Е. Березкина и Е. Н. Дувакина мотив К151 с условным названием «Золотая рыбка» обнаруживается в десятках фиксаций: «Волшебный помощник удовлетворяет простое желание бедняка. Бедняк или его жена просят все больше. В конце концов помощник наказывает просящего (обычно отбирая все, что было дано)». Все они отмечены в Евразии (притом что Африка, Австралия и Новый Свет в этом каталоге представлены с достаточной полнотой). Не везде волшебный помощник — рыба, но почти все такие вариации именно в Европе. Версии с папой или папессой, помимо тех, что в сборнике братьев Гримм, имеются у немцев Эльзаса, французов Пикардии, у хорватов, греков и поляков10. Использование такого нового, совершенного инструмента, как каталог фольклорно-мифологических мотивов народов мира, позволяет значительно увеличить поиск аналогий, выявлять этническое и географическое распределение, ставить уточняющие исследовательские вопросы.
Как будет показано, Мурьянов прав: «Строфилус» — это ключевое имя для понимания пушкинского черновика. Казалось бы, справедливо и другое его рассуждение: это слово в русской лексикографии неизвестно. Даже с помощью появившегося с тех пор ценного свода «Национальный корпус русского языка» это слово не найти. Зато его разновидность (без латинского окончания) обнаружилась в «Словаре русских народных говоров». Это краткое изложение легенды, записанное в Вятской губернии в 1892 г.: « Строфил , м. Мифическое существо — птица, живущая в море, которая может поднять волны и уничтожить всех людей нехристианской веры. "Строфил — баснословная птица, которая, по поверью, живет в море, детей водит под камнем, и, если встрепенется, колыхнется море и зальет неверный мир"»11. То, что эта легенда (явно книжного происхождения) замечена на Вятке, не означает, будто иноземное имя баснословной птицы — это вятский диалектизм, который непременно нужно было поместить в таком словар е. Но все же хорошо, что он там есть.
Вятская легенда — один из множества пересказов старинного, восходящего к апокрифам стихотворного произведения. Прежде оно исполнялось нараспев как духовный стих. Его принято называть «Стихом о Голубиной книге» или просто «Голубиной книгой». Фольклорные варианты «Голубиной книги» были напечатаны в 1861 г. П. А. Бессоновым12. В этом духовном стихе, с его космологическим содержанием, текст выстроен в форме вопросов и ответов о мироустройстве. Там повествуется, кто над царями царь, что за город всем городам отец, кого или что нужно числить главным из зверей, рыб, камней, трав, морей и т. п. Среди прочего упомянута «матерь птиц», которая в одних вариантах названа Нагай-птицей, но чаще именуется птицею Страфиль (иначе Естрафиль и т. п.)13.
В XIX в. видные российские филологи исследовали «Стих о Голубиной книге», обращая внимание на обрисованную в нем баснословную птицу — «грандиозный образ», как выразился А. Н. Веселовский. Он предположил, что на необузданную народную фантазию о птице Страфиль повлияли апокрифические тексты о небывалых птицах [Веселовский: 215–216]. В. Н. Мочульский, комментируя «Стих о Голубиной книге», заключил, что свойства, приписываемые птице Страфиль, относятся к нескольким чудесным птицам с различными именами [Мочульский: 142–143]. А. И. Кирпичников изучил особенности образа птицы Страфиль в «Стихе о Голубиной книге». Он сделал вывод о некоторых «более или менее реальных родителях сказочного Страфиля», а именно: «…От пеликана унаследовал он нежность к птенцам; от страуса имя, величину и остроту его зрения; от алкиона влияние на море…». Таковы, согласно Кирпичникову, только самые очевидные птицы-предшественники, а есть еще и другие [Кирпичников: 105].
Мурьянов высоко оценил наблюдение Приймы, указавшего на имя птицы в черновике Пушкина. Он счел доказанным, что Пушкину «Голубиная книга» была знакома: «Это новый конкретный факт в системе связей творчества Пушкина с фольклором. Он мог знать о ней от П. В. Киреевского, но, по нашему мнению, не исключается и вероятность непосредственного слушания поэтом "калик перехожих"» [Мурьянов, 1971: 104–105]14. Сам Мурьянов, однако, отмечал, что при написании своей сказки «Пушкин находился в деревенской глуши, Стих о Голубиной книге еще не был издан, углубляться в филологические разыскания у поэта как будто не было никакой возможности» [Мурьянов, 1971: 105]. И главное: Мурьянов не придал значения многочисленным разновидностям имени волшебной птицы из «Голубиной книги». Его интересовала только та, что встретилась у Пушкина — Строфилус. А это слово, полагал Мурьянов, не засвидетельствовано в русской лексикографии. Он утверждал: «…Но существует упрямый факт — название Строфилус в этой фонетической форме мы обнаружили не в записях русских фольклористов, а только в материалах средневековой латинской лексикографии…». Слово strofilus, настаивал Мурьянов, известно по рукописи английского происхождения, датированной 1200 г. По его суждению, это разновидность более правильного написания trochilus, которое происходит от древнегреческого troc…loj. Так называли небольшую птичку, в том числе, очевидно, крапивника либо королька. В западноевропейском фольклоре это кто-то вроде «птичьего царя». Правда, крапивник — птичка крохотная, зато с необычайно звучным голосом. По старинной легенде, между птицами было устроено состязание, кто выше взлетит. Выше всех поднялся орел, но в последний момент с его спины вспорхнул крапивник. По-немецки его обычно именуют названиями, в которых подчеркивается королевское достоинство: Schneekönig (буквально: «снежный король»), Zaunkönig («король на заборе») [Мурьянов, 1971: 105–106]. К западноевропейским материалам можно добавить, что в славянских поверьях королек или крапивник — персонаж сказки о выборе птичьего царя. Королек выиграл состязание обманом. Иногда этот сюжет имел продолжение: рассерженные птицы захотели сделать царем того, кто глубже всех спустится в землю. Но и тут королек всех перехитрил: он залез в мышиную нору. Когда же обман раскрылся, невзрачная пташка стала прятаться под забором. В славянских обозначениях королька отражены эти мотивы. Таковы, например, украинские выражения «королик», «царик», «миший краль», «мишова птаха». В наименованиях птички может фигурировать слово «забор»: она — «подзаборный король» или «подзаборник». Мотив одурачивания отражен в названиях вроде «облуда», «дурихлопчик», «дурич», «дурильце» и т. п. [Гура, 1997: 710–711; 1999]. Этот сюжет во всей полноте представлен в каталоге фольклорно-мифологических мотивов: «Птицы спорят, кто из них взлетит выше или прилетит первым. Побеждает тот, чья победа казалась маловероятной (он прячется в перьях сильной птицы и взлетает вместе с ней)». Такие легенды распространены по всей Европе, но записывались также на Кавказе и в Малой Азии, в Тибете, Индии, Малайзии, Индонезии, в Южной Сибири и Монголии [Березкин, Дувакин]15. Другой похожий сюжет, известный в Африке, Европе, на Кавказе и в Малой Азии, в Тибете, Индии, Бирме и Индокитае, в Южной Сибири и Монголии: «Филин (Сова) был главным среди птиц, претендовал на это или плохо себя проявил при выборе главы птиц; теперь он избегает других птиц и/или другие птицы его преследуют» [Березкин, Дувакин: B89. «Филин — царь птиц»]16.
Итак, Мурьянов предположил, будто слово Строфилус (strofilus), выисканное им в некой английской рукописи, — это искаженное греко-латинское trochilus. Тогда получается, что птица, угодившая в пушкинскую сказку, — «трохиль», то есть крапивник (королек). Специалист по ассириологии и русской культуре В. В. Емельянов, принимая наблюдения Мурьянова, сомневался лишь в том, что крохотный крапивник, из «семейства колибри, может закрывать собою небо», как то полагается птице, о которой повествовалось в «Голубиной книге». По его версии, это должна быть священная птица шумеро-аккадской и иудейской традиции «зиз» или Анзу [Емельянов: 32–34].
Чтобы бесплодно не увязнуть в древневосточной мифологии, не следовало бы доверять построениям Мурьянова и развивать их. О гипотезе Мурьянова в одном из примечаний к своей книге критически отозвался М. В. Пащенко: «Ученый почему-то уверен, что Пушкин не мог сам выдумать латинизированную форму (казалось бы, отработанный школярский трюк) и где-то уже в таком виде ее позаимствовал; нелегкое разыскание источника пушкинского окказионализма приходит к периферийной западноевропейской легенде о мелкой птичке крапивнике; то, что Пушкин мог знать ее и тем более использовал, подтвердить и вовсе невозможно» [Пащенко: 531, прим. 28].
Дело в том, что слово «Строфилус» в пушкинском тексте, вопреки мнению Мурьянова, не является ни уникальным, ни малопонятным. Оно явно появилось под влиянием латинского обозначения страуса — struthio. Мурьянову было известно, что исследователи «Голубиной книги» под птицей Строфил (Строфиль) понимали страуса, но он не придал этому значения. Именно огромный, быстрый, сильный страус по праву мог бы считаться царем птиц. А мелкая пташка королек (крапивник) тут вообще ни при чем. Даже в легендах это царь не настоящий, а пародийный, самозваный, который хотел добиться своего высокого положения обманом. Совсем не то — страус! Каково же происхождение такого наименования страуса в латыни — struthio?
Экзотического африканского страуса древние греки назвали «воробьем». Воробей по-гречески — strouqÒj ( струтос / струфос ). Правда, приходилось уточнять, что речь идет не об обычном воробушке. Тогда указывали: mšgaj strouqÒj («большой воробей»), strouqÕj kat£gaioj («наземный воробей»), strouqÒj Ð LibukÒj («ливийский воробей», то есть африканский), strouqÒj Ð ™n LibÚV («тот воробей, что в Ливии») и т. п. В конце концов, древние греки стали именовать страуса «воробьеверблюдом»! K£mhloj ( камелос/камилос ) — «верблюд», так что слово strouqok£mhloj ( струтокамелос/струфокамилос ) именно так и переводится. Пожалуй, более позднее по времени употребления слово характеризует гигантскую птицу точнее, чем просто «воробей» (хотя и этак забавно). К греческому слову strouqok£mhloj восходят церковнославянские и старинные русские наименования сказочных птиц: «струфокамил», «стратил», «стратим» и др. ([Thompson: 159–160], [Steier: 339–341], [Коршунков: 53–54])17. Так что по-латыни страуса обозначали заимствованным греческим словом — struthio. Из латыни воробьиное наименование вошло в современные языки и, наконец, превратилось в русской речи в привычную для нас форму — «страус» [Черных: 207]. При этом воспринятое биологами обозначение одного из видов африканских страусов — все то же фантасмагорическое struthio camelus («воробей-верблюд») [Коршунков: 53].
В «Стихе о Голубиной книге» матерью всех птиц названа как раз птица Страфил(ь). В многочисленных вариантах текста «Голубиной книги» на этом месте встречаются такие слова, как «естрафиль», «истрофиль», «страхиль», «стрихиль», «вострихиль», «страхвирь», «страфель», «стрефел», «страфил» — графические искажения греко-латинского термина [Фасмер: 771]18.
А. Д. Синявский рассказывал о «Голубиной книге» в своих университетских лекциях, из которых выросла популярно написанная книга о традиционных верованиях русского народа. Вопреки устоявшемуся мнению ученых, он сомневался, что имя грозной птицы Стрефил или Страфил (согласно легенде, жившей где-то у моря) связано со страусом: «…это не доказуемо, а страусы, как известно, не живут на море». По его суждению, слово «Стрефил» может иметь отношение к слову «трепет», и это «трепет крыльев, трепет света, трепет музыки или пения». Этимологическими разысканиями он не занимался и честно признал: «Разумеется, все это лишь домыслы, а не окончательное решение» [Синявский: 277–278]19. Так и есть.
В ряду разнообразно трансформировавшихся имен «матери птиц» вполне убедительно смотрится «Строфилус птица» из пушкинской сказки. Там она с латинским окончанием -us, потому как речь у Пушкина заходит о католиках-латинянах20.
На Руси о струфокамиле были наслышаны. Страусовое яйцо издавна вывешивали в храмах. Максим Грек в первой половине XVI в. написал для поучения своих русских читателей короткий текст «Слово о хранении ума»: «Струфокамилъ животно есть, обретаемо во странахъ ливийскихъ, великъ съ собаку, крыле о немъ кожаные, тело голо, перья несть, ходитъ не летаетъ, яицо его велико, бело зело и гладко, егоже обычай есть церковникомъ вешати его въ церкви подъ пани-кадиломъ поучениа ради, а не красоты; учатъ бо насъ темъ, да всегда мысленныя очи наши, еже есть умъ нашъ, имеимъ простерта съ прилежнымъ вниманиемъ къ самому сотворившему насъ преблагому Богу, аще воистину желаемъ плодовиты сотворити душа наша, а не бесплодныхъ якоже птица сиа положивши яйцо свое противу себе неуклонно утвержа-етъ къ нему око свое и зрениемъ своимъ непрестаннымъ плодовито творитъ е; аще же по случаю которому отведетъ око свое отъ н его, гниетъ и ципляти въ немъ не зачинается»21.
Яйцо страуса в церкви под паникадилом обозначало неусыпное бдение, творение, жизнь. По суждению Мочульского, «церковь популяризировала имя страуса среди народа русского…» [Мочульский: 143]. В христианской традиции страус обрел положительные коннотации. Он символизировал того, кто истинно верует и во всем надеется на Бога [Иванов, Топоров: 349].
В 1674 г. Андрей Виниус, государственный деятель немецко-нидерландского происхождения, составил сборник притч под названием «Зрелище жития человеческого», ставший в России очень популярным. Для своего сборника Виниус переводил и пересказывал книгу басен «Theatrum morum» («Зрелище нравов»), изданную на немецком языке фламандским художником Эгидием Саделером в Праге в 1608 г. Среди прочего, у Виниуса есть главка «О строфокамиле и соловеи». Начинается она так: «Строфокамилъ приступи к соловею, зѣло себе хваляше, глаголя: над всѣми птицами первенство имѣти и яко не точию величества ради тѣлеси своего, но яко перия его употребляютъ знаменитии на главѣхъ своих. Соловей же хвалися, яко сладкихъ ради пѣсней повсюду от всѣхъ любимъ бяше». Далее мораль: Бог каждого наособицу наделяет — дает всякому «своя дарования». Вот и в древности перед «кесарем Дометианом» разные умельцы на арене театра со своим собственным мастерством выступали: атлеты боролись, стихотворцы декламировали стихи, ораторы произносили речи и т. п. [Тарковский, Тарковская: 362]. Обратим внимание: в книге Виниуса страус заявляет, что у него первенство над всеми птицами. Именно он у них главный.
Эта птица — громадная, мощная, быстрая. Согласно формулировке В. И. Даля, это «величайшая из нынешних птиц», которая «бегает, как конь»22. Баснословие вознесло страуса в высший ранг, сделав равным царю зверей льву, а церковная традиция наделила его религиозно-духовными смыслами. В старинной славянской книжности, легендах, сказках, в «Голубиной книге» и «Стихе о Егории Храбром» страус, осмыслявшийся мифологически, занимал место видное и завидное. Устные и письменные тексты, где упоминалась могучая царь-птица, по-видимому, были особенно важны для старообрядцев, которые бережно хранили культурные смыслы далекого прошлого. Значит, «Строфилус птица» у Пушкина — обрусевший, прижившийся у нас птичий царь. Таковой страус, уже фолькло-ризированный, оказался достойным украсить собою головной убор римского папы, пусть даже в «Сказке о рыбаке и рыбке» этот папа и не настоящий, а некая самопровозглашенная папесса. Дурная старуха в роли римского первосвященника — это, конечно, злая сатира на католичество. Тем более когда у вчерашней простолюдинки на голове шапка нехристей-сара-цинов и на ней «венец латынский» со страусом, наподобие того, как у знатной дамы страусовое перо в высокой прическе.
Интересно, что в обиходе римских пап действительно использовались страусовые перья. До недавнего времени в Ватикане имелся специальный переносной папский трон для торжественных церемоний (sedia gestatoria). Папа на нем восседал, двенадцать человек поднимали этот трон, а по бокам несли два опахала (flabella). Подобные опахала с древних времен применялись при церковных обрядах. Они делались из кожи, шелка, пергамента или перьев. И нередко это были перья страуса. Для церемониальных выносов папы на троне изготавливались опахала большие, белые — из страусовых перьев ([Mershman], [Oliger]).
Страус, обозначенный на традиционный лад, объявился и в поэме Давида Самойлова «Струфиан: недостоверная повесть» (1974)23 о таинственном исчезновении в Таганроге императора Александра I. В самом заглавии поэмы фигурирует старинное обозначение царя птиц. Правда, такое слово не отмечено в письменных источниках среди множества вариантов, происходящих от греческих strouqÒj и strouqok£mhloj24. Но сомнения быть не может: тому порукой герой поэмы, старец Федор Кузьмич, который, согласно фантастической версии поэта, поначалу был донским казаком, жителем Таганрога. Этот «уездный Сен-Симон» составил маловразумительный трактат о переустройстве Российской империи. Там, среди прочего, предлагалось вернуться к старообрядчеству. Наверное, свойственная многим казакам приверженность старой вере позволила Федору угадать, что предстало перед ним, когда он пролез в сад, где прогуливался обуянный мрачными предчувствиями Александр. С неба со странным звуком спустилось нечто переливчатое:
«Он видел в сорока шагах, Как это чудо, разгораясь, Вдруг поднялось на двух ногах И встало, словно птица страус. И тут уж Федор пал в туман, Шепча: "Крылатый струфиан…"»25.
Сочиняя свою «недостоверную повесть», Давид Самойлов вдохновлялся загадочными письменами, оставшимися после сибирского старца Федора Кузьмича. Среди прочего, на узком листе бумаги (то ли рукою самого старца, то ли кого-то еще) было начертано: «а. Крыютъ, Струфиaнъ». (Именно так, с ошибкой в последнем слове: буква иже вместо и десятеричного. Да и вместо буквы ферт лучше бы проставить фиту.) Фотографическое воспроизведение записи помещено, например, в книге литератора В. В. Барятинского, который не сомневался, что Федор Кузьмич — это и есть бывший император26. Сам Барятинский почему-то разглядел во втором слове лишний слог («а крыются струфиaнъ») и толковал надпись весьма вольно: «Я скрываю тебя, Александр, как страус, прячущий голову под крыло»27. Если невнятная фраза и в самом деле начертана старцем, человеком очень религиозным, то для него символика страуса не сводилась бы к тому, что анекдотическая по своей глупости птица якобы прячет голову в песок при малейшей опасности.
Давид Самойлов с детства привык читать и перечитывать Пушкина28. Истинному пророку (ветхозаветному и из одноименного пушкинского стихотворения) некогда явился грозный шестикрылый серафим, а карикатурный пророк у Давида Самойлова узрел пародийного крылатого струфиана.