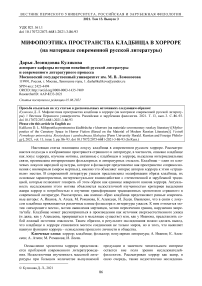Мифопоэтика пространства кладбища в хорроре (на материале современной русской литературы)
Автор: Куликова Дарья Леонидовна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 т.13, 2021 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья посвящена локусу кладбища в современном русском хорроре. Рассматриваются подходы к изображению пространств страшного в литературе, в частности, описано кладбище как локус хоррора, изучены мотивы, связанные с кладбищем в хорроре, выделены интермедиальные связи, произведена интерпретация фольклорных и литературных отсылок. Кладбище - один из ключевых локусов народной культуры, которое в фольклоре представлено как пространство соприкосновения с иномирным (миром мертвых), именно это объясняет интерес авторов хоррора к этим «страшным» местам. В современной литературе ужасов представлены модификации образа кладбища, их основные характеристики, интертекстуальное взаимодействие с отечественной и зарубежной традицией, которые позволяют говорить об этом образе как единице жанрового канона хоррора. Актуальность исследования этого мотива объясняется недостаточной изученностью критериев выделения жанра хоррор и потребностью в изучении трансформации традиционных хронотопов страшного в современной литературе. Рассмотрено, как именно образ кладбища представляют разные современные авторы: А. Иванов, А. Атеев, М. Романова, К. Алексеев, И. Лесев. Выявлено, что в связи с локусом кладбища привлекаются различные клише фольклора и литературы ужасов. К ним относится мотив «нехорошего места», мотив оживления мертвецов, мотив пересечения границ, нарушения запрета/табу. Кладбище может рассматриваться в произведении как источник сверхъестественного ужаса (и даже, как у Алексеева, превращаться в мыслящее существо) или, как у Иванова, представлять собой ложный источник опасности. Таким образом, в результате исследования можно сделать вывод, что кладбище в хорроре становится местом соединения не только миров, но и эпох, что выявляет важную функцию хоррора - осмысление прошлого личности и общества.
Хоррор, кладбище, фольклор, популярная литература, а. иванов, к. алексеев, а. атеев, м. романова, и. лесев
Короткий адрес: https://sciup.org/147236767
IDR: 147236767 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.17072/2073-6681-2021-3-86-93
Текст научной статьи Мифопоэтика пространства кладбища в хорроре (на материале современной русской литературы)
ный, мы приходим к выводу о том, что локусы страшного могут выступать критериями жанровой дефиниции того или иного произведения именно как хоррора. Хронотоп страшного может быть представлен как в соответствии с традицией (как, например, в случае с обращением к локусу кладбища, замка, заброшенного дома и т. п. в популярной литературе), так и введением разного рода инноваций, эти процессы могут быть прослежены и на примере авторов, рассматриваемых в настоящей статье. Задачами исследования являются анализ подходов к изображению пространств страшного в литературе, в частности, кладбище как локус хоррора, описание основных мотивов, связанных с кладбищем в хор-роре, выделение интермедиальных связей, интерпретация фольклорных и литературных отсылок. Кладбище – один из ключевых локусов народной культурой, там, «по представлению народа, можно было вступить в контакт с обитателями “иного мира” (перекресток, баня, кладбище и проч.)» [Зуева, Кирдан, 1998: 66], именно это объясняет интерес авторов хоррора к этим «страшным» местам. С. Н. Петренко говорит о «постфольклорной традиции», обращаясь к прозе Ю. Мамлеева: «связь бытовых, отмеченных печатью реальности топосов (баня, лес, кладбище и других) с традиционным и современным фольклором носит в большей степени опосредованный, типологический характер и, чаще всего, не является генетической» [Петренко 2017: 137]. Это суждение представляется значимым, так как для прозы рассматриваемых авторов также характерна именно типологическая связь с фольклором. В нашей работе мы рассмотрим модификации образа кладбища, их основные характеристики, интертекстуальное взаимодействие с отечественной и зарубежной традицией, которые позволяют говорить об этом образе как единице жанрового канона хоррора. Целью исследования является выделение характерных черт локуса кладбища в произведениях современной популярной литературы (А. Иванов, А. Атеев, М. Романова, К. Алексеев, И. Лесев). Эта выборка, несомненно, неоднородна, авторы отличаются друг от друга своей плодовитостью, концентрацией на определенном жанре, коммерческой успешностью, художественная ценность их произведений также не одинакова. Особняком среди прочих авторов стоит А. Иванов, так как его эксперименты в области хоррора – выход за пределы его литературного амплуа автора исторических («Летоисчисление от Иоанна», «Тобол», «Сердце Пармы», «Золото бунта») и социальнопсихологических романов («Географ глобус про- пил», «Блуда и МУДО», «Ненастье»). Хорроры Иванова, в частности «Комьюнити», демонстрируют все отличительные признаки жанра, по некоторыми художественным качествам (психологической мотивировке персонажей, равновесию композиционных частей романа, логичности финала и пр.) могут даже уступать произведениям других авторов, рассматриваемых в этой статье. Однако эксперимент Иванова с хоррором может вписываться в его глобальную концепцию русской истории и культуры, этот феномен составит материал для другого исследования.
Современный роман ужасов, или хоррор, генетически связан с готическим романом, что отмечается многими исследователями, в связи с чем некоторые даже говорят о таком явлении, как «неоготика» (см. подробнее: [Артамонов 2010; Пушкина 2015; Разумовская 2014] и др.). Готическая литература даже на уровне названия связана с готикой как архитектурным стилем, а вместе с ним с наиболее яркими его воплощениями – готическим замком. «Замок насыщен временем, притом историческим в узком смысле слова, то есть временем исторического прошлого. <...> Наконец, легенды и предания оживляют воспоминаниями прошедших событий все уголки замка и его окрестностей. Это создает специфическую сюжетность замка, развернутую в готических романах» [Бахтин 1975: 400]. Хронотоп замка на многие десятилетия превратился в характерный знак страшной литературы, это пространство вновь и вновь переоткрывается современными авторами ужасов, однако осваиваются и новые «территории» хоррора. Локус кладбища можно считать следующим после замка по популярности в страшных повествованиях. Несмотря на то что образ кладбища уже в готике закрепляется как традиционно пугающий, он не только сохраняет свою актуальность на современном этапе, но и укрепляет свои позиции как одно из немногих пространств соприкосновения с историей (личной и коллективной) в современном мире. Пространство кладбища осмысляется исследователями как одна из ключевых черт жанра за счет реализации концепта «ужаса перед территорией хаоса (замком, домом, квартирой с “плохой” историей; кладбищем; местом убийства и т. п.)» [Назарова, Кудинова 2016: 34]. Хоррор канонизирует места, которые стоят в стороне от ежедневной жизнедеятельности человека: заброшенные земли, оставленные дома, кладбища и т. п. (‘First, these were places out of the modern world, such as cemetery, abandoned castle, gloomy forest, castle ruins, old house etc. Most of all, these are places intensively charged with mystery that have “their own lives”’ [Prohászková 2012: 134]). То же отмечает Н. Кэрролл, описывая пространство хоррора как «маргинальное», как «пространство неизвестного» (‘the geography of horror as a figurative spatialization or literalization of the notion that what horrifies is that which lies outside cultural categories and is, perforce, unknown’) [Carroll 1990: 110].
Книга А. Г. Атеева «Загадка старого кладбища» (1995) – чрезвычайно любопытный пример хоррора, в котором заметен сознательный эксперимент с клише жанра, которыми насыщен текст романа. С точки зрения языка книга не дает богатого материала исследователю, однако мотив-ная структура хоррора заслуживает внимания своим разнообразием. Образ кладбища в нем связан с целым рядом мотивов. Во-первых, кладбище находится недалеко от деревни с красноречивым названием Лиходеевка, пользующейся дурной славой, что активирует мотив «нехорошего места». Во-вторых, кладбище, в соответствии с фольклорной и с литературной традицией, – пространство табуированное, которое требует соблюдения определенных норм. «Прежде всего регламентируется время посещения. Многие наши информанты отмечают, что в настоящее время данное правило нарушается <...>. Между тем, в традиционной культуре посещение кладбища всегда связано с определенным временем» [Добровольская 2013: 115]. Посещение кладбища в культуре – «хождение в гости» [Алексеевский 2010: 292], которое совершается в определенные дни и часы (по праздникам, в «родительские субботы» и только в утреннее время). Главная героиня, женщина светского воспитания, подчеркнуто презирает суеверия, относящиеся к сакральным местам (кладбищу, часовне и т. п.), она становится «незваным гостем», появившимся в неурочный час. Проблуждав по лесам допоздна, героиня остается ночевать в заброшенной часовне, да еще и ведет себя непочтительно по отношению к сакральному месту: «Видимо, придется ночевать в этой часовне. Сейчас бы развести костер, но спичек не было. Может, перекусить? Она пошарила в корзине, нашла мокрый газетный сверток с бутербродами. Пожевала без аппетита» [Атеев 1995: 23]. Мотив пересечения границы, мотив нарушения табу воспроизводится едва ли не в каждом сюжете хоррора – наказывая людей за их ненадлежащее поведение, кладбище защищает себя от вторжений «чужаков». У Атеева нарушение норм поведения на кладбище приводит героиню к трагическим последствиям. Отметим также, что мотив оскорбления святыни звучит и у И. Лесева (ро- ман «23» (2008)), который изображает отрицательного протагониста, преследуемого монстром. Кроме грубости и трусости героя писатель упоминает о его юношеских развлечениях на заброшенном городском кладбище: «Здесь я два года подряд праздновал свой день рождения, не одна девушка побывала со мной в кустах на этой горе, а уж случаев, когда я сидел здесь с бутылкой пива над обрывом и мечтал о лучшей жизни, просто не сосчитать» [Лесев 2008: 302]. Неуважительное отношение к сакральному становится поводом для «наказания» со стороны иномирных существ. Примечательно, что герой случайным образом получает указания насчет того, как следует вести себя при посещении кладбища: «На кладбище нужно только почитать усопших, нельзя на нем есть, нельзя сквернословить, но прежде чем идти на кладбище, необходимо посетить храм» [там же: 450]. Система отношений человека и сакрального разрушена, поэтому герою для выживания необходимо осваивать базовые правила культуры. Хоррор как жанр обращен к этой культурной пропасти между современным человеком – человеком рационального мышления – и иррациональностью действительности, которая может быть осмыслена с помощью суеверий, религиозных или мистических представлений.
Пространство кладбища у Атеева – это пространство соприкосновения с историей. Исследуя историю лиходеевского кладбища, герои узнают об оккультных обрядах помещиков, владевших деревней в XIX в. В частности, приведена история про попытку воскрешения умершей возлюбленной (наиболее известное в мире произведение хоррора, в котором присутствует этот мотив – «Кладбище домашних животных» (1983) С. Кинга). Он описывает ритуал оживления возлюбленной Кокуева: «Мертвая стояла, закрыв глаза, и выглядела совершенно как при жизни, только была очень бледна. От нее шел тяжелый запах свежей земли. Наконец она открыла глаза и впилась безжизненным взглядом в майора» [Атеев 1995: 92]. Неслучайно, что именно к дореволюционному прошлому России обращается сюжет хоррора середины 90-х: в постперестроечную эпоху происходит переоценка всех периодов истории России, и у Атеева это делается в рамках хоррора. Кладбище становится зоной, связывающей поколения и эпохи, своего рода пространством вечности, хозяином которого является колдун Асмодей (примечательно, что Атеев дает ему имя ветхозаветного демона, которое привлекает инфернальный дискурс, характерный для произведений жанра). Кладбище, действовавшее еще задолго до революции 1917 г., сталкивает героев с мистическим страшным, неслучайно эта мистика происходила еще в царское время, время, которое в советский период было осуждено и вычеркнуто из исторического процесса как не соответствующее идеологическому курсу. Валентина Петровна Петухова, воинствующая атеистка и коммунистка, становится чуть ли не комическим примером отказа от духовных и культурных корней, произошедшего в советское время, и только столкновение со страшным, только влияние локуса кладбища заставляет героев обратиться к забытым основам. Пространство Лиходеевского кладбища плодит двойников (милиционер, библиотекарь), порождает призраков (например, для Валентины Петровны заготовлен призрак ее незаконнорожденного ребенка). Все эти черты характерны для разных произведений ужасов, но у Атеева мы видим предельную концентрацию разных мотивов.
Роман К. Алексеева «Пожиратель мух» (2007) – хоррор, в котором образ маньяка-каннибала дополнен чертами сверхъестественного монстра, бессмертного, сверхсильного и наделенного мистическими способностями. Образ кладбища в романе становится связующей нитью между разными временными пластами, каждый из которых добавляет новых деталей мрачной истории очередного «нехорошего места». Его образ связан и с вторжением войск СС во время войны, и с насилием со стороны упомянутых «эстонских националистов», и с природными особенностями – быстрым заболачиванием, превратившим лес в чрезвычайно опасное для местных жителей место. Кроме отягощения национальной историей, кладбище и окрестности нагружены трагедией личной: там была похоронена ведьма, проклявшая деревню, дом у кладбища стал местом изгнания маньяка-убийцы и местом расправы над ним (отметим, что мотив расправы над маньяком, которая не убивает его, а превращает в сверхъестественное существо, впервые был использован Уэсом Крейвеном, создателем киносерии о Фредди Крюгере – «Кошмар на улице Вязов» (1984) и другие фильмы). «Он сгорел, – тусклым голосом сказал Виктор. – Его сожгли живьем. В его собственном доме» [Алексеев 2007: 311]. Таким образом, концентрация трагических событий прошлого выстраивает репутацию кладбища как «нехорошего места». Это пространство также связано с исторической проблематикой, и, так же, как у Атеева, пересечение границы влечет наказание.
Как известно, пугающий образ кладбища – общее место фольклора. Мотив детской стра- шилки воспроизводится Алексеевым во флэшбэке главного героя, Сергея, который вспоминает, как в 12 лет он с друзьями отправился на поиски кладбища в лес, где они едва не погибли, столкнувшись со страшными силами, владеющими этими местами. Сознание героя заблокировало это воспоминание на долгие годы, как самое страшное, что с ним когда-либо происходило. Именно эта часть повествования сообщает о том, что в пространстве кладбища наблюдаются искажения физики окружающего мира. Изменяется звук и освещенность: «в лесу становилось все тише и темнее, будто они действительно уходили вглубь гигантской пещеры» [там же: 134]. Распространенным мотивом хоррора является мотив оживания неодушевленных предметов, на кладбище в «Пожирателе мух» оживает земля, которая движется и, очевидно, подчиняется некой злой воле, желающей съесть пришедших детей. Они находят там трупы мертвых животных, которые могут быть и следами жертвоприношения, и пугающими деталями, при помощи которых писатель создавала зловещую атмосферу описываемого места. Таким образом, из локуса кладбище может превращаться в монстра хоррора, наделенного волей, способного двигаться и действовать.
Хоррор не только обращается к фольклору, но часто создает и свой квази-фольклор, как, например, происходит у Марьяны Романовой. Ее роман «Старое кладбище» (2015) по структуре не совсем хоррор: он больше напоминает историю инициации, как в волшебной сказке или в типичном фэнтези с клише «ученик волшебника». Однако основная линия повествования оснащена рядом коротких страшных историй, каждая из которых предлагает свой сюжет. Локус кладбища является связкой для фрагментов повествования. Кладбище у Романовой изображается традиционно: это место магических ритуалов, всякий атрибут которого (могильная земля, венки, цветы, растения с могил) обладает своей мистической силой, и поэтому становится местом притяжения людей, практикующих колдовство (аналогичными характеристиками наделено кладбище у И. Лесева): «У каждого кладбища своя энергетика. Даже если умеешь с мертвыми разговаривать, не на каждом кладбище получится с ними в контакт войти» [Романова 2015: 276]. В «Болоте» Романовой образ болота в лесу тоже можно соотнести с кладбищем: болото «возвращает» мертвецов, как в «Кладбище домашних животных» С. Кинга. Возвращенные мертвецы превращаются в монстров, совмещающих признаки живого и неживого: «И пахло от него не молочком и медовой детской кожей, а тиной и сыростью» [Романова 2014: 243]; «В движениях Мишеньки было что-то механическое. И он шел не как маленький ребенок, у него была пластика взрослого человека, как будто одурманенного алкоголем или снотворным» [Романова 2014: 305]. В отличие от Кинга, чей роман «основан на индейском мифе о “проклятой земле”, обладающей способностью воскрешать мертвецов, которые были в ней похоронены» [Ружевская 2019: 89], опора на мифологическую или глубокую фольклорную традицию у Романовой отсутствует, что может быть поводом для критики художественных качеств ее произведения. Таким образом, кладбище становится еще и своего рода границей между миром мертвых и живых, местом, наделенным особой магической силой.
В романе А. Иванова «Комьюнити» (2012) пространство страшного максимально приближено к тому, что знакомо любому читателю: знаком и герой, которого скорее можно считать антигероем времени, но нам в данном случае важно рассматривать его как порождение своей эпохи. Это подчеркивается во всем: и в его причастности миру новых технологий, и в его карьерных амбициях, и в его духовном упадке, в его привычках, интересах, склонностях и слабостях. Первое столкновение героя со страшным происходит на похоронах, на Калитниковском кладбище. Эта территория герою чужда, она носит статус сакрального, что герой подтверждает, поискав информацию о Калитниках в Сети. При этом даже сакральность пространства не сдерживает циничных выпадов героя: «Глебу, в общем, наплевать было на усопшего» [Иванов 2018: 10]. Сюжет хоррора часто обращается к мотиву возмездия и наказания за грехи, таким грехом может являться оскорбление священного места, нарушение табу, неуважение к смерти и мертвому. Но такой читательский вывод напрашивается только поначалу, потому что дальнейшие злоключения героя будут наказанием за его аморальность, которая проявляется не только в отсутствии почтения к святости кладбища, но и в общем духовном упадке. У Иванова кладбище – локус, в котором должен был произойти духовный поворот героя, но он так и не произошел, что привело к гибели Глеба.
На кладбище герой переключается от изучения окружающего пространства к пространству виртуальному, которое в «Комьюнити» доминирует над реальным. Таким образом, обыденная (свободная от готических штампов: герой на кладбище днем, а не ночью, нет пугающих звуков, не встречает страшных существ, воронов и т. п.) внешность современного кладбища должна совместиться с историческим образом страшного места, на котором хоронили умерших от чумы. Виртуальное пространство ничем не ограничено, поэтому привлекает любые исторические и географические точки, связанные с чумой. Именно виртуальное пространство заключает в себе информационный двигатель сюжета, ведь действие романа завязано именно на получении новой информации о свойствах чумы и демонов. Мировая история чумы из Сети – это мировая история всех людей, что когда-то умерли, и в этом смысле Сеть становится пространством мертвых. Соединение этих двух пространств происходит в эпизоде, где Глеб видит на кладбище шествие средневековых чумных докторов. «Глеб узнал этих чудищ. Это чумные доктора. В старину врачи и санитары, которые соглашались выйти на битву с чумой, надевали такие вот шляпы и маски» [там же: 260]. Источником страшного выступает это противоестественное соединение виртуального и реального, мира мертвых и мира живых: «Век Интернета и гаджетов, зябкий декабрь, огненная от рекламы Москва, Калитниковское кладбище – и средневековые чумные доктора с факелами, баграми и гробами?.. Глеб увидел, что гробы – пусты. Эти гробы – для тех, кто уже зачумлён, но ещё не умер. Для таких, как он» [там же: 261].
Цветовая палитра кладбища монохромна: «за черной решеткой ворот светлела свежим снегом небольшая площадь», «дорожку обжимали черные ограды» [там же: 13]. Контраст поддерживается и далее в описаниях городских пейзажей, контраст белого и черного, «светлого и тёмного» [Клабукова, Лицарева 2017: 127]. Представляется, что так на уровне семантики цвета заявлено противостояние добра и зла, клише хоррора, полем которого стала душа героя.
Пространство страшного в традиции хорро-ра – это пограничные и иномирные территории, это зоны опасности, в которых человека подстерегает нечто, чья неопределенность и пугает больше всего. Традиционно изображение кладбища, заброшенного дома или иного заброшенного места. Однако наряду с привычными «страшными» местами вроде кладбища или заброшенного дома современная литература предлагает отстраненный взгляд на обыденное, превращаемое в пугающее. Примерами тому в «Комьюнити» будет пугающая трансформация личного пространства: дома, автомобиля – и публичного: дорога, улица, ночной клуб, метро. Кроме того, кладбище так и не становится по-настоящему опасным местом: несмотря на то что именно там Глеб обнаружил кенотаф, якобы связанный с могилой демона, он оказался всего лишь приманкой, настоящим же источником демонического было виртуальное пространство, сознание героя, «апокалиптичная» Москва. Таким образом, Иванов переворачивает клишированный образ кладбища в хорроре, превращает его в декорацию, за которой скрывается что-то по-настоящему ужасное, в свою очередь замаскированное под повседневное.
Подводя итоги выполненного исследования, мы можем прийти к ряду выводов. Образ кладбища в сочинениях современных авторов ужасов наделяется следующими традиционными для хоррора чертами: 1) там происходит общение с миром мертвых; 2) там оживают мертвые; 3) как пространство сакральное, оно предполагает определенный модус поведения. Хоррор как жанр популярной литературы всегда обращается к проблемным вопросам человеческой жизни, и такой проблемной зоной, которая эксплицируется, в частности, в образе кладбища, может быть осмысление прошлого. В качестве инноваций выделим следующие мотивы: у Иванова – кладбище как ложный эпицентр зла, у Алексеева – кладбище как живое существо. Изображение кладбища в хорроре опирается на богатую литературную и фольклорную традицию.
Postgraduate Student in the Department of History of Modern Russian Literature and Modern Literary Process
Lomonosov Moscow State University
ResearcherID: AAP-8233-2021
Submitted 01.06.2021
Список литературы Мифопоэтика пространства кладбища в хорроре (на материале современной русской литературы)
- Артамонов Г. А. На пересечении неоготики, готики и реализма // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A. Гуманитарные науки. 2010. № 1. С. 169-176.
- Алексеев К. Пожиратель мух. М.: Крылов, 2007. 384 с.
- Алексеевский М. Д. «"И на погосте бывают гости": посещение кладбища в обрядовой практике и поминальных причитаниях крестьян Русского Севера» // Калевала в контексте региональной и мировой культуры: материалы между-нар. науч. конф., посвящ.160-летию полного издания Калевалы. Петрозаводск. 2010. С. 288-299.
- Атеев А. Г. Загадка старого кладбища. М.: ВиМ, 1995. 384 с.
- Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе: очерки по исторической поэтике // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худ. лит., 1975. С. 234-407.
- Добровольская В. Е. Кладбище как место встречи живых и мертвых: правила, регулирующие взаимоотношения двух миров в традиционной культуре Центральной России // Slovene = СловЪне. International Journal of Slavic Studies. 2013. № 1. С. 111-120.
- Зуева Т. В., КирданБ. П. Русский фольклор: учебник. М.: Флинта: Наука, 1998. 400 с.
- Иванов А. Комьюнити. М.: АСТ, 2018. 382 с.
- Клабукова Ю. В., Лицарева К. С. Особенности организации художественного пространства в романе А. Иванова «Комьюнити» // Актуальные вопросы современной науки и образования: материалы междунар. науч.-практ. конф. Киров, 2017. Вып. 16, т. 1. С. 124-128.
- Лесев И. 23. М.: Ad Marginem, 2008. 520 с.
- Назарова Ю. В., Кудинова Е. Б. Культурные и этические истоки концепта ужаса (на материалах англоязычной литературы жанра horror) // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 2016. № 2(18). С. 29-34.
- Петренко С. Н. Пространство страшного в малой прозе Ю. Мамлеева и постфольклорная традиция. М.: ВОСТОК-ЗАПАД, 2017. С. 131-138.
- Пушкина А. А. Готический роман и зарождение неоготического направления в культуре // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. 2015. Т. 2, № 2. С.319-330.
- Разумовская О. В. Понятие о готическом и неоготическом стиле в контексте истории литературы // Вестник РУДН. Серия: Литературоведение, журналистика. 2014. № 4. С. 48-53.
- Романова М. Болото. М.: АСТ, 2014. 320 с.
- РомановаМ. Старое кладбище. М.: АСТ, 2015. 320 с.
- Ружевская А. В. Мифологические мотивы в современной литературе жанра «ужасы» (на примере творчества американского писателя Стивена Кинга) // Актуальные вопросы филологической науки XXI века: сб. ст. VIII Междунар. науч. конф. молодых ученых (8 фев. 2019 г.). Ч. 2: Современные проблемы изучения истории и теории литературы. Екатеринбург, 2019. С. 87-94.
- Carroll N. Philosophy of Horror, Or, Paradoxes of the Heart. New York: Routledge. 1990. 272 p.
- Prohaszkova V. The genre of horror // American International Journal of Contemporary Research. 2012. Vol. 2, № 4. P. 132-142.