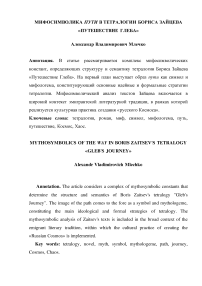Мифосимволика пути в тетралогии Бориса Зайцева "Путешествие Глеба"
Бесплатный доступ
В статье рассматривается комплекс мифосимволических констант, определяющих структуру и семантику тетралогии Бориса Зайцева «Путешествие Глеба». На первый план выступает образ пути как символ и мифологема, конституирующий основные идейные и формальные стратегии тетралогии. Мифосимволический анализ текстов Зайцева включается в широкий контекст эмигрантской литературной традиции, в рамках которой реализуется культурная практика создания «русского Космоса».
Тетралогия, роман, миф, символ, мифологема, путь, путешествие, космос, хаос
Короткий адрес: https://sciup.org/149139521
IDR: 149139521 | УДК: 821.161.1.0
Текст научной статьи Мифосимволика пути в тетралогии Бориса Зайцева "Путешествие Глеба"
Созданная уже в зрелый – и даже поздний – период литературной жизни Б. К. Зайцева, тетралогия «Путешествие Глеба» общепринято считается вершинным его достижением, книгой, в которой переплелись ведущие зайцевские темы и мотивы, с небывалой остротой интимизировались самые важные авторские идеи. В тетралогию входит четыре романа, писавшиеся Зайцевым в течение чуть менее двадцати лет: «Заря» (1937), «Тишина» (1948), «Юность» (1950), «Древо жизни» (1953). Тетралогия представляет собой «художественную автобиографию» писателя, повествование о жизненном и творческом пути автобиографического героя, чья судьба – в своей личностной уникальности и неповторимости – повторяет судьбу многих тысяч русских изгнанников, разделивших вместе с Россией ее роковой «крестный путь». Генетическую близость фигуры главного героя автору прекрасно видели еще эмигрантские критики, например, Г. Адамович в сборнике «Одиночество и свобода» заметивший, что Зайцев, как и остальные тяготеющие к автобиографическому дискурсу писатели, впрочем, склонен позиционировать себя по отношению к своему alter ego: «Путешествие Глеба» и другие повести лишены формальных автобиографических признаков. Автор вправе утверждать, что в них все выдумано, сочинено, и нам на такое утверждение нечего было бы ему возразить. Но никакими доводами не убедит он нас, что в этих повестях ничего личного нет, как не убедил бы нас в том же самом и Бунин по отношению к «Жизни Арсеньева»» [1, с. 73].
Лишенное жестко организованной сюжетной канвы, «Путешествие Глеба» в самом общем – или внешнем – виде являет нам историю жизни и странствий Глеба, сначала мальчика, погруженного в неспешное бытие русской провинции, затем отрока-гимназиста, юноши-студента и, наконец, эмигрантского писателя, размышляющего о пройденном вместе со многими русском пути. Сегментация основных вех этого пути и обусловливает деление тетралогии на части, каждая из которых ограничена определенными хронологическими и пространственными рамками. В первой книге рассказывается о детских годах героя, сына инженера, заведующего рудниками Мальцовских заводов; вторая – «Тишина» – повествует об отроческих годах Глеба, вынужденного расстаться с родным имением, где прошли его райские детские дни, и переехать в Калугу учиться сначала в гимназии, а потом – в реальном училище. В «Юности» перед нами предстает картина взросления Глеба, ищущего себя и свое предназначение в этой жизни, здесь мы уже сталкиваемся с зарисовками московского литературного быта. И, наконец, в последней части, в «Древе жизни», повествуется о жизни Глеба и его близких в послереволюционной России, о начале нелегкой эмигрантской жизни героя, пытающегося вновь обрести невидимый и прекрасный «град Китеж» – утерянное Отечество. И все же, несмотря на формальную сегрегацию, части романа представляют собой неразрывное единство, объединенное не столько сюжетом или общей автобиографической интенциональностью автора, сколько стремлением создать целостную картину бытия, угасания и возрождения русского Космоса, картину, увиденную глазами и пропущенную через внутреннее – онтологическое – «Я» Глеба – Бориса Зайцева.
В самом общем виде тетралогия Зайцева представляет собой историю постепенных утрат – сначала отчего дома, а в конечном счете и символически репрезентируемой им России. У Зайцева этот звучащий крещендо мотив пути потерь отчетливо слышен уже в первой части цикла, где интенсивная смена маленьким Глебом «родовых гнезд» (Усты, Будаки, Людиново, Прошино) выглядит своеобразным «шаблоном», по которому будет расчерчена дальнейшая жизненная стезя героя. При этом даже более определенно, чем в «Жизни Арсеньева», у Зайцева прослеживается объективация райской символики при характеристике этого русского Космоса Глеба-Бориса, оценивающего свое детское бытие через призму именно этого библейского архетипа. «Так, – пишет Л. Козыро, – уже на первых страницах возникает образ прекрасного Божьего мира, в котором живет маленький человек «райского возраста», не знающий еще горести и страданий. Это изначальная гармония, красота, чистота, напоминающая о райских кущах. Детство ребенка - детство человечества, времени пребывания человека в Эдеме, и в ребенке Глебе как бы пробуждается родовая память человечества» [4, с. 99].
Действительно, самые первые строки «Зари» погружают нас в первозданное, райское, космическое бытие маленького Глеба, ощущающего свою онтологическую сопричастность миру. И нет ничего удивительного в том, что сама «ткань» этого мира инкрустируется Зайцевым все той же символикой дома и сада : «Двухэтажный барский дом, каменный, с деревянной пристройкой. Июньское утро, ничем от других не отличающееся — для всех, но не для некоего маленького человека. Вставши, умывшись, в деревенской своей курточке стоит он на галерейке стеклянного второго этажа — просто на минуту приостановился, прежде чем спускаться в сад пить чай. <. „> Все это так, и все не раз видано. Но сегодня... Какой невероятный, ослепительный свет, что за жаворонки, голубизна неба, горячее, душистое с лугов веянье… Кажется, что сейчас задохнешься от ощущения счастья и рая — да, конечно, рай и пришел из Высоцкого заказа, или еще дальше из-за него, в световых волнах, в блаженстве запахов и неизъяснимом чувстве радости бытия. Благословен Бог, благословенно имя Господне! Ничего не слыхал еще ни о рае, ни о Боге маленький человек, но они сами пришли, в ослепительном деревенском утре...» [3, с. 27].
Но постепенно, как и к бунинскому Алеше, к Глебу приходит неожиданное осознание недолговечности, хрупкости райского Космоса — осознание неизбежности смерти. Удивительно точно повторяя начало «Жизни Арсеньева», Зайцев прочно связывает это первое осмысление неотвратимости Хаоса с символическим образом охоты — необъяснимой детской тяги к убийству сотворенных существ: «Дико-сумрачно шумит осенний ветер! В лете ворон — ухабами — в пустынности поля за парком, в дальних лесах — Чертоломе, Дьяконовом косике, в горестном благоухании октябрьском терпкая, пронзительная прелесть. Ветер обдувает детское лицо.
Мальчик скитался в одиночестве, странно стремясь к убийствам… волнуясь, подкрадываясь. Что это? Для чего? Какой зов крови, греха? Кто не испытал охотничьей страсти, не знает темных ее корней. Глеб не выносил грубости и жестокости. С ужасом видел, как пьяные мужики бьют жен, как дерутся сами на Успенье или на Славящую. <_> И с восторгом, почти сладострастным, смотрел, как с липового сука падает застреленная им ворона, или дрозд судорожно дергает лапой, а глаз его предсмертно затягивается - сероватою пленкой» [3, с. 41]. «Темные корни» греха - буквально через несколько страниц - протягиваются в сознании героя и к факту неизбежной смерти горячо любимых им родных, факту, потенциальная реальность которого бросает на соразмерность русского Космоса тень трагического фатализма. «Все умрем, все, одни раньше, другие позже! И мать умрет, и ее тоже положат на этот погост. Да, но без мамы… Он ощутил вдруг такой приступ отчаяния, что будь тут она рядом, бросился бы к ней и зарыдал. <_> Боже мой... но ведь все умрут, и сама Соня...» [3, с. 44]. Символика смерти (зла) незримо, но прочно пронизывает и описание первого запомнившегося Глебу Рождества, уравновешивая составляющие определяющей семантику русского Космоса оппозиции жизни/смерти . К примеру, в романе четко артикулирована символическая амбивалентность образа ели , уже рождественская крестовина которой указывает на сакральную символику грядущего Хаоса : «Конечно, апостольский Семиошка съездит с Гришкою на розвальнях в Чертолом, вырубит, привезет елку, в жаркой своей мастерской подделает под нее крест, чтобы не падала, и чтобы подтвердить, что сие дерево священно» [3, с. 55].
Амбивалентность пронизывает весь «рождественский» пассаж «Зари», одновременно «охранительная» и «смертная» символика которого органично вписывается в широчайший контекст рождественских обрядов, чей «пограничный» характер, в свою очередь, определяет (не)однородную ткань «культурного космоса». В своем фундаментальном исследовании рождественской обрядности А. Страхов пишет: «Весь святочный отрезок обрядового времени и в немалой степени вся обрядность с конца ноября до середины января определены одним ежегодно повторяющимся событием, – рождением младенца Иисуса. В рождественскую ночь происходят удивительные вещи. В полночь под Рождество открывается небо, отверзаются небесные врата, и с высоты на землю сходит сам Сын Божий, открывается рай, звучат колокола затонувших и ушедших в землю церквей...» [10, с. 4]. Зайцев, в свою очередь, сосредоточивает эти культурные коды в совершенно определенном месте и времени - середина зимы дореволюционного русского села Усты, сжимая их в едином хронотопе, пропуская через фокус эмигрантской памяти, извлекая из увиденного - и тем самым сохраненного навечно — маленьким Глебом — взрослым Борисом. В глазах первого двери в праздничную залу превращаются в райские ворота, в ушах же второго отчетливо слышны из-за этих дверей колокола навсегда ушедшей в небытие России-Китежа: «А в сочельник, пред вечером, Лота и мать, бородатый Дед, отец, плотно запрут двери, начнут елку убирать, сколько звезд, коробочек, рыбок, сияющих шариков, а главное: сколько свечей! — красных, белых, зеленых. В щель на полу из угловой детской, где живут Лиза и Соня-Собачка, виден свет. Вот счастливые, кто убирает елку! Но и те, кто дожидается, тоже счастливые. Долго их не пускают, а уж когда откроют двери, точно царские врата отверзлись. Дети даже останавливаются на пороге, такое сияние, струение тепла и света, смешанный запах елки, тающих свечей, свежести... » [3, с. 56].
К рождественским дням приурочено и первое воспоминание Глеба о Церкви, занявшей столь видное место в жизни и творчестве автора тетралогии. «Утром в первый день многие шли в церковь. Мужики с промасленными головами, бабы в кичках, с утиными пушками вместо серег. <…> Глеб боялся священников, и из самых дальних дней бытия у него сохранился как бы ужас перед несгибающейся золотой ризой, кропилом, огромными поповскими сапогами. Именно край ризы, из-под которой видны сапоги на слона, это была первая его встреча с Церковью» [3, с. 56]. Так в
«Путешествии Глеба» инкорпорируется - и занимает ведущие идейнообразные позиции - целый комплекс христианских (православных) культурем, выполняющих на пространстве русского Космоса «охранительную» функцию, роль спасительных и удерживающих этот даже переставший быть райским мир от распада и окончательной гибели символов.
Одним из таких (архетипических) образов предстает перед нами фигура Младенца Иисуса , освещающая и благославляющая ставшее сакральным пространство рождественской России: «Давным-давно вся уж Россия с океанами лесов своих, полей, степей Младенца приняла. <…> Младенец рождается и приходит. Сквозь вековой сон и тьму на мгновение просыпается мир, улыбается» [3, с. 56]. Фигура Младенца выступает здесь в качестве символа, призванного дезавуировать дискретность русского Космоса , придать ему сакральную целостность, защитить от неизбежной эскалации деструктивных сил. Как замечает К. -Г. Юнг, «смысл всех объединяющих символов связан со спасением. <...> «Младенец» - это символ целостности, охватывающий глубинные начала природы» [16, с. 105, 108]. Но вместе с тем даже образ новорожденного Спасителя, указывающего на райскую первозданность рождественского мира, сохраняет свою жертвенную («смертную») семантику. Именно в этой смысловой перспективе жизненный путь героя видится как путь Крестный не только у Зайцева, но и у других писателей-эмигрантов, прежде всего у Бунина и Шмелева.
Так, уже в следующем абзаце тема рождественской патриархальной идиллии начинает диссонировать с хорошо знакомой нам темой «разгульного праздника». Тем самым в трилогию вводится звучавшая уже и у Бунина, и у Шмелева проблема противоречивости русской народной ментальности, соединявшей в себе, с одной стороны, стремление сохранить и защитить Космос и, с другой, его разрушить, от гибельной силы которого и был призван оградить объединяющий и дарующий свет будущего возрождения символ младенца Иисуса: «Мир темен, слаб. Мы нуждаемся в милости и прощении. Напившись по случаю Рождества, апостоловидный Семиошка из незлобного мудреца обращался в зверя (мог, например, схватить нож и в ярости мчаться с ним за горничной девушкой). Его укрощал отец, запирал в чулан. В «патенте» за сивухой граждане села Устов пропивали кто что мог, нализывались и дрались тоже по мере сил. Несколько фонарей под глазами, несколько окровавленных носов. Праздник возбуждал. Били жен. Из углового двора прибегала прятаться и за защитой Устинья, простоволосая и в синяках. Опять отец должен был вмешиваться. И не только в Устах, но и по всей России было так. Радость и грубость, поэзия и свинство» [3, с. 57].
Но и эта тема, в свою очередь, жестко коррелирует - следуя логике механизма переноса - с темой революционного праздника, в схожей тональности прозвучавшей в «Древе жизни»: «Но подошла революция. Сколько восторга, надежд! Барди опустело. Все, кто выжили - почти сплошь народники - уехали в Россию, сначала в опьянении успеха, а потом чтобы вновь познать прелесть борьбы с прежними своими соперниками по революции: но не такими противниками, совсем не такими, в каких прежде бросали бомбы. И Сибирь, лагеря, стенка вновь выросли перед ними в небывалых размерах» [3, с. 491]. Во-первых, здесь нельзя не заметить явного параллелизма с бунинской оценкой жажды революционной деятельности в «Жизни Арсеньева», а во-вторых, обращает на себя внимание сакрализация, как и в случае с Устами, итальянского пространства: «Глеб и Элли бывали здесь и до войны, Барди любили, как итальянское Прошино» [3, с. 491]. Космическое бытие сакрального локуса (будь то Усты, Прошино, Россия или итальянское Барди), символическим репрезентантом которого выступает образ усадьбы-Аркадии, тем самым, периодически нарушается, причем циклический (органичный) характер этого нарушения становится эсхатологическим, когда заходит речь об итогах русской революции. Так, в «Древе жизни» для покидающих родину героев географические границы страны становятся метафизическими: «Поезд постоял, постоял, да и двинулся.
-
- Мама, теперь Россия кончается?
Элли лежала на нижнем диване, тоже в изнеможении.
-
- Кончается. А что?
-
- Нет, радость моя, ничего.
-
- Россия теперь кончилась, - сказала она. И отвернулась» [3, с. 475].
Райскому бытию Глеба суждено лишиться своей космической устойчивости (ср. название имения - Усты) не только по причине «затянувшихся» революционных «каникул» - уже в начале тетралогии отчетливо начинает ощущаться диктат центральной ее темы, в рамках которой заключена не только вся проблематика романного цикла, но и его необычайно пестрая символическая палитра. Эта тема путешествия , или Пути, герменевтическая значимость которой заявлена уже в заглавии зайцевского текста. Нельзя не заметить и закономерности появления этого тематического интенсива на указанном семантическом поле. Одной из самых ярких черт художественной парадигмы «кризисных эпох» выступает смена архетипа «дома» архетипом «дороги», отражающая общий переходный характер кризисных эпистем с их пограничными, лиминальными (В. Тэрнер) культурными ценностями и ориентирами. Как верно отмечает отечественный исследователь, «оппозиция дом-дорога имеет место и в стабильные эпохи. Однако в этом случае ценности дома преобладают. Дом означает некое, исключающее хаос сакральное пространство. Это символ включенности человека в пространство, связи с ним. Дом можно представить одним из значимых элементов традиционной и, даже точнее, архаической картины мира. <...> «Дом» - свидетельство сотворенного пространства, преобразования природы в культуру. Возникновение дома в архаической культуре придает миру пространственный смысл в том случае, что с помощью возведения дома мир становится организованным, упорядоченным» [14, с. 284].
Архетип же дороги , напротив, имманентен (и в первую очередь в области их художественной рецепции) дестабилизирующим механизмам культуры, когда кризисные структуры занимают место устойчивых. Именно в это время ведущую роль в эстетической практике занимает фигура странника , как нельзя ярче иллюстрирующая нормы и ценность переходных эпох. «Героям неподвижного, замкнутого locus`a, – пишет Н. Хренов, – противостоят герои открытого пространства. <…> Такова логика переходности. Дорога – это стихия передвигающегося в пространстве человека, т.е. странника. Однако ориентация на дорогу скрывает амбивалентное к ней отношение. Ведь передвижение в пространстве – не только движение к сакральной точке пространства, но и выпадение из стабильного существования, что оборачивается хаосом. Если поведение человека в доме регламентируется нормами, то поведение человека в дороге не предполагает нормы. Иначе говоря, если все, что связано с домом, представляет космос, то все, что связано с дорогой, оказывается хаосом. Хаос означает отсутствие норм. В традиционной картине мира дорога соотносится с негативными значениями, в частности, с представлениями о смерти, нечистой силе и т.д. С этой точки зрения его возвращение в дом оказывается невозможным» [14, с. 285].
В «прецедентных текстах» русского зарубежья образ странника (в связке с образом потерянного дома/отечества и его символическими репрезентациями) используется чрезвычайно часто и активно. В центре образной структуры романов и повестей (исключением не выступают и произведения «малых» жанров) Набокова, Алданова, Осоргина, Зайцева, Шмелева, Бунина, Мережковского и других ведущих писателей русского зарубежья стоит фигура странника, изгнанника, пытающегося вновь обрести потерянный Дом, вернуть недостижимый рай, найти утраченное время. Ради этой цели они и начинают свой Путь - через географические и метафизические пространства. Таким образом, герой-путник все время находится в ситуации перехода, пересечения пространственных, временных и символических границ, в рамках которых им и осуществляется поиск утерянных, растраченных или незамеченных вовремя ценностей. Феноменологическая амплитуда этих ценностей максимально широка - от поиска конкретно-вещественных объектов до сугубо ментальных конструкций. Но так или иначе в основе этого процесса лежит тот же механизм символического переноса: поиск конкретной вещи превращается в поиск определенной абстракции, значимость которой для героя определяется ее внутренним соответствием на пути его самопознания и обретения идентичности.
Ярчайшим представителем такого типа героев и выступает зайцевский Глеб, путешествие которого - от отчего дома в географическом сердце патриархальной России и до обретения незримого града-Китежа в ее сакральном центре - тесно связано с реализацией образного потенциала двух крупных символических комплексов, претендующих называться мифологемами и уже частично затрагиваемых нами, - дома и дороги.
Важно констатировать, что их сепарация, особенно в случае с «Путешествием Глеба», приведет к односторонней и, следовательно, ошибочной интерпретации, чего, впрочем, удалось избежать нижегородским исследователям, рассматривающим мифологему дома в автобиографической прозе эмиграции первой волны [2]. Указав, что «мир первой повести тетралогии - это прежде всего мир Дома», а «зайцевский хронотоп можно рассмотреть в ракурсе размышлений М. Бахтина об идиллическом хронотопе» [2, с. 112, 114], авторы монографии совершенно справедливо пишут о вынужденном дезавуировании данной мифологемы.
«Однако дальнейшее развитие истории настолько резко, - отмечают исследователи, - непоправимо нарушило естественный, органичный, многовековой ход жизни, что идиллии в ней места не осталось. Счастье жить в идиллическом мире выпало герою повествования лишь в детстве, – следующему же за ним поколению, его дочери, к примеру, и в детстве уготована была уже другая судьба - жизнь вне родины. Этот драматический разрыв исконных связей осмыслен Зайцевым в своеобразном мифопоэтическом ракурсе: на идиллическую эпоху жизни ложится легендарный отблеск» [2, с. 115]. Мифологема дома-рая претерпевает метаморфозу, она уступает место другой, а символический перенос с микрообраза дома на макрообраз России, как и в случае с «Жизнью Арсеньева», столь же отчетлив: «Зайцевская мифологема «утерянного рая», подобно бунинской, представляется синтезированной, включающей в себя многие глобальные составляющие, в том числе и представление о Доме-родине. Россия ушедшая, подобно ушедшему детству как невозвратимой эпохе, мифологизируется Зайцевым, на ее изображение также ложится легендарный отблеск, ибо ее историческое бытие окажется трагически изломленным и потому еще более «заслуживающим» быть легендарно запечатленным. В тетралогии создается яркий авторский миф о России ушедшей» [2, с. 116].
Другими словами, в «Путешествии Глеба» доминирующую позицию начинает занимать символический образ потерянного Дома , а сам Глеб на протяжении всего цикла находится в состоянии перманентного перехода . Он постоянно переезжает с одного места на другое, и каждый раз, оказываясь на новом месте, герой пытается вновь обрести, воссоздать свой самый первый Дом , повторить ощущение космической целостности и полной гармонии с «тварным» миром, вернуть утраченный рай. Поэтому и само состояние перехода, переезда, воспринимается Глебом болезненно, он словно предчувствует свою последнюю и самую страшную утрату - окончательную потерю России.
Так, например, свое первое путешествие по железной дороге в Людиново главный герой воспринимает как переход в иной мир, полный опасностей, где, находясь за пределами привычного сакрального пространства, Глеб ощущает себя оторванным от «соборного» мира, одиноким и заброшенным, как в аду: «Сотрясаясь, поезд тронулся. Начался для Глеба новый мир. Н а с т о я щ а я железная дорога, «казенная», как тогда говорили. Глеб знал мальцовскую, никогда еще не ездил по казенной. Какое все огромное и жуткое. <…> Глеб с Лизой у окошка, притулились, печально глядят в надвигающиеся сумерки декабрьские. Им кажется, что поезд мчит их фантастически. Кругом говор, галдеж в соседнем отделении, но они одни, заброшенные в иной мир, горестные дети. Поезд же идет все дальше, чрез всякие Ферзиковы, Алексины, близится Тула. И уж совсем темно. <…> Глеб нес чемоданчик, а рукою держался за Лизу. Во мраке, холоде чужих мест, в этих летящих поездах, незнакомой толпе, с тоскою и почти отчаянием в сердце, был это тяжкий для него путь. Женская рука вела его. Тонкие пальчики Лизы, грустные ее косички, меховая шапочка… Долго ждали они на полуоткрытой платформе орловского поезда. Дул ветер, сбоку заносило снежком. Они были похожи на одиноких сирот. <…> Глеб бессмысленно шел по вокзалу, тоже большому и ярко освещенному, ничего не понимал, кроме того, что он в каком-то аду» (курсив наш. – А.М.) [3, с. 482].
В Людинове же Глеб вновь обретает «космический» покой – заключенный в границы дорого ему сакрального локуса, он ощущает устойчивость и счастье долгожданного возвращения: «Сам же, пофыркивая, сильно дыша, со странным напряжением прошелся по комнате кругообразно. Лицо отца, с рыжеватой бородой, тоже взволнованное и такое свое, мелькнуло перед ним в этом церемонном марше. Глеб готов был закричать или заплакать... но не делал ни того ни другого. Он просто как-то пролетел в новое свое состояние, нормальное и счастливое, когда мать здорова и все в Людинове в порядке. Да, да, огромный милый дом, за окнами снежное озеро. <…> И мать, и светлый, молчаливый дом, принадлежит иному миру, очень радостному. Глеб вполне в нем укрепился» (курсив наш. – А.М.) (Зайцев, Т.4: 484).
Но с течением времени образ пути или путешествия для героя начинает приобретать еще одно, метафорическое , значение – жизненный путь . И Глеб мыслит этот путь, как уже говорилось, как путь постепенных (и все возрастающих) лишений – утраты «родовых гнезд» и потери близких. В самом финале «Зари», бросая ретроспективный взгляд на свое отрочество, Зайцев-Глеб пишет: «Был серый людиновский зимний день, озеро в снегу, туманные леса за ним. Завод пыхтел, как всегда, языки пламени над домной. Бабушка Франциска Ивановна со своими четками, католическим Распятием, жизненными взглядами и видом королевы из провинциального театра находилась уже в Вечности , бедные же ее останки покоились в граде Киеве. И отец, и мать, и Глеб, и другие совершали таинственно данный им путь жизни, приближаясь – одни к старости и последнему путешествию , другой к отрочеству и юности. Никто ничего не знал о своей судьбе. Глеб не знал, что в последний раз видит Людиново. Отец не знал, что чрез несколько лет будет совсем в других краях России. Мать не знала, что переживет отца и увидит крушение всей прежней жизни . <…> Губернатор с бакенбардами окончил благополучно свою поездку. Всюду были исправники, становые. Всюду ему кланялись и принимали, как в Людинове. Искренно он полагал, что всюду внес порядок и благоденствие. В некоторой усталости от пути все же не задумывался о том, что будет, и не мог себе представить, что через тридцать лет вынесут его больного, полупараличного, из родного дома в Рязанской губернии и на лужайке парка расстреляют» (курсив наш. – А.М.) (Зайцев, Т.4: 485).
В этом отрывке для нас важно отметить два момента. Во-первых, это педалирование ощущения надвигающегося хаоса, уже готового поглотить все еще кажущийся незыблемым космический мир России, в котором, как «искренне полагал» губернатор, царят «порядок и благоденствие». И именно это «предзнание» о грядущей гибели русского Космоса, репрезентируемого образами родных Глеба, заставляет Зайцева искать возможность его возрождения. Для этого писатель как бы исключает своих героев из «реального» времени и помещает их, как уже отмечалось многими исследователями, в парадигму времени легендарного, мифологического, в вечность. Он заключает (как и Шмелев, Осоргин, Бунин, Набоков и другие эмигрантские авторы, тяготеющие к автобиографическому дискурсу) их в сферу, где смерть уже не властна над ними, где тлен никогда не коснется их дорогих лиц, где им не грозит забвение, – в сферу памяти. Эта сфера становится своеобразным «сакральным хронотопом», на застывшем пространстве которого время остановило свой все разрушающий ход, а по краям этого погруженного в вечность мира никогда не пробежит далекая зарница надвигающего хаоса.
Но спасение и сохранение русского Космоса становится возможным лишь при условии, что образ пути в тетралогии обретает третье – символическое – значение. Это путь к себе, поиск себя в этом мире, путешествие вглубь собственной души, путь самопознания. Как писал в «Символических пространствах» Ю. Лотман, «география исключительно легко превращается в символику» (Лотман, 1999: 249). Действительно, Глеб совершает движение не столько по пространству России, сколько по пространству собственной памяти, тем самым эту Россию и воскрешая, воссоздавая заново. В этом случае закономерным выглядит и наше обращение к символическому анализу – именно он лег в основу исследования М. Мамардашвили «психологической топологии пути» «В поисках утраченного времени» Пруста, и следующие слова философа, адресованные романному циклу знаменитого французского писателя, вполне могут быть отнесены и к циклу писателя русского: «Итак, теперь мы имеем один из основных, сквозных образов мира Пруста, всего романа Пруста. А именно – образ путешествия особого рода, некоторого внутреннего путешествия, которое можно проделать, не совершая путешествия реального.
<…> Чтобы закрепить этот образ внутреннего путешествия особого рода, я напомню вам также Данте. Мы встречаем этот образ и у него, если посмотрим, конечно, на текст «Божественной комедии» глазами экзистенциальными, а не филологическими, не академическими. <…> Но я хочу несколько иначе посмотреть на текст и ухватиться за тот несомненный факт, что, кроме исторических и литературных значений, многозначные символы Данте имеют и символику внутреннего пути, лежащего в глубине души. По мысли Данте, в действительности Ад – в нашей душе и Рай – там же. Кстати, у Пруста появляется образ Рая как образ потерянного времени, равный образу Ада, и он часто, говоря о Рае, добавляет, что действительный рай – это рай потерянный » (курсив наш. – А.М.) (Мамардашвили, 1995: 18– 19).
В этом контексте вряд ли случайным можно счесть то, что одной из центральных символических фигур тетралогии является именно фигура Данте, великого поэта и изгнанника, сыгравшего в жизни самого Зайцева очень большую роль. Именно Данте прочно входит и в жизнь изгнанника-Глеба, берущегося переводить «Божественную комедию». В «Древе жизни» есть эпизод своеобразной «инициации» главного героя, когда его, стоящего у памятника великому итальянцу, «благославляют» на предстоящий нелегкий путь: «Башенные часы пробили одиннадцать. Глеб допивал свой кофе. Шляпа его лежала рядом, Данте смутно белел в нескольких шагах. Над ним, как и над Глебом, стояли звезды. И в этой тишине, чуть прерываемой иной раз одинокими шагами проходящего да негромкими словами камерьере, собиравшего и уносившего внутрь кафе столики – вдруг сверху медленно, винтообразно кружась в полете несколько таинственном, спустилось голубиное перо, маленькое и легкое – село на плечо Глеба. Оно было почти невесомо. Оно было почти не вещь. Откуда пришло? Голуби спали. Сколько оно плавало, куда носил его теплый ток? Но прилетело. Глеб снял его в неком волнении. Данте безмолвно стоял. Данте был совершенно безмолвен» (Зайцев, Т.4: 488–489). Отныне Глеб уже не может свернуть с предначертанной ему дороги, он обязан пройти по ней до конца. После символического эпизода с пером ему суждено осуществить свое высокое предназначение «под знаком Данте», и Глеб это чувствует. Он сохраняет перо как напоминание о том, что ему пора совершить еще одно - главное -путешествие, но это уже будет не очередная поездка по безграничным российским пространствам, а странствие по пространственно-временному континууму, (вос)созданному в памяти героя, (пере)житому им.
Реализация этого сложного в своей единовременности процесса помогает сама природа символического как такового, подразумевающая, что «содержание, значение символа не условно соединено с его образным выражением (как это имеет место в аллегории), и просвечивает, сквозит в нем» (Лотман, 1999: 253). То есть путешествие по России «ментальной» невозможно без движения по России географической, вернее, география России Глеба и есть география его души. Глеб осуществляет поиск себя в России и поиск России в себе. Как блестяще заметил Ф. Степун, говоря о тетралогии Зайцева, «Ока впадает у него не в Волгу, а в вечность... » (Степун, 1998: 184). Эта онтологическая гомогенность реально-достоверного и ментально-духовного позволяет исследователям говорить об особом «символическом реализме» Зайцева, когда за конкретным, «вещным» смыслом определенного образа просвечивает его метафизическое значение, когда быт «становится сверхобобщенным бытованием и бытием, так характерным всему поэтическому. Писатель намеренно, осознанно, заданно стремится к обобщению, к синтезу, к всеобщности, уходя от конкретного, отдельного, единичного» (Прокопов, 1999: 8). Поэтому в тетралогии перед нами предстает даже не столько биография Глеба, сколько «биография России», пропущенная через внутреннее «я» героя-автора. Тогда становится понятным и известное дистанцирование самого Зайцева от своего персонажа - в противном случае перед нами бы была сугубая (авто)биография, но никак не фиксация (метафизического) пути русского человека в условиях разрушающегося, но долженствующего быть восстановленным русского
Космоса . Справедливость этого замечания подтверждает и сам Зайцев, в самом крупном своем автобиографическом очерке «О себе» (1943) уточняющий: « … внутренно не оказывается ли Россия главным действующим лицом – тогдашняя ее жизнь, склад, люди, пейзажи, безмерность ее, поля, леса и т.п.? Будто она и на заднем плане, но фон этот, аккомпанемент повествования, чем дальше, тем более приобретает самостоятельности. И затем: Бог с ним с Глебом лично, но ведь он такой же (ребенок, позже подросток, юноша), как тысячи других, значит, говорить о его исканиях цели жизненной, томлениях, сомнениях религиозных и пути приближения к Истине, о его попытках творчества и культе творчества – значит, говорить о человеке вообще. А это ведь, пожалуй, не так не нужно?» (Зайцев, Т.4: 592).
Метафизический свет, брошенный Зайцевым на лежащую в глубинах памяти Россию-Китеж окрашивает ее в не просто «исторические», а в святые тона. Географический статус ее пространства уступает место статусу сакральному, о православной инкрустированности которого говорится почти в каждой публикации, затрагивающей творчество писателя. Таким образом, как и у Шмелева, перед нами выстраивается православная картина мира, но, в отличие от «Истории любовной», в первую очередь она фундируется целым рядом символических фигур, галерею которых, как мы помним, открывает образ Данте. Особое место среди них занимает, конечно же, образ Николая Чудотворца – почитание этого святого, кстати, носит у Зайцева ярко выраженный автобиорафический характер. Кроме того, как и в вышеохарактеризованном эпизоде с образом Младенца Иисуса, перед нами все тот же охранительный символ, обеспечивающий целостность русского Космоса. «Хорошо известно, – пишет Б.А. Успенский в своем исследовании культа Николы на Руси, – что Никола (св. Николай) занимает совершенно исключительное место в русском религиозном сознании. Никола, несомненно, наиболее чтимый русский святой, почитание которого приближается к почитанию Богородицы и даже самого Христа. <…> Никола может не только объединяться с Богом, но даже и противостоять ему в качестве самостоятельного и в известном смысле равноправного начала» (Успенский, 1982: 6, 13).
Николай Чудотворец по меньшей мере в двух эпизодах тетралогии в буквальном смысле слова спасает Глеба и его семью. В «Древе жизни», во время страшной послереволюционной зимы, именно образок с изображением святого сохраняет Глебу жизнь: «Из этого-то давнего гнезда, с Земляного вала на Арбат, по Воронцову полю, мимо Хитрова рынка по солянке и влекла раз зимой, этой зимой 1922 года, Элли салазки с барахлишком <…>. Но это было одно только из ее странствий, одно из испытаний зимы. Странствовала она и за дровами, и с Глебом вместе на Воздвиженку за академическим пайком. Зимой возили муку, сахар, бараний бок на салазках, а весна подошла – на деревянной тележке со скрипучими деревянными же колесиками. Но главное в этой весне была тяжкая болезнь Глеба: та самая, о которой писали матери в Прошино. Эта болезнь, когда тридцать суток Глеб лежал без памяти, в жару, когда, казалось, все было потеряно и только Элли продолжала верить и бороться (в смертный час положила на грудь Глебу икону Николая Чудотворца и к утру он ожил) – болезнь эта и выздоровление стали в семье легендой и рассказывались друзьям долгие годы, всегда волнуя. Да и как мог не волновать рассказ о полуживом Лазаре, верою и любовию спасенном – никогда потом Элли не жалела свечей Николаю Угоднику, никогда не пропускала служб ему» (курсив наш. – А.М.) (Зайцев, Т.4: 451–452). Здесь, во-первых, обращает на себя внимание мотив чудесного исцеления, инкрустация которого (как и в аналогичном эпизоде выздоровления Тони из «Истории любовной» Шмелева) православной символикой несомненна. И, во-вторых, это отчетливо здесь звучащий мотив страданий, приводящий нас к еще одному – дополнительному – значению образа пути. Это жизненный путь как путь Страстей, Крестный Путь. В свою очередь, это значение коррелирует с еще одним четко артикулированным в тетралогии мотивом – мотивом жертвенности и покаяния.
Второй эпизод – это сцена чудесного спасения Сони-собачки и Климки, когда их, попавших в метель, вывел «вызванный» Сониной молитвой «в розвальнях старичок, легенький, … вроде мужичка <…>». Чудо же заключалось в том, что старичка, проехавшего через всю деревню на глазах ее жителей, никто, кроме Сони и Климки не видел – в этом случае идентификация героями «призрачного старичка» со св. Николаем, к которому была обращена молитва Собачки, есть признание символической власти божественного начала на пространстве русского Космоса . В данном случае перед нами символическая фигура «Божьего странника», выступающего, по терминологии В. Проппа, в качестве «волшебного помощника», обеспечивающего безопасность героям в ситуации «перехода». «Появление странника в качестве «святого угодника», Бога или Его пророка есть идентификация с источником высшей санкции. Это уже не простая апелляция к Богу… Здесь прибавляется элемент власти, идентификации с источником власти» (Щепанская, 2003: 437). Символическая фигура св. Николая – через поэтику имени – отсылает нас к еще одному образу, претендующему не только у Зайцева на статус символического. Это фигура Николая II , последнего российского императора, которая на культурном пространстве эмиграции в первую очередь была связана с концептами жертвенности и святости. Симптоматично, что образ Николая II на страницах «Тишины» идет «в связке» с еще одной очень важной для поэтики и проблематики «Путешествия Глеба» символической фигурой – св. Серафима Саровского . Этот синтез позволяет вписать в легендарную, мифологическую картину мира не просто историю одной русской семьи, но и «макроисторию» России, указывает направление Крестного пути уже всей страны.
Образ Николая II получает актуализацию именно в тот момент, когда Глеб, впервые оказавшись в Москве, начинает приобщаться к древней истории России. Он начинает осознавать собственную к ней причастность, в то время как «голос автора» артикулирует включенность, «вписанность» героя в «великую цепь бытия» - цепь предков, символизируемую династиями русских царей. Глеб, таким образом, становится не просто невольным «свидетелем», но и участником легендарной истории России, прерванной, согласно «законам» мифологического космогенеза, неизбежно наступавшим хаосом и страданием: «Рядом, в Архангельском соборе, спят в каменных могилах князья, цари, что создали эту Русь. Цепь длинна! Завтра последний из них, совсем еще юный, родившийся в день Иова Многострадального, должен был въезжать в Москву для коронации» (курсив наш. - А.М.) (Зайцев, Т.4: 243). Благодаря этому уточнению читатель связывает судьбу последнего императора с судьбой библейского странствующего страстотерпца и праведника, безвинно страдающего перед лицом Бога. Тем самым дается понять, что приезд юного царя в Москву - это начало его пути на Голгофу, а вместо короны ему будет возложен терновый венец.
Аутентичность подобного переноса подтверждается и вторым эпизодом, в котором фигура Николая II уже непосредственно представлена в свете будущих роковых перемен, предначертанных и судьбе самого императора, и судьбе России, а ребристый след от велосипедных протекторов Глеба чуть не совпал с более страшной и великой стезей: «Одиноко катил в лесу Глеб. Разумеется, не мог предполагать, что через семь лет, уже в новом столетии, как раз здесь будут тянуться экипажи свиты и Императора - в Саров, на торжество причисления к лику святых старца Серафима. Если бы он остановился, след с велосипеда, сел у канавки, под медленный гул сосен представил себе все толпы, которым предстояло стекаться сюда - начиная с Государя и Царицы, духовенства и министров и кончая мужиками, бабами, калеками, хромыми и слепыми, - он, разумеется, поразился бы. Это была бы Русь и Саров, возжженный для России. Он увидел бы торжественную всенощную в Соборе - и у многих алтарей под открытым небом, средь леса, среди тысяч народа с зажженными свечами, как в Великий Четверг. Он услышал бы на полиелее неожиданно грянувшее: «Ублажаем тя, Преподобие
Отче Серафиме и чтим святую память Твою …» – Серафим перестал в ту минуту быть просто старцем: в Русской церкви появился новый святой. Он увидел бы и Императора в белом кителе вблизи амвона, и Царицу в светлом платье. Китель Императора, китель России, которой предсказал Серафиму Голгофу , мелькал потом средь всхлипований баб, в толпе мужиков – беззащитный, но еще без угроз. <…> Глеб же, обыкновенный русский юноша, способностью прорыва Времени не обладал, будущего не знал. Пророчествами, как и судьбами Родины, не интересовался» (курсив наш. – А.М.) (Зайцев, Т.4: 247–248).
На этом семантическом сегменте сконцентрировался целый спектр значений, главное из которых – сосредоточение концептов мученичества и жертвенности . Но вместе с тем здесь отчетливо прослеживается и мотив покаяния – юный Глеб, как и тысячи других «просвещенных» россиян, совсем не интересовался «судьбами Родины», но был обречен эти судьбы с ней разделить. Осознание же этого к Глебу, как и к другим героям тетралогии, приходит лишь вместе с их обращением к Богу, постижением доселе скрытого, внутреннего (мифологического/метаисторического) смысла происходящего. Как пишет современный исследователь, «стоит обратить внимание на мотив покаяния у Зайцева, который налицо в сюжете, связанном с городом Саровом. <…> Надо отметить, что в зайцевской тетралогии (во всех четырех зайцевских романах) чувствуется покаяние, признание вины не только, кстати, Глеба, но и многих других персонажей. Путь Глеба к религии и религиозности показан Зайцевым правдиво и неприкрашенно. Глеб приближался к Господу Богу медленно, стараясь все переосмыслить и понять (так было и с самим Зайцевым)» (Мяновска, 2001: 23).
Эти концепты и мотивы, символически репрезентируемые конкретными образами и фигурами, наиболее полное воплощение получают в очень важных для всего зайцевского цикла символических фигурах – русских святых Бориса и Глеба, имена которых – в качестве номенологических конвергентов – носит как сам Зайцев, так и его alter ego, главный герой цикла. Подобное символическое сближение делает зримым целый ряд культурологических, философских и историософских перспектив, в свете которых со всей четкостью очерчиваются ментальные границы эмигрантской культуры. И в первую очередь речь идет о символике жертвенности, архетипически фундирующей – и это всякий раз педалируется во время кризисных эпох – в том числе и русские культурные истоки.
В таком контексте внимание эмиграции к фигурам первых русских страстотерпцев вряд ли можно назвать случайным. Так, в ставшей знаковой для русского зарубежья книге «Святые Древней Руси» (1931) Г. Федотов пишет: «Чрез жития святых страстотерпцев, как чрез Евангелие, образ кроткого и страдающего Спасителя вошел в сердце русского народа навеки как самая заветная его святыня… Святые Борис и Глеб создали на Руси особый, не вполне литургически выявленный чин «страстотерпцев» – самый парадоксальный чин русских святых. В большинстве случаев представляется невозможным говорить о вольной смерти: можно говорить лишь о непротивлении смерти. Непротивление это, по-видимому, сообщает характер вольного заклания насильственной кончине и очищает закланную жертву там, где младенчество не дает естественных условий чистоты» (Федотов, 1990: 50). Глеб не раз «сталкивается» на своем пути – как внешнем, так и внутреннем – с этими святыми, причем каждый раз акцент делается на легитимизации их жертвенного статуса.
С этой точки зрения характерным представляется эпизод из «Тишины», когда во время одного из своих путешествий по России Глеб проезжает мимо Мурома, «но не знал того, что первый непротивленец русский, святой страстотерпец, имя которого он носил – князь Глеб был именно князь Муромский – отсюда начинал агнчий свой путь» (курсив наш. – А.М.) (Зайцев, Т.4: 254). Подобно тому, как путешествие героя по Муромской дороге здесь становится (опять посредством номенологического переноса) его движением к русским (мета)историческим истокам и одновременно указанием на характер его собственного предстоящего пути, так здесь звучит и имплицитная констатация «агнчего пути» самой России, высказанная с позиции автора-эмигранта, мифологически репрезентирующего историю родной страны через «факты» ее духовной жизни. Таким образом, уже в таком, казалось бы, далеком от исторического дискурса романном цикле, как «Путешествие Глеба», мы различаем явственные черты метаисторического нарратива. Исторические и легендарные фигуры – Иов, Николая II, св. Серафим Саровский, Иисус Христос, св. Борис и Глеб – получают статус фигур символических и объединяются в один ряд, включаются в единое семантическое поле, составляющее «жертвенный» сегмент русского культурного пространства. Последние из этих фигур призваны центрировать данный сегмент, сделать его своеобразной «реперной точкой» культуры, обреченной – в эсхатологической картине мира эмигрантов – на гибель и мученический жребий. Как пишет Б. Успенский, «Борис и Глеб – первые русские святые, и это определяет особенности их восприятия. <…> Они знаменуют начало русской истории, которая понимается – подобно еврейской истории – как священная история избранного народа. <…> История Бориса и Глеба – это история братоубийства, когда старший брат убивает младшего: Святополк убивает своих братьев, Бориса и Глеба, – и это парадигматически соотносится с библейским сюжетом о Каине и Авеле. Так начинается человеческая история – с трагедии, с жертвы. Убийство Бориса и Глеба повторяет эту трагедию» (Успенский, 2000: 41, 47). Финальное замечание Успенского еще раз наглядно иллюстрирует синкретизм и символизм эмигрантской ментальности, вписывающей братоубийство как российскую реалию начала ХХ века в архетипический контекст (русской) «мегаистории» (И. Смирнов). Смысловой эффект – от этого столь характерного для кризисного (мифо)мышления переноса культурных архетипов на современную историю успешно интенсифицируется благодаря органичному включению зайцевской тетралогии в пространство «русского текста» «Современных записок». И, как мы убедились, можно говорить о синкретизме образной корреспонденции между художественными текстами
Зайцева, Бунина, Шмелева, Набокова (с их «внеисторической» интенциональностью) и актуально-исторической проблематикой публицистического дискурса журнала. Лишь в этих условиях появляется возможность говорить об историософии эмигрантской культуры как определенной системе, в которой зайцевский путь к чаемому Космосу, к обретению утерянного «русского рая» занимает особое место: «Хаосу, крови и безобразию противостоит гармония и свет Евангелия, Церкви. (Само богослужение есть величайший лад, строй, облик космоса.)» (Зайцев, Т.4: 589).
Список литературы Мифосимволика пути в тетралогии Бориса Зайцева "Путешествие Глеба"
- Адамович, Г. Одиночество и свобода / Г. Адамович. – М.: Республика,1996. – 447 с.
- Анисимова, М.С., Захарова, В.Т. Мифологема «дом» и ее художественное воплощение в автобиографической прозе русского Зарубежья / М.С. Анисимова, В.Т. Захарова. – Нижний Новгород: НГПУ, 2004. – 154 с.
- Зайцев, Б.К. Собрание сочинений. В 5 тт. Т. 4: Путешествие Глеба: Автобиограф. Тетралогия / Б.К. Зайцев. – М.: Русская книга, 1999. – 615 с.
- Козыро, Л.А. Образ природы в тетралогии Б. Зайцева «Путешествие Глеба» / Л.А. Козыро // Проблемы изучения жизни и творчества Б. К. Зайцева. Вып. 3. – Калуга: Граф, 2001. – С. 98–104.
- Лотман, Ю.М. Внутри мыслящих мифов. Человек – текст – семиосфера – история / Ю.М. Лотман. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 464 с.
- Мамардашвили, М.К. Лекции о Прусте (психологическая топология пути) / М.К. Мамардашвили. – М.: Ad Marginem, 1995. – 548 с.
- Мяновска, И. Мироощущение православного человека (На материале тетралогии Б. Зайцева «Путешествие Глеба») / И. Мяновска // Проблемы изучения жизни и творчества Б. К. Зайцева. Вып. 3. – Калуга: Гриф, 2001. – С. 18–29.
- Прокопов, Т. Легкозвонный стебель. Лиризм Б.К. Зайцева как эстетический феномен / Т. Прокопов // Зайцев Б.К. Собрание сочинений. В 5 тт. Т.3. Звезда над Булонью: Романы. Повести. Рассказы. Книга странствия. – М.: Русская книга, 1999. – С. 3–11.
- Степун, Ф.А. Встречи / Ф.А. Степун. – М.: Аграф, 1998. – 256 с.
- Страхов, А.Б. Ночь перед Рождеством: народное христианство и рождественская обрядность на Западе и у славян. Palaeoslavica XI. Supplementum 1 / А.Б. Страхов – Cambridge: Palaeoslavica, 2003. – 380 с.
- Успенский, Б.А. Филологические разыскания в области славянских древностей / Б.А. Успенский. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 248 с.
- Успенский Б.А. Борис и Глеб: Восприятие истории в Древней Руси / Б.А. Успенский. – М.: Языки русской культуры, 2000. – 128 с.
- Федотов, Г. Святые Древней Руси / Г. Федотов. – М.: Моск. рабочий, 1990. – 269 с.
- Хренов, Н.А. Культура в эпоху социального хаоса / Н.А. Хренов. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 448 с.
- Щепанская, Т.Б. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX-XX вв. / Т.Б. Щепанская. – М.: Индрик, 2003. – 528 с.
- Юнг, К.Г. Душа и миф: шесть архетипов / К.Г. Юнг. – М.–К.: ЗАО «Совершенство» - «Port-Royal», 1997. – 384 с.