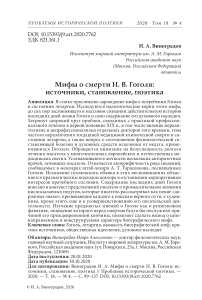Мифы о смерти Н. В. Гоголя: источники, становление, поэтика
Автор: Виноградов Игорь Алексеевич
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.18, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье прослежено зарождение мифа о погребении Гоголя в состоянии летаргии. Исследуются идеологические корни этого мифа, до сих пор заслоняющего в массовом сознании действительную историю последних дней жизни Гоголя и само содержание его духовного наследия. Затронут широкий круг проблем, связанных с практикой профессионального лечения в первой половине XIX в., в том числе явление меркантилизма и непрофессионализма отдельных докторов того времени, тема частого неразличения тогдашней медициной клинической смерти и состояния летаргии, а также вопрос о соотношении физиологической составляющей болезни и духовных средств исцеления от недуга, применявшихся Гоголем. Обращается внимание на безуспешность долгого лечения писателя у многочисленных европейских и отечественных медицинских светил. Устанавливаются личности нескольких авторитетных врачей, лечивших писателя. Отмечается апокрифичность ряда сведений, сообщаемых в мемуарах штаб-лекаря А. Т. Тарасенкова, посвященных Гоголю. Искажение гоголевского облика в этих воспоминаниях объясняется прагматическим подходом доктора в отстаивании корпоративных интересов врачебного сословия. Содержание последних дней Гоголя вписано в контекст представлений писателя о промыслительном значении ниспосылаемых недугов, которые писатель рассматривал как некие «дорожные знаки», призывающие каждого к поискам верного пути, а художника, кроме этого, еще и к усовершенствованию его писательской деятельности. Изучение предвзятых мнений о Гоголе как о религиозном фанатике, поведение которого перед смертью будто бы послужило причиной его преждевременной кончины, позволяет сделать вывод о целенаправленном и конструируемом характере биографического мифа.
Гоголь, летаргия, вымысел, биографический миф, критика источников, общественная идеология, духовное наследие
Короткий адрес: https://sciup.org/147227262
IDR: 147227262 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.15393/j9.art.2020.7762
Текст научной статьи Мифы о смерти Н. В. Гоголя: источники, становление, поэтика
В восприятии и оценке писательского наследия, помимо непосредственного воздействия на читателя художественных образов, значительную роль часто играют бытующие в обществе расхожие представления о личности художника. В полной мере это относится к заключительным годам жизни Н. В. Гоголя — периоду, который отмечен работой писателя над книгой о Литургии, созданием молитв и духовно-нравственных трактатов, целого тома статей религиозно-патриотического содержания.
Суть бытующих в массовом сознании неоднозначных представлений о «позднем» Гоголе сводится к тому, что писатель будто бы уморил себя голодом в приступе религиозного фанатизма. В этой составляющей мифа о последних днях жизни Гоголя обнаруживаются по крайней мере два существенных аспекта, указывающих на его необъективность и предвзятость1. Во-первых, в оценках современников и позднейших критиков, недоброжелательно расположенных к «позднему» Гоголю, то состояние, когда писатель, будучи еще в силах, сознательно ограничивал себя в пище, едва ли не намеренно смешивается с тем периодом, когда Гоголь слег и по болезни принимать пищу уже не мог [Виноградов, 2018, т. 7: 285, 294, 302, 309, 317], т. е. «постничал поневоле» из-за проблем с желудком [Виноградов, 2018, т. 7: 306] (строго разделить эти два состояния, впрочем, едва ли возможно и при непредвзятом подходе).
Во-вторых, в критических суждениях о роли аскетических традиций в судьбе Гоголя заключается полемическое мнение, связанное не столько с биографией самого писателя, сколько с представлениями мировоззренческого характера: в этих суждениях содержится скрытое возражение о ненужности или даже «вреде» поста как такового. Гоголь действительно соблюдал пост в 1852 г. (начиная с первых дней масленицы), но то, что это пощение было для него чрезмерным, является не более чем домыслами современников, причем не только идейных противников писателя, но и близких ему лиц. Среди последних опасение насчет строгого соблюдения поста объяснялось серьезной озабоченностью и тревогой по поводу болезненного состояния Гоголя. Такую заботу в последние дни жизни писателя проявляли, предостерегая от неумеренного пощения, крепостной слуга писателя Семен Григорьев, граф А. П. Толстой (хозяин дома, где Гоголь жил последние годы), С. П. Шевырев, А. С. Хомяков, Л. И. Арнольди. Следуя общим мнениям, такого же убеждения о необходимости для Гоголя послабления поста придерживались, в той или иной степени, М. П. Погодин, М. С. Щепкин, В. С. Аксакова, Ф. Ф. Рихтер, штаб-лекарь А. Т. Тарасенков2.
Однако то, что в кругу гоголевских друзей и знакомых диктовалось естественным желанием подкрепить силы больного, приобретало принципиально иное звучание в устах тех, кому духовные устремления писателя были чужды. С намеком на сумасшествие Гоголя передавал слухи о его пощении за две недели до смерти недоброжелательно настроенный к писателю последователь В. Г. Белинского А. Д. Галахов (см.: [Виноградов, 2018, т. 7: 275]). Такой же характер носили упоминания о посте Гоголя в 1852 г. других представителей западнической партии: В. П. Боткина («…Гоголь умер в помешательстве, которое, начавшись слегка, уже несколько лет постепенно все усиливалось и, наконец, достигло своего крайнего развития» [Виноградов, 2018, т. 7: 337]); Д. Н. Свербеева («…Гоголь под сильным влиянием душевной болезни, которая во врачебной науке справедливо называется mania religiosa, сам уморил себя голодом» [Виноградов, 2018, т. 7: 354])3. Как «аскетическую окись», «мистическое расстройство духа», «душевную болезнь», проявление «странных религиозных излишеств» характеризовал последние дни жизни Гоголя еще один бывший приятель Белинского А. В. Никитенко [Виноградов, 2018, т. 7: 282, 318, 367].
Впрочем, на полное понимание Гоголь не мог рассчитывать не только у западников, противоположных ему по взглядам, но и среди друзей. Примечательны объяснения кончины писателя, сделанные в 1854 г. одним из давних приятелей Гоголя славянофилом С. Т. Аксаковым. В «Истории нашего знакомства с Гоголем…» Аксаков заявлял, будто причиной смерти Гоголя стало «постоянное стремление <…> к улучшению в себе духовного человека и преобладание религиозного направления»; по мнению мемуариста, это стремление достигло к концу жизни Гоголя столь «высокого настроения», что стало «несовместимо с телесным организмом человека» [Кулиш: 319]. По поводу этих строк известный духовный писатель и ученый Л. А. Кавелин (позднее — архимандрит Леонид, наместник Троице-Сергиевой Лавры) в письме к П. В. Киреевскому от 10 августа 1856 г. замечал, что с такими «выводами <…> трудно согласить-ся»4. Поставив против слов Аксакова вопросительный и два восклицательных знака, Кавелин писал: «…Пока наши писатели не познакомятся с истинным началом Христианской, или же Православно-Хр<истианской> Психологии (писан<иями> Отеческими, преимущ<ественно> Св. Исаака Сирана, Лествичника и твор<ениями> отеч<ескими>, помещ<енными> в Филокаллии <Добротолюбии; греч.>), до тех пор они не будут в состоянии выражать ясно свои мысли о дух<овной> стороне человека»5.
Другим распространенным мнением о «неправильном», будто бы чрезмерно ревностном, «не по разуму» (Рим. 10:2; ц.-сл.) духовном развитии Гоголя является предубеждение, что писатель в последние дни жизни отказывался от медицинской помощи, считая греховным лечиться. Это мнение заслуживает отдельного анализа. Заранее лишь отметим, что и с этой стороны разбираемый миф о «позднем» Гоголе тоже носит вполне идеологизированный, целенаправленный характер6.
Венцом упомянутых суждений, одинаково связанных с критической интерпретацией духовного наследия Гоголя, является легенда о том, будто писатель был похоронен заживо. Подоплека этой мифологемы, в свою очередь, не лишена определенного идеологического подтекста. Ее скрытая цель — внушить сомнение, с одной стороны, в том, что смерть Гоголя не была той «непостыдной, мирной» кончиной, которая могла бы свидетельствовать о его праведности, с другой, — предложить усомниться в «справедливости» или даже в существовании самого Промысла. Показательно, что «вспышка» мифа о погребении Гоголя заживо приходится именно на безрелигиозную советскую эпоху, когда в 1931 г. группа советских писателей присутствовала на вскрытии могилы Гоголя в Свято-Даниловом монастыре и перенесении праха писателя на Новодевичье кладбище. Крайне сбивчивые и противоречивые показания этих «свидетелей» (см. об этом: [Паламарчук: 101–109], [Лидин]) впоследствии определенно способствовали возбуждению внимания общества к обстоятельствам кончины Гоголя.
Происхождение указанных «преданий» давно нуждается в пристальном и детальном изучении. Диагноз предсмертной болезни Гоголя, ее история и сама причина смерти волновали уже современников писателя (см.: [Виноградов, 2018, т. 7: 242–367]). Гоголь болел много, столь же много и долго лечился. Крепким здоровьем он не был наделен от рождения. Отношение к проблеме недугов не могло не найти отражения в его художественном творчестве. В частности, с христианским пониманием значения болезней прямо связано происхождение, на первый взгляд, только комической «меланхолии», в которую внезапно погружается, размышляя о своем «железном» здоровье, один из героев знаменитой гоголевской поэмы, помещик Собакевич. Физическое состояние этого хаживавшего на медведя «богатыря» таково, что не дает никаких поводов для леченья и, что еще более важно, — для духовного роста, или, согласно Гоголю, для возобновления через болезнь памяти смертной, — «скорее железо могло простудиться и кашлять, чем этот на диво сформированный помещик»: «“Нехорошо, нехорошо <…>. Вы посудите <…> пятый десяток живу, ни разу не был болен; хоть бы горло заболело <…> Нет, не к добру! когда-нибудь придется поплатиться за это”. Тут Собакевич погрузился в меланхолию»7.
Позднее свое отношение к болезням Гоголь откровенно высказал в одном из писем своей знаменитой итоговой книги «Выбранные места из переписки с друзьями», в статье «Значение болезней». По поводу этой статьи один из гоголевских корреспондентов, капитан-лейтенант в отставке И. И. Барановский, ослепший от болезни, писал Гоголю после знакомства, состоявшегося незадолго до смерти писателя: «В вас я нашел истинные доброжелательства к людям, светлый ум и доброе сердце. <…> Вы много страдали от болезни и переносили с христианским терпением; читая об этом в ваших сочинениях, я укрепился духом, чтобы нести и мой крест» (15: 463–464). Однако ни взгляды самого Гоголя на значение недугов в духовном возрастании, ни его итоговые представления о медицине не явились определяющими в осмыслении последних дней жизни писателя, дней, ознаменованных трагическим сожжением второго тома «Мертвых душ». Более востребованными и более известными оказались не подлинные факты о кончине писателя, а явившиеся по этому поводу слухи и догадки. Назрела необходимость представить реальную историю предсмертного лечения и смерти писателя, а также проследить собственную, «внутреннюю» логику того «неистребимого», из уст в уста передаваемого «предания», которое в обыденном сознании оказалось «сильнее» правды. Можно указать несколько источников возникновения биографического мифа о Гоголе.
Главный из них, хотя и не единственный, — ожесточенная борьба за наследие Гоголя, развернувшаяся еще при его жизни. Мнение о религиозном фанатизме писателя, будто бы ставшем причиной его смерти, на обывательском уровне является рецедивом идеологического противостояния, которое было начато по отношению к Гоголю известным радикальным критиком В. Г. Белинским. Идейная борьба Белинского с Гоголем завязалась еще в 1835 г., по выходе в свет гоголевских сборников «Миргород» и «Арабески». В открытую вражду их противостояние вылилось в 1847 г., с изданием книги «Выбранные места из переписки с друзьями». В этой книге Гоголь предпринял попытку обнаружить перед читателями свой настоящий писательский облик — в ответ на произвольные интерпретации его художественных произведений в радикальной критике.
Сам Белинский в 1847 г. заявлял: «Когда мы хвалили сочинения Гоголя, то не ходили к нему справляться, как он думает о своих сочинениях…» [Белинский, т. 10: 76]. Подобное игнорирование подлинного смысла литературных произведений Белинский демонстрировал не только в отношении Гоголя. Уже в самой первой своей критической работе, принесшей ему известность, — статье «Литературные мечтания» (1834), Белинский из всех русских писателей и поэтов безусловно одобрял только А. С. Грибоедова, при этом похвалы от Белинского Грибоедов заслужил исключительно за то, что, по словам критика, «заклеймил» изображенные в комедии «Горе от ума» лица «мстительною рукою палача-художника» [Белинский, т. 1: 81]. Таким же «страшным и мстительным художником» Белинский называл в той же статье князя
В. Ф. Одоевского: «Как глубоко <…> измерил он неизмеримую пустоту и ничтожество того класса людей, который преследует с таким ожесточением…» [Белинский, т. 1: 97]. Надо ли говорить, что «палачами» и «мстителями» ни Грибоедов, ни Одоевский, равно, как и Гоголь, тоже перетолкованный позднее Белинским на свой нигилистический лад, никогда не были.
После кончины Гоголя в 1852 г. последователи Белинского продолжили начатую покойным критиком традицию по истолкованию гоголевского творчества в радикальном духе. Этому, в частности, служила некрологическая заметка И. С. Тургенева о Гоголе, напечатанная в 1852 г. в «Московских Ведомостях», а также некрасовское стихотворение «Блажен незлобивый поэт…», опубликованное тогда же в редактируемом самим Некрасовым журнале «Современник». В стихах Некрасова Гоголь объявлялся (как бы в продолжение давних слов Белинского о «палачах-художниках») не тем « незлобивым поэтом», о котором говорилось в первых строках стихотворения, но, напротив, исполненным «ненавистью» «карающим» сатириком, вооруженным «враждебным словом отрицанья». Первые биографические работы о Гоголе украинского сепаратиста П. А. Кулиша тоже появились в 1852, 1853 и 1854 гг., в самых либеральных журналах того времени — в «Отечественных Записках» и «Современнике»8. Вскоре последовали мемуарные записки о Гоголе западника П. В. Анненкова и воспоминания о Гоголе того же Ивана Тургенева. Задачей, которую ставили перед собой эти мемуаристы, было стремление «доказать», вопреки фактам, исключительную «правоту» Белинского в истолковании Гоголя. Эта традиция впоследствии была продолжена в статьях и книгах позднейших публицистов либерально-демократического лагеря. Эти истоки рассматриваемой составляющей мифа о писателе вполне понятны и вопросов не вызывают.
Более сложным является определение корней легенды о том, будто Гоголь был погребен в состоянии летаргии. В возникновении этой слагаемой мифа, наиболее будоражащей сознание, обнаруживается не один, а целый набор источников. Попытка дифференцировать их до настоящего времени не предпринималась.
Существенную роль в домыслах о том, будто Гоголь был похоронен заживо, сыграли, во-первых, два упоминания о летаргии в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Обостренное внимание современников к причинам смерти Гоголя вызывала открывающая эту книгу глава «Завещание». В самом первом пункте «Завещания» Гоголь поместил предупреждение не погребать его «до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения» (6: 9). Второе напоминание о летаргии в «Выбранных местах из переписки с друзьями» содержится в другой главе книги, в статье «Исторический живописец Иванов». Объясняя положение художника Александра Иванова, не имеющего возможности оправдать причины долгого создания картины «Явление Христа народу» («Явление Мессии»), Гоголь ссылается на свой похожий опыт: «Клянусь, бывают так трудны положенья, что их можно уподобить только положенью того человека, который находится в летаргическом сне, который видит сам, как его погребают живого, и не может даже пошевельнуть пальцем и подать знака, что он еще жив» (6: 122).
Слова Гоголя об Иванове продиктованы, судя по всему, не только стремлением помочь приятелю-художнику, но и намерением поделиться размышлениями о своей участи: заявить о себе как художнике, которого радикальная критика, произвольно истолковывая его произведения, «погребает живого». В декабре 1844 г. Гоголь писал о себе П. А. Плетневу: «Друг, ну что если <…> нашелся один такой страдалец, над которым обрушилась такая странность, что всё, что ни сделает и ни скажет, принимается в превратном значении <…> что он не может произнести и слова в свое оправдание [подобясь тому, который, находясь в летаргии, слышит и видит, что его <…> зарывают живого в землю…] подобясь находящемуся в летаргии» (12: 523).
Перечисленные три упоминания об опасении оказаться в положении человека, которого «погребают живого» (два — в «Выбранных местах из переписки с друзьями» и одно — в письме к Плетневу), — не единственные у Гоголя. Мысль о погребении заживо, по-видимому, преследовала его на протяжении всей жизни. О летаргии Гоголь упоминал, в частности, в одном из самых ранних своих произведений, в повести
«Страшная месть» («Мне пришла на ум забавная история: я вспомнила, как погребали моего мужа. Ведь его живого погребли…» (1–2: 237)), а также в двух своих ранних статьях, напечатанных в 1835 г. в сборнике «Арабески» — «О преподавании всеобщей истории» («Наконец на весь древний мир непостижимо находит летаргический сон <…> страшная неподвижность <…> ужасное онемение жизни…» (6: 277)) и «Последний день Помпеи» («Картина Брюллова — <…> светлое воскресение живописи, пребывавшей долгое время в каком-то полулетаргическом состоянии» (6: 289)). В 1839 г. Гоголь в письме к школьному другу А. С. Данилевскому замечал: «…На тебя страшно действует нужда. <…> Твой ум меньше всего <…> действует в это время, на него находит летаргическое усыпление…» (11: 238). Спустя полтора года Гоголь сообщал М. П. Погодину о своем пребывании в Вене летом 1840 г.: «…В Вене <…> я почувствовал, что нервы мои пробуждаются, что я выхожу из того летаргического умственного [усыпления] бездействия, в котором я находился в последние годы и чему причиною было нервическое усыпление…» (11: 322). «Страшный обряд казни» погребением заживо, который «долго потом все чудился» герою, Гоголь описал в 1842 г. во второй редакции «Тараса Бульбы» (1–2: 325)9.
Ранее уже отмечалось, что тревожившую его мысль о летаргии Гоголь мог почерпнуть из отдельного издания книги немецкого доктора медицины И. Г. Эллизена (знакомого своего школьного наставника, директора Нежинской гимназии И. С. Орлая), вышедшей в свет в Петербурге в 1801 г.: «Врачебные известия о преждевременном погребении мертвых, собранные Иоганном Георгом Давидом Еллизеном. С нем. перевел В. Джунковский» [Виноградов, 2000: 356]. В книге немецкого врача, занимавшегося, помимо врачебной практики, активной масонской деятельностью (в 1788–1821 гг. он состоял членом нескольких европейских и российских лож [Серков: 925]), идет речь о многочисленных случаях преждевременного погребения мнимо умерших за границей и в России.
В свою очередь, рассказы о летаргии, откровенно антирелигиозного характера, распространяли среди воспитанников Нежинской гимназии преподаватели, также состоявшие в противоправительственных обществах: профессора Ф. И. Зингер, И. Я. Ландражин, К. В. Шапалинский и Н. Г. Белоусов. Составлявшие отдельную группу среди других нежинских наставников (с которыми эти профессора находились в противостоянии), все четверо в 1830 г. были осуждены личным распоряжением Императора Николая I в связи с открытым в Нежине в 1826 г. так называемым «делом о вольнодумстве». Согласно показаниям, данным на следствии одним из учеников, А. А. Котляревским, семнадцатилетний воспитанник Н. В. Кукольник (известный впоследствии писатель), — любимым наставником которого был упомянутый профессор Зингер, — говорил ему, Котляревскому, в августе 1827 г. «о Религии Христианской <…> свои весьма дерзкие» слова: «…Лазарь, которого Христос воскресил, не умирал, а находился только в летаргическом сне от напитка, Петром Апостолом ему умышленно данного» [Виноградов, 2017, т. 1: 603].
Книгой И. Г. Эллизена и антихристианскими нападками нежинских «прогрессивных» профессоров на таинство Воскресения, безусловно, не ограничивается круг источников, которые могли быть известны Гоголю до издания «Выбранных мест из переписки с друзьями» по вопросу летаргии. В 1831 г. в журнале «Сын Отечества и Северный Архив» была напечатана переводная, с французского, статья «Летаргический сон», где состояние летаргии также описывалось как возможность для каждого оказаться зарытым заживо: «…Горе несчастному, который соделался жертвою <…> ужасной ошибки! Сопровождаемый слезами родственников <…> он приближается к вечному жилищу, в котором ожидают его пробуждение и отчаяние! <…> Могильщики, в окрестностях Женевы, заметили, что некоторые трупы в гробу переворотились и сглодали свои руки; нет сомнения в том, что эти несчастные были похоронены живые <…> Летописи Медицины представляют многие примеры сих ужасных ошибок, которые делаются предметом тщетного сожаления» [Летаргический сон: 181–183].
Кроме этих публикаций, опасения быть погребенным в состоянии летаргии, по-видимому, были навеяны Гоголю рядом соответствующих статей «Журнала Министерства Внутренних
Дел», на этот раз 1840-х гг. — времени, непосредственно предшествовавшего созданию итоговой гоголевской книги. В 1844 г. в министерском журнале, в статье «Заботливость Французов о предупреждении опасности погребения заживо мнимоумерших», сообщалось: «…Во Франции закон предписывает строгие меры к удостоверению в действительности смерти покойников <…> Несмотря на то, бывают и там ужасные случаи погребения живых <…> У нас принята против подобных случаев простейшая и благонадежнейшая мера: запрещение предавать тело погребению до истечения трех суток после смерти. Мера эта, исполняемая во всей буквальной строгости, лучше достигает цели, чем всякое свидетельствование, которое не может же никогда не ошибаться» [Заботливость французов: 496–497]. Казалось бы, опасения по поводу судьбы мнимо умерших были развеяны. Сомнения на этот счет были отвергнуты в официальном, правительственном печатном органе. Но в 1846 г. читателей того же журнала извещали: «…Прочтите книжку, которую издало на днях <…> Министерство Внутренних Дел, под заглавием “О средствах к предупреждению погребения обмерших”10. <…> гнилость в трупе обыкновенно оказывается на третий или на четвертый день по смерти, но иногда <…> через 20 дней <…><Мнимого> покойника <…> можно жечь <…> раскаленным железом, и он не окажет ни малейшего знака чувствительности, а между тем такой покойник все-таки может быть не покойником, а только обмершим <…>. Все это подробно развито и доказано в помянутой, изданной Министерством, книжке <…>. В <…> изданной Министерством книжке предлагается немедленно приступить и у нас к устройству таких домов, под именем “упокойных” <…> какие существуют за границею» [О погребении обмерших: 453–455, 458].
Позднее протоиерей Е. А. Попов, говоря о случаях преждевременного погребения мнимо умерших, указывал на значение этих фактов для воспитания памяти смертной: «… Слышимый рассказ о том, как иной обмерший в могиле стонал, как потом найден был с признаками страшной борьбы со смертью (изломанная крышка гроба, изорванная рубашка, искусанные персты) <…> ужасает. Да мы стараемся отдалять от себя подобные представления, будто и умирать нужно только другим, а не нам» [Попов: 1020].
Опасения Гоголя быть погребенным заживо, в летаргическом сне, оказались, вопреки распространенному мифу, несостоятельными. Завещая в «Выбранных местах из переписки с друзьями» не погребать его тела «до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения» (6: 9), Гоголь исходил из того, что «единственный верный признак смерти есть общая гнилость трупа » [О погребении обмерших: 454] — «то состояние, когда мертвое тело, подлежа общим законам физической природы, подвергается разложению » [О средствах к предупреждению: 4]. Первый пункт гоголевского «Завещания» с буквальной точностью был исполнен в 1852 г. скульптором Н. А. Рамазановым. «Явные признаки разложения» скульптор обнаружил 21 февраля этого года, в день кончины писателя, когда снимал посмертную маску с лица покойного. В тот день, вернувшись домой, Рамазанов писал Кукольнику: «Когда я ощупывал ладонью корку алебастра — достаточно ли он разогрелся и окреп, то невольно вспомнил завещание (в письмах к друзьям), где Гоголь говорит, чтобы не предавать тело его земле, пока не появятся в теле видимые признаки разложения, — после снятия маски можно было вполне убедиться, что опасения Гоголя были напрасны; он не оживет, это не летаргия, но вечный, непробудный сон!» [Виноградов, 2018, т. 7: 335–336]. Еще один современник, А. Н. Костылев, спустя несколько дней, 9 марта 1852 г., сообщал П. И. Бартеневу: «Сняли и маску, причем содрали несколько кожи с носа…» [Виноградов, 2018, т. 7: 336].
26 февраля 1852 г. заметку о снятии маски Гоголя Рамазанов напечатал в «Московских Ведомостях», где еще раз указал на «следы разрушения» тела писателя, замеченные как и им самим, так и помогавшим ему в изготовлении слепка стариком-формовщиком Барановым: «Когда я подошел к телу Гоголя, он не казался мне мертвым. Улыбка рта и не совсем закрытый правый глаз его породили во мне мысль о летаргическом сне, так что я не вдруг решился снять маску; но приготовленный гроб, в который должны были положить, в тот же вечер, его тело, наконец, беспрестанно прибывавшая толпа желавших проститься с дорогим покойником, заставили меня и моего старика, указывавшего на следы разрушения, поспешить снятием маски» [Рамазанов: 260]. Помимо заключения врачей, констатировавших смерть, этими свидетельствами двух очевидцев, непосредственно наблюдавших «следы разрушения» тела покойного, полностью развенчивается пресловутый миф о гоголевской летаргии.
Как известно, Гоголь испытывал сильный страх перед смертью. Одной из причин страха — хотя, по-видимому, не главной, — возможно, была мысль о летаргическом сне. В 1852 г. после внезапной кончины Е. М. Хомяковой Гоголь говорил: «…Страшна минута смерти». Когда кто-то ему возразил: «Почему же страшна? <…> Только бы быть уверену в милости Божией к страждущему человеку, и тогда отрадно думать, что он умрет», — Гоголь ответил: «Ну, об этом надобно спросить тех, кто перешел через эту минуту» [Виноградов, 2018, т. 7: 240]. Однако, несмотря на испытываемый страх, несмотря на опасение быть погребенным заживо, само понимание болезней и смерти было для Гоголя неразрывно связано с верой в участие Промысла в жизни человека.
Именно в глубокой, с юных лет, гоголевской религиозности заключается также подлинное, не имеющее ничего общего с мифом о Гоголе как фанатике и суевере, отношение писателя к недугам и врачебной практике своего времени. Так же, как отношение к болезням и смерти, оценка Гоголем современной медицины неизменно, во все периоды его жизни, носила духовно-взвешенный, осмысленный характер. Со своими недугами Гоголь на протяжении четверти века обращался ко многим знаменитым докторам того времени. Известны имена более двух десятков лечащих врачей писателя, отечественных и зарубежных. Из них, пожалуй, наибольшую роль в судьбе Гоголя сыграл — в самый ранний, нежинский период, — упомянутый директор Нежинской гимназии, доктор медицины, бывший лечащий врач Александра I, Иван Семенович Орлай [Виноградов, 2005]. Одна из самых первых выписок Гоголя в его «Книге всякой всячины, или подручной Энциклопедии», заведенной в 1826 г. в Нежине, — заметка «Аптекарской вес» (9: 494), появилась здесь благодаря Орлаю. Позднее, в 1840-х гг., неподдельное, исключительное уважение Гоголя среди врачей завоевал своими методами лечения самобытный австрийский целитель, один из основателей гидротерапии Винцент Присниц (Vinzenz Priesznitz; 1799–1851), владелец водолечебницы в местечке Грефенберг-Фрейвальдау при подошве Судетских гор, в Австрийской Силезии (ныне Приснитцовы Лазне в Есе-нике) (см. о нем: [Зелингер]).
В Грефенберге Гоголь впервые побывал в 1845 г. вместе с графом А. П. Толстым. Он лечился тогда у В. Присница после сожжения в июне 1845 г. первоначальной редакции второго тома «Мертвых душ» и составления завещания. Второе лечение в Грефенберге состоялось летом 1846 г. Однако интерес к методу Присница Гоголь проявил гораздо раньше. Это, по-видимому, было связано с тем, что подобный метод практиковал известный на Украине врач, домашний доктор Гоголей М. Я. Трахимовский (Трохимовский). А. О. Смирнова, со слов Гоголя, рассказывала о его семье: «Их домашним Доктором был Трохимовский; он по-своему лечил давно, до Греффен-берга <Грефенберга>, холодной водой; вся процедура происходила у реки на солнце, не было ни завертывания в мокрые простыни, ни душа, раздражающих спинной мозг. <…> “Бог, — говорил Доктор, — так щедр и милосерд, что дает ему (человеку. — И. В .) на его месте, и в свое время, что ему нужно <и> на пищу и на его здоровье”» [Виноградов, 2017, т. 1: 243].
С похожей духовно-нравственной точки зрения Гоголь оценивал и водолечение австрийского врача. 30 мая (н. ст.) 1839 г. он сообщал о Приснице М. П. Балабиной: «Слышали ли вы о чудесах, производимых <…> медиком, воспитанным одною натурою, без помощи медицинских академий, и проч. и проч.? Я один из числа самых неверующих <…> и всегда сомнительно качал головою, когда слышал, как вы внимали вздорам Фишера11 или глотали ваши гомеопатические порошки и аллопатические гадости в виде микстур. Но <…> я <…> своими глазами видел такие чудеса» (11: 233). 18 июня (н. ст.) 1843 г. в письме к поэту Н. М. Языкову (страдавшему «спинной сухоткой» (12: 245)) Гоголь, пересказывая содержание письма к нему Ар. О. Россета из Грефенберга, повторял: «…Не столько самая вода изумила меня своими действиями <…> сколько гений исцеляющего ею, пред которым мы должны все поклониться <…> грех на душах наших, если мы этого не сделаем. Это значит — не благоговеть перед величеством Божиим, вселившим в человека такое откровение…» (12: 248).
Сходное религиозное осмысление Гоголем врачебной практики гидропатов М. Я. Трахимовского и В. Присница, а также его духовный взгляд на медицину, безусловно, не могли не встретить критики гоголевских идейных противников. Здесь вновь обнаруживаются идеологические корни того мифа о Гоголе, который до сих пор бытует в обыденных представлениях о писателе. В свое время один из упомянутых творцов западнической мемуарной «мифологии» о Гоголе, близкий приятель Белинского Анненков12, заявлял о будто бы «страстном» (см.: [Виноградов, 2017, т. 3: 540]), неразумном «увлечении» Гоголя лечением Присница. Вслед за Белинским Анненков в своих записках стремился доказать тезис о Гоголе как гениальном художнике, но ограниченном во взглядах, недалеком мыслителе. Художнике, будто бы обязанном своими произведениями не собственной литературной одаренности, а состояниям транса, как «поэтическом сомнамбуле» [Белинский, т. 1: 286].
На самом деле, вопреки предвзятым суждениям Анненкова, никакого неумеренного восхищения методом Присница — слепого увлечения «мистическим значением грефенбергов-ского способа лечения холодной водой»13 — Гоголь не испытывал. Подозреваемого «религиозного фанатизма» по отношению к «чудесам» этого медика у Гоголя не было14. Так, в 1842 г., в день своих именин 9 мая, Гоголь, по свидетельству приглашенной на этот вечер В. С. Аксаковой, даже развлекал дам шутками, рассказывая «всякие пустяки об леченьи Присница» [Виноградов, 2018, т. 4: 78]. В последующих письмах к друзьям писатель высказывал не только шутливое, но и критическое отношение к некоторым крайним методам, практиковавшимся в Грефенберге (см. подробнее: [Виноградов, 2017, т. 3: 540–542]). Таким образом, ни о каких бурных, чрезмерных восторгах Гоголя по поводу грефенбергского лечения говорить не приходится. 1 мая (н. ст.) 1845 г., он, в частности, писал Ар. О. Россету: «Я не хлопочу из-за совершенного здоровья, и чуть только мне немного делается лучше — я подальше от докторов и леченья. Припомните, что я и вам советовал прежде вашего путешествия к Призницу не пускаться в такие глубины водоврачевания, а довольствовать<ся> просто утренним обливанием дома…» (13: 106). В письме к Языкову от 8 января (н. ст.) 1846 г. — в период между двумя лечениями у Присница — Гоголь восклицал: «…Да будет во всем Божья воля! Жду от Него одного только помощи, Его одного только средства действительны и могут излечить меня» (13: 255).
Высокая оценка Гоголем лечения у Присница основывалось отнюдь не на «страстном увлечении», как утверждал Анненков, но на вполне трезвом и взвешенном подходе. Эта оценка проистекала из давних размышлений Гоголя об отличии истинного врачебного искусства от доходного ремесла. Такого рода размышления, в частности, были связаны с гоголевскими воспоминаниями об отце. Незадолго до своей смерти в 1825 г. тяжко страдающий Василий Афанасьевич, отправившись лечиться в Лубны к местному штаб-лекарю Ф. П. Голованеву15, писал жене в Васильевку: «…Голованев оставил меня лечиться у себя — сие для нас будет весьма разорительно, но что делать <…> Бога ради старайтесь собирать деньги; ибо мне здесь много надобно» [Виноградов, 2017, т. 1: 461]. Спустя две недели отец Гоголя покинул Лубны и еще через пять дней скончался. По свидетельству Василия Афанасьевича, Голова-нев его так «залечил <…> и в такое привел <…> расслабленное положение», что в конце лечения он не мог «уже и говорить» [Виноградов, 2017, т. 1: 465]. Много лет спустя штаб-лекарь Тарасенков, сообщая о странном убеждении Гоголя (будто «кишки его перевертываются» [Виноградов, 2018, т. 7: 270]), приводил слова писателя о том, что «это болезнь его отца, умершего в такие же лета16, [и притом от того, что его лечили] а прибегнуть к лечению не хочет, потому что эта болезнь и у отца сделалась смертельною от того, что его лечили » [Виноградов, 2018, т. 7: 270] (курсив мой. — И. В. ).
Представлением о враче как об одном из «правящих миром» корыстолюбивых ремесленников (6: 201–202), чьи занятия — с исключительной целью обогащения — подобны промыслам «законоведцев и нотариусов», «банкиров», «менял», «продавцов шелковых товаров и меховщиков» (8: 267), проникнуты строки раннего письма Гоголя к матери от 30 апреля 1829 г. из Петербурга, где он сообщал: «…Проклятая болезнь, посетившая было меня при вскрытии Невы (21 апреля17. — И. В.), помогла еще более истреблению денег…» (10: 100). В послании от 2 февраля 1830 г. Гоголь также извещал мать, что «издержки на лекарства и лекарей» для бедняка «совершенно невозможны» (10: 129)18.
С мыслью о присвоении себе корыстным «врачом»-ремесленником имени истинного Спасителя и Врача (для тех, кто «в болезни своей взыскал не Господа, а врачей» — 2 Пар. 16: 12) создавался Гоголем в Петербурге один из образов его ранней повести «Ночь перед Рождеством» (1832). В чудесном питании связанного с нечистой силой Пузатого Пацюка «варениками в сметане» (Пацюк — крыса; укр .) — которые сами лезли ему в рот, — угадывается наглядное изображение той власти, которую приобрел этот герой над селом своей репутацией целителя: «Не прошло нескольких дней после прибытия его в село, как все уже узнали, что он [величайший] знахарь. <…> В последнее время его редко видали где-нибудь. <…> миряне (!) должны были отправляться к нему сами …» [Гоголь, 1940, т. 1: 222, 453] (курсив наш. — И. В .).
Эта же мысль — о стремлении нечистого духа создать себе в глазах обращающихся к нему людей славу настоящего спасителя — воплощена Гоголем в «Вечере накануне Ивана Купала» (обращения Пидорки к знахарям и колдунье — вместо св. великомученика и целителя Пантелеймона [Виноградов, 2000: 31, 53–55]), в «Ревизоре» — в имени лекаря-немца Христиана Ивановича Гибнера 19 . Весьма иронично изображение врача в гоголевской повести «Нос» (1835), где познания петербургского доктора, занимающего «лучшую квартиру в бельэтаже» и, по его уверению, «никогда из корысти» не лечащего (3–4: 57–58), мало чем отличаются от искусства «отворяющего кровь» заурядного цирюльника20. В «Мертвых душах» с критикой врачебного сословия связаны упоминания о «ловком светском докторе», «немилосердно» засластившим микстуру, «воображая ею обрадовать пациента» (5: 30), а также строки об инспекторе врачебной управы, не принявшем надлежащих мер против повальной горячки, от которой
«в лазаретах и в других местах» умерло «значительное количество» больных (5: 186).
Не избегая лечения у врачей, Гоголь на протяжении всей жизни рассматривал болезни как промыслительное средство воспитания человека и настоящим Врачом и Целителем считал Самого Бога. 23 апреля (н. ст.) 1846 г. Гоголь писал матери: «Излиш<не> заботиться о здоровье грех. Нужно ввериться одному Богу; Он вылечит» (13: 308–309). 15 июля (н. ст.) 1845 г. в письме к Смирновой Гоголь также замечал: «Наше выздоровление в руках Божиих, а не в руках докторов и не в руках каких-либо медицинских средств. Я думаю, что какое бы ни было предписано нам лечение, хотя бы оно даже и не вполне соответствовало нашему недугу и даже самый врач ошибся, но если мы во имя Божие и верой в Бога станем им лечиться, то Всевышняя воля направит всё в исцеление нам» (13: 146).
В упомянутой статье (со знаковым названием «Значение болезней»), адресованной в «Выбранных местах из переписки с друзьями» графу А. П. Толстому, постоянному собеседнику Гоголя по духовным вопросам, писатель утверждал: «…Не будь этих недугов, я бы задумал, что стал уже таким, каким следует мне быть. <…> среди самих страданий иногда приходят ко мне мысли, несравненно лучшие прежних <…>. Не будь тяжких болезненных страданий, куда б я теперь не занесся! <…> Слыша все это, смиряюсь я всякую минуту и не нахожу слов, как благодарить Небесного Промыслителя за мою болезнь. Принимайте же и вы покорно всякий недуг, веря вперед, что он нужен» (6: 18–19).
В этих строках Гоголь развивает общую для христианских писателей мысль о значении болезней и страданий человека для духовного возрождения. Однако очевидная общность этих размышлений Гоголя со святоотеческими наставлениями отнюдь не означает принадлежности его взглядов только к «общим» местам духовной литературы. Как всегда у Гоголя, высказанные им мысли не были заимствованы безотчетно, без глубокого личного постижения; они основаны на многолетнем внутреннем опыте и неразрывно связаны с теми процессами, которые совершались в творческой лаборатории художника.
Ключ к пониманию собственно гоголевского опыта, полученного в результате перенесения долгих, изнурительных болезней, лежит в заключительных строках статьи «Значение болезней». Подчеркивая промыслительный характер «всякого недуга», Гоголь писал: «Молитесь Богу только о том, чтобы открылось перед вами его чудное значение и вся глубина его высокого смысла» (6: 19). По убеждению Гоголя, болезнь дается человеку не только для смирения (что само по себе чрезвычайно важно), но и как прямое указание к перемене жизни, а художнику — еще и к усовершенствованию его писательской деятельности — как направляющий «дорожный знак» на творческом пути.
Эту мысль Гоголь нашел нужным повторить в «Выбранных местах из переписки с друзьями» еще дважды. В статье о русской поэзии, адресуя ее своему больному другу, поэту Языкову, он писал: «…Болезнь дается только к ускоренью дела, если человек проникнет смысл ее…» (6: 176). Словом, для Гоголя болезнь — это не только инструмент воспитания души, но и деятельное наставление на стезе творчества, в осуществлении того заветного труда, «на котором основана» вся «значительность» писателя, «та польза, которую <…> желает принесть» его душа («Значение болезней» (6: 19)).
В другом фргаменте статьи о русской поэзии Гоголь, размышляя опять о Языкове, добавлял: «Не попадает талант на свою дорогу, потому что не устремляет глаз высших на самого себя. Но Промысел лучше печется о человеке. Бедой, злом и болезнью насильно приводит он его к тому, к чему он не пришел бы сам» (6: 177).
Именно это понимание Гоголем болезней как направляющего на верную дорогу промыслительного средства позволяет отчасти проникнуть в тайну его кончины, ознаменованной предсмертным сожжением второго тома «Мертвых душ».
По Гоголю, проникнутый глубоким смыслом, промысли-тельный характер телесного недуга непременно предполагает, что несение физической болезни должно сопровождаться встречной работой духа, активным поиском нового содержания жизни и самого творчества. Согласно свидетельствам писателя, сам он обрел такое содержание вскоре после отъезда за границу в 1836 г. вследствие множества «страданий», «припадков» и «тяжких душевных состояний» (6: 227, 252), сопровождавших его на протяжении более десятка лет, вплоть до выхода в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями» [Виноградов, 2017, т. 2: 567–570].
Говоря о многочисленных болезнях, которые перенес Гоголь, а также о тех духовных средствах, которые он употреблял для своего исцеления, следует подчеркнуть некоторые особенности его представлений о взаимозависимости — и одновременно противоположности — духовной и медицинской практик в преодолении недугов. Особые и даже «странные», по оценке современников, взгляды Гоголя на соотношение религиозной и физиологической составляющих в лечении болезней до настоящего времени тоже не привлекали к себе внимания.
Анненков, вспоминая о пребывании с Гоголем в Риме весной 1841 г., сообщал: «Он имел даже особенный взгляд на свой организм и весьма серьезно говорил, что устроен совсем иначе, чем другие люди, и, если не обманывает меня память, с каким-то извращенным желудком» [Виноградов, 2017, т. 3: 536–537].
Осенью того же 1841 г. Языков тоже сообщал брату: «Гоголь рассказывал мне <…> об особенном устройстве головы своей и неестественном положения желудка. Его будто бы осматривали и ощупывали в Париже знаменитые врачи и нашли, что желудок — вверх ногами!» [Виноградов, 2017, т. 3: 575].
Сколько шуточного, сколько серьезного было в этих «признаниях» Гоголя о его «перевернутом» желудке неизвестно. Но современники принимали эти уверения всерьез. Штаб-лекарь А. Т. Тарасенков, познакомившийся с Гоголем незадолго до его кончины, сообщал, что тот, отказываясь за общим столом от мночисленных блюд, объяснял это тем, что он «чувствует что-то в животе, что кишки у него перевертываются» [Виноградов, 2018, т. 7: 270].
Слова Гоголя об его «извращенном желудке» оказались, однако, не бесследными для его последующей репутации. Эти слова Тарасенков положил в основу новой биографической мифологемы о Гоголе, призванной внушить сомнение в достоинстве самих мыслительных способностей писателя.
В самом начале своих мемуарных записок Тарасенков замечал: «Гоголь нередко говаривал <…> что у него особенная натура, на которую все влияния действуют не так, как на всех других, и что его нельзя лечить на одну мерку, со всеми. Он относил свои слова к материальному устройству своего тела <…>. Не имея, кажется, даже самых поверхностных сведений о устройстве тела и вообще ни о какой медицинской науке, он приписывал большую важность действию на здоровье некоторых незначительных предметов. <…> Об лекарствах аптечных он имел понятие как об ядах, решительно отказывался от них, и если принимал какое-либо лекарство, то скорее по совету тех, которые утверждали об его испытанной на себе пользе, нежели по назначению самих врачей. Так он покупал за границею какие-то хваленые пилюли и иногда употреблял их. Лечение холодною водою у Пристница лет пять до смерти он исполнял неточно, разбавляя холодную воду теплою <…> и вскоре, не окончив курса, бросил это лечение» [Виноградов, 2018, т. 7: 303].
Из приведенных Тарасенковым «примеров» перед читателем встает образ Гоголя — упрямого пациента, абсолютно невежественного в вопросах медицины и при этом отказывающегося лечиться у профессионалов. Такова еще одна составляющая пресловутого мифа о позднем Гоголе. Доверять этим свидетельствам можно лишь в весьма незначительной степени. Следует иметь в виду, что Тарасенков видел Гоголя в жизни только четыре раза: он познакомился с писателем 22 января 1852 г. (в то время Гоголь был еще здоров), а затем недолго наблюдал за умирающим в течение трех визитов к больному — 16, 19 и 20 февраля 1852 г. [Виноградов, 2018, т. 7: 306–307]. По свидетельству самого Тарасенкова, в первый день он осматривал Гоголя, «не обременяя его долгими разговорами» [Виноградов, 2018, т. 7: 302]; во время его второго и третьего посещений Гоголь уже «ни с кем не разговаривал» и на вопрос, заданный ему 19 февраля Тарасенковым, «не отвечал ни слова» [Виноградов, 2018, т. 7: 317].
На очевидное несоответствие столь немногословного общения Тарасенкова с Гоголем весьма значительному объему сообщаемых им сведений о писателе обратили внимание еще современники. Один из них по поводу мемуаров Тарасенкова замечал: «…Г. Тарасенков придает своей брошюре чрезвычайную важность, полагает, что она окончательно решает вопрос о последних днях жизни Гоголя <…> из его статьи <…> всякий читатель имеет прямое право заключить, что автор действительно следил за последнею болезнию Гоголя во все продолжение ее развития <…> А между тем из самой брошюры <…> оказывается, что г. Тарасенков вовсе не следил за последнею болезнию Гоголя, что он был призван тогда уже, когда великому поэту оставалось одно только — умереть!» [Назаров: 924].
Крайняя скудость времени, проведенного Тарасенковым у постели молчащего больного, — не позволившая мемуаристу хоть сколько-нибудь узнать Гоголя, — заставила его прибегнуть к отзывам и воспоминаниям о писателе других лиц. Установлено, что в своей статье Тарасенков использовал рассказы о Гоголе по крайней мере трех его друзей и знакомых — графа А. П. Толстого, С. П. Шевырева, В. О. Шервуда, а также позднейшие, 1856 г., биографические и эпистолярные публикации, посвященные Гоголю, П. А. Кулиша и М. П. Погодина (см.: [Виноградов, 2018, т. 7: 306–307, 410]). Однако при этом Тарасенков нигде не ссылается на источники сообщаемых им сведений, желая, по-видимому, создать у читателя впечатление, что информация предлагается «из первых уст».
Кроме неоправданного желания Тарасенкова выдать себя за близкого собеседника, чуть ли не друга Гоголя, в категорических суждениях врача-мемуариста нельзя не заметить определенной самонадеянности преисполненного своим высоким авторитетом врача, не сомневающегося в достижениях современной ему медицины. Предвзятость Тарасенкова в его мемуарах особенно заметна в приведенном выше его суждении о том, что Гоголь — известный всем своим незаурядным умом, признанный всеми гениальный писатель, — будто бы невежественно и суеверно отзывался о «лекарствах аптечных» как о ядах. Подлинность этого «свидетельства» Тарасенкова, полученного, к тому же, как выясняется, из третьих рук, критики не выдерживает.
Можно заметить, что «легенда», по которой Тарасенков выстраивает свои воспоминания о «странностях» Гоголя, полностью укладывается в слова самого писателя о недалеких, суеверных чиновниках в десятой главе первого тома «Мертвых душ»: «Всю жизнь не ставит в грош докторов, а кончится тем, что обратится наконец к бабе, которая лечит зашептыванья-ми и заплевками, или, еще лучше, выдумает сам какой-нибудь декохт из невесть какой дряни, которая, Бог знает почему, вообразится ему именно средством против его болезни» (5: 200).
Сами по себе эти гоголевские строки, в которых суеверные «зашептывания и заплевки» противопоставляются искусству докторов, а неразумное самолечение высмеивается столь же недвусмысленно, указывают на определенную предвзятость суждений Тарасенкова о Гоголе. Безусловно, низводить мышление писателя до уровня представлений майора Ковалева из повести «Нос», размышляющего о тайных «волхвованиях» «баб-колдовкок», есть само по себе недоразумение.
О мнимости негативного отношения Гоголя к медицине говорит хотя бы то, что сам он в конце жизни снабжал сестру Ольгу медицинскими пособиями для лечения крестьян и помогал ей организовывать для этого в деревне аптеку.
Кроме этих общих соображений, есть и частные, вполне конкретные факты, указывающие на то, что Тарасенков в своих мемуарах был далек от стремления передать подлинный облик Гоголя, но руководствовался узкими корпоративными интересами. Из сравнения двух редакций мемуаров Тарасенкова — черновика воспоминаний, который мемуарист не предназначал к печати, и журнальной публикации — с очевидностью выясняется, что в приведенных суждениях мемуариста, которые выставляют писателя ограниченным суевером, нашло отражение неблаговидное стремление самого Тарасенкова скрыть очевидную ошибку медиков, которая незадолго до кончины Гоголя стала причиной смерти другого пациента. Предвзятое суждение Тарасенкова о Гоголе представляет собой намеренное искажение рассказанной им самим в черновой редакции мемуаров истории о том, как за месяц до смерти Гоголя, 26 января 1852 г., умерла Е. М. Хомякова — близкая родственница друзей писателя, сестра Н. Я. Языкова и жена А. С. Хомякова, давний духовный друг самого Гоголя.
6 апреля 1852 г. Тарасенков в рабочей, черновой редакции своих мемуаров о Гоголе (впервые напечатанной лишь полвека спустя, в 1897 г.; Тарасенков умер в 1873 г.) сообщал: «Он (Гоголь. — И. В .) часто навещал ее, и, когда она была уже в опасности, при нем спросили у Д<октора> Альфонского, в каком положении он ее находит, он отвечал: “Надеюсь, что ей не давали каломель21, который может ее погубить?!” Но Гоголю было известно, что каломель уже был дан — он вбегает к графу <А. П. Толстому> и бранным голосом говорит: “Все кончено, она погибнет, ей дали ядовитое лекарство!” К несчастию, больная действительно в скором времени умерла» [Виноградов, 2018, т. 7: 237].
В 1856 г. в журнальной статье «Последние дни жизни Николая Васильевича Гоголя» Тарасенков, пересказывая эту историю, удалил слова о «каломели» и профессоре А. А. Аль-фонском, докторе медицины и хирургии, ректоре Московского университета. Вместо рассказа об отмеченной Альфонским непоправимой врачебной ошибке Тарасенков всключил в мемуары рассуждение об «аптечных лекарствах» — так что в итоге роковой просчет медиков был скрыт, а Гоголь выставлен в резко компрометирующем свете — в виде неумного, невежественного фанатика, с крайним неодобрением отзывающегося о лекарствах как ядах. Вместо «невыгодного» рассказа об ошибке медиков, Тарасенков в новой редакции статьи сообщал: «Когда ему объявили, что она в опасности и что ей назначены были аллопатические аптечные 22 лекарства <…> он в большом волнении прибежал к своему другу и предсказывал неминучую гибель» [Виноградов, 2018, т. 7: 237–238].
В столь откровенной ангажированной защите Тарасенковым интересов врачебного сословия — в жертву которой без сожаления приносился подлинный облик Гоголя, — заключалась изрядная доля лукавства. Ошибка в лечении Хомяковой, приведшая к ее смерти в возрасте тридцати четырех лет, была действительно допущена врачами, и скрывать эту ошибку было по крайней мере рискованно: современникам эта история была хорошо известна. 27 января 1852 г. родственник Хомякова В. И. Хитрово записал в своем дневнике: «Неожиданна была эта смерть женщины, полной жизни, в какую-нибудь неделю, что она была больна. По рассказам А<лексея> С<тепановича><Хомякова>, доктора много виноваты в ее смерти тем, что они дали порошок (каломель), от коего она преждевременно родила, и умерла более от изнеможения сил, чем от болезни…» [Хитрово В. И., Хитрово Д. В.: 93]. Ю. Ф. Самарин, со слов Хомякова, также свидетельствовал: «…Екатерина Михайловна скончалась вопреки всем вероятностям <…> Два доктора, не узнав болезни, которой признаки, по его словам, были очевидны, впали в грубую ошибку…» [Самарин: 129].
Безусловно, нельзя было назвать успешным и лечение — несколькими врачами, вместе с самим штаб-лекарем Тарасенковым, — самого Гоголя, тоже закончившееся смертью. Задним числом врач-мемуарист возложил вину за неудачное врачебное участие на якобы отрицательное отношение к медицине самого писателя. Очевидно, что сомнительные «свидетельства» о Гоголе доктора Тарасенкова — почти случайного лица в окружении писателя — следует воспринимать критически.
Так, мемуарист заявлял, будто Гоголь не следовал назначениям врачей. Однако в пользу того, что писатель, напротив, вовсе не отказывался от лекарств, назначаемых врачами, а всегда следовал медицинским предписаниям, говорит вполне «привычное» для Гоголя общение на протяжении всей жизни со многими русскими и европейскими знаменитостями врачебной науки и практики того времени. Об этом свидетельствует и факт лечения не только в Грефенберге у В. Присница, но и на многих других известных европейских и русских курортах, начиная от Крыма до Баден-Бадена, Мариенбада, Га-стейна, Висбадена, Ниццы, Остенде, Карлсбада, Швальбаха, Эмса и др. На некоторых из указанных курортов Гоголь бывал неоднократно. Обращаясь к врачам за помощью, писатель искал у них совета отнюдь не по принуждению, а по собственной инициативе. Делал это Гоголь, по его смиренному сознанию, вследствие «малодушия своего» — по причине недостаточного упования на Промысл (13: 176). Среди многочисленных докторов, лечивших Гоголя, были прославленный петербургский лейб-медик Н. Ф. Арендт, широко известные в России и Европе врачи И. Е. Дядьковский, С. Ф. Гаевский, С. И. Кричевский, Ф. И. Иноземцев, И. Г. Копп, Ж. Н. Маржолен23,
Г. В. Циммерман24, К. А. Алерц25, Г. Д. Кине, К. И. Гартман, М. Й. Келиус, П. Крукенберг, К. Г. Карус, Л. Флеклес, И. Л. Шен-лейн, А. И. Овер и др. Все они по своей компетенции, безусловно, превосходили начинающего штаб-лекаря Тарасенкова. Даже те «хваленые» заграничные «пилюли», о которых пренебрежительно отзывался Тарасенков, сообщая, будто Гоголь употреблял их не по назначению врачей, а по совету частных лиц, на самом деле, судя по всему, выписал ему в Париже не менее авторитетный европейский доктор медицины Д. Груби (см.: (14: 378, 396–397, 402, 404)), знакомый Н. И. Пирогова.
По-видимому, в связи со смертью Гоголя Тарасенков испытывал серьезные опасения за профессиональную репутацию и авторитет опекавших писателя перед смертью медиков (в число которых входил он сам, хотя и не в той преувеличенной степени, в какой он пытался представить свое участие). Кому хотелось попасть в число врачей, лечащих по принципу, подмеченному Гоголем в его «Ревизоре»: «Человек <…> если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет» (3–4: 222–223). Образно говоря, тяжестью своих болезней и самой кончиной Гоголь еще раз оказался неожиданным «ревизором» современного ему общества — «провел» внезапную «ревизию» состояния медицинской науки своего времени. Результат ее оказался не в пользу медиков, так что, спасая репутацию, вину за неэффективное лечение Тарасенков некоторым образом попытался возложить на самого покойника.
Эта цеховая предвзятость, характерная для воспоминаний Тарасенкова, его «корпоративное» мышление — поведение, напоминающее (хоть и отдаленно, но вполне очевидно) повадки героев другой гоголевской комедии, посвященной карточным игрокам, — могут служить косвенным пояснением, почему Гоголь, несмотря на частые обращения к заслуженным медикам, несмотря на благодарную память о школьном наставнике докторе Орлае и сугубо уважительное отношение к методу австрийского врача Присница, порой испытывал резонное недоверие к современной ему медицине. Каким авторитетом могла пользоваться в то время врачебная наука, если, согласно журнальным публикациям, ее уровень порой не обеспечивал даже того, чтобы с уверенностью отличить летаргию от действительной смерти? Согласно строкам журнальной статьи 1846 г., «самые опытные люди, самые ученые испытатели человеческой природы признали в сем отношении несовершенство человеческих познаний» [О средствах к предупреждению: 3–4]. Иначе говоря, Гоголь отнюдь не сторонился врачебной помощи: он всегда хотел лечиться (и по возможности лечился у наиболее сведущих докторов), но, увы, в большинстве случаев это оказывалось безрезультатным. «Я знаю, врачи добры: они всегда желают добра», — спокойно, но с уверенностью в надвигающейся кончине, сказал Гоголь в первый же день, когда Тарасенков в качестве врача был приглашен к его постели [Виноградов, 2018, т. 7: 302]. Мнократное медицинское лечение у общепризнаных авторитетов российской и западноевропейской медицины пользы ему почти никогда не приносило. Поэтому-то скептическое отношение к врачебной практике — и к самой весьма ограниченной в средствах, зараженной модным масонством медицине — он высказывал неоднократно, и всякий раз мотивировал свое недоверие вполне основательно, без тех нелепых, суеверных крайностей, которые приписывал ему штаб-лекарь Тарасенков.
Так, 26 февраля (н. ст.) 1843 г. Гоголь писал Данилевскому: «Какой доктор, хотя бы он знал донага всю натуру человека, может нам определить нашу внутреннюю болезнь? Бедный больной иногда имеет над ним по крайней мере то преимущество, что может чувствовать, где, в каком месте у него болит, и по инстинкту выбирает сам для себя лекарство» (12: 177).
14 февраля (н. ст.) 1844 г. он писал также Погодину: «Основываясь на признаках и подобиях, лучшие врачи бывали причиною смерти больного <…> не следует врачу пропускать без внимания болезненный голос больного, когда он говорит: у меня не там болит…» (12: 324–325).
В декабре (н. ст.) 1844 г. Гоголь писал Плетневу: «…Если человек <…> дошел до того, что может видеть <…> свою природу, он один <…> может знать, какой дорогой ему <…> идти. <…> Животное, когда заболеет, ищет само себе [внутренним инстинктом] траву и находит ее <…> иногда искусные врачи <…> принимали одну болезнь за другую» (12: 521, 523).
В «Авторской исповеди» (1847) Гоголь повторял: «Часто и наискуснейшие врачи принимали одну болезнь за другую и узнавали ошибку свою только тогда, когда разрезывали уже мертвый труп» (6: 248).
12 сентября (н. ст.) 1845 г. Гоголь сообщал Жуковскому: «…Я тогда только и чувствовал себя хорошо, когда бывал в дороге. Дорога меня спасала всегда, когда я засиживался долго на месте или попадал в руки докторов, по причине малодушия своего, которые всегда мне вредили, не зная ни на волос моей природы» (13: 176).
После медицинского осмотра в Берлине у доктора Шенлей-на Гоголь 1 октября (н. ст.) 1845 г. писал графу А. П. Толстому: «…Подумавши обо всем строго, я решил внутренно последовать пословице: “Людей расспрашивай, а держись своего разума”. Умными советами воспользуйся, а изучай в то же время свою собственную натуру для того, чтобы уметь применить к ней умные советы» (13: 187).
Однако главное заключалось вовсе не в этом «противостоянии» Гоголя в «борьбе» за свою жизнь и здоровье с лечившими его докторами. На самом деле проблема в значительной степени состояла именно в особом духовном призвании писателя — в понимании им промыслительного характера ниспосылаемых недугов. 1 мая (н. ст.) 1846 г. Гоголь, в частности, сообщал матери и сестрам: «Средства простые мне всегда помогали, как-то: дорога, воздух и холодная вода; лекарства же только расстраивали, а потому я давно их бросил, уверившись, что один Бог наш доктор и что Его одного должно молить о излечении» (13: 313). 2 февраля 1852 г. Гоголь отвечал ослепшему капитан-лейтенанту Барановскому: «Облегченья в моих недугах ничему другому не могу приписать, как только молитвам <…>. Все леченья медицинские, сколько припомню, мне не помогали, кроме <…> холодных вытираний…» (15: 467).
Для осмысления заветных взглядов Гоголя на способы исцеления от болезни особого внимания заслуживают два его письма 1843–1844 гг. к тяжко страдавшему другу Николаю Языкову26.
Гоголь, передавая собственные способы избавления от недуга, считая своего приятеля столь же полноценным и одаренным поэтом и художником, как он сам, в письме к Языкову от 4 ноября (н. ст.) 1843 г. советовал: «…В душе у поэта сил бездна. Ежели простой человек борется с неслыханными несчастиями и побеждает их, то поэт непременно должен побеждать большие и сильнейшие. <…> Все мази и притирания надобно понемногу отправлять за окошко. <…> Вместо того следует дать работу духу. На болезнь нужно смотреть, как на сражение. Сражаться с нею <…> следует таким же образом, как святые отшельники говорят о сражении с дьяволом. С дьяволом, говорят они, нельзя сражаться равными силами, на такое сражение нужно выходить с большими силами <…> Сам его не победишь, но, возлетевши молитвой к Богу, обратишь его в ту же минуту в бегство. <…> Как бы то ни было, ведь были такие же люди, которые страдали от жестоких болезней, но потом дошли до такого состояния, что уже не чувствовали болей, а <…> чувствовали в то время радость, непостижимую ни для кого. <…> Только постоянным пребыванием в <…> вечном прошении о помощи окрепли они духом и привели его в беспрестанное восторгновение, могущее всё победить в мире. <…> С помощию высшею возможно победить всякую болезнь» (12: 288–290).
Спустя три с половиной месяца, 15 февраля (н. ст.) 1844 г., Гоголь еще раз писал Языкову: «Есть средство в минутах трудных, когда страданья душевные или телесные бывают невыносимо мучительны; его добыл я сильными душевными потрясениями, но тебе его открою. Если найдет такое состояние, бросайся в плач и слезы. Молись рыданьем и плачем. Молись <…> как молится утопающий в волнах, ухватившийся за последнюю доску. Нет горя и болезни душевной или физической, которых бы нельзя было выплакать слезами. <…> Много есть на всяком шагу тайн, которых мы и не стараемся даже вопрошать. Спрашивает ли кто-нибудь из нас, что значат нам случающиеся препятствия и несчастия, для чего они случаются? Терпеливейшие говорят обыкновенно: так Богу угодно. А для чего так Богу угодно? Чего хочет от нас Бог сим несчастием? — этих вопросов никто не задает себе. Часто мы должны бы просить не об отвращении от нас несчастий, но о прозрении, о проразумении тайного их смысла и о просветлении очей наших.
Почему знать, может быть, эти горя и страдания, которые ниспосылаются тебе, ниспосылаются именно для того, чтобы произвести в тебе тот душевный вопль, который бы никак не исторгнулся без этих страданий. <…> Этот душевный вопль должен быть горнилом твоей поэзии» (12: 327–328).
Вероятно, с точки зрения некоторых медиков Гоголь в своих представлениях о возможностях преодоления физической болезни работой духа, средствами усиленной молитвы, был только самонадеян. Именно в таком свете изображает в своих мемуарах историю последних дней Гоголя штаб-лекарь Тарасенков. Однако вся христианская история сохранила и продолжает являть бесчисленное множество случаев чудесного исцеления от болезни, даруемой по молитвам верующего. И это тоже вполне бесспорная, подлинная реальность — непреложный факт, достоверный не менее медицинского.
***
В «Авторской исповеди» Гоголь говорил, что открытая проповедь «неуместна», выглядит «странно» в устах светского писателя (6: 216): «…Не мое дело поучать проповедью. <…> Мое дело говорить живыми образами, а не рассужденьями» (6: 253). В то же время, по поводу открытой проповеди он с сожалением констатировал, что «многие» из священников, «почти уверились, что их никто теперь не слушает, что слова и проповедь роняются на воздух» (6: 94). Поэтому свою задачу как современного художника Гоголь видел в том, чтобы «читатель действительно почувствовал, что выведенное лицо взято именно из того самого тела, из которого создан и он сам»: «Тогда только сливается он сам с своим героем и нечувствительно принимает от него те внушения, которых никаким рассужденьем и никакою проповедью не внушишь» (6: 235).
Эти соображения Гоголь относил не только к церковной проповеди и художественному творчеству, но и к науке в целом. В отдельной статье «О науке» он указывал: «У нас <…> всякий скучает <…> когда ему дается слишком долгая инструкция и толкуют то, что он и сам уже смекнул <…>. Проследи лучше наш ученый сам в себе науку, прежде чем стал ее проповедать, проживи так в беседе с нею, как монах живет с Богом, наложив молчание на уста свои. И когда уже совокупилась в тебе самом наука в одно крепкое ядро и содержишь ее в голове всю в не разрушаемой связи, — тогда можешь проповедовать ее. <…> Не заботься, тебя поймут. <…> у нас давно живет пословица: умный поп хоть губами шевели, а мы, грешные, догадываемся» (6: 343–344).
В статье «Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве» Гоголь добавлял: «Храни нас Бог защищать теперь нашу Церковь: Это значит уронить ее. <…> Благоуханьем душ наших должны мы возвестить ее Истину. Пусть миссионер католичества западного <…> красноречием <…> слов исторгает скоро высыхающие слезы, проповедник же католичества Восточного должен выступить так перед народом, чтобы уже от одного его смиренного вида <…> тихого потрясающего гласа, исходящего из души, в которой умерли все желанья мира, все <…> в один голос заговорило бы к нему: “Не произноси слов, слышим и без них святую правду твоей Церкви!”» (6: 36).
В этих взаимодополняющих друг друга размышлениях самим Гоголем была сформулирована принципиальная особенность его как художника. И творчество, и сама жизнь писателя, и даже его смерть, заключают в себе характерную черту, без которой понимание его наследия невозможно. Она состоит в том, что, за исключением «Выбранных мест из переписки с друзьями», а также нескольких важных опытов создания сочинений в религиозно-нравственном жанре, доминантные, основополагающие основы его творчества открыто проповедническим, наглядно представленным образом в нем не преобладают. Однако они пронизывают его изнутри так, что неотразимой «пропагандой» и наглядной проповедью веры становится сама воплощенная в гоголевских образах жизнь. Гоголь глубоко понимал, что литература без духовного, религиозного начала — соль обуявшая (Мф. 5: 13; Лк. 14: 34).
Как бы превратно ни изображал последние дни Гоголя медик-мемуарист Тарасенков, таким же внешне не «победоносным», но тем не менее столь же последовательным утверждением духовных начал стала кончина писателя. На смену расхожим, навязываемым, с той или другой целью, мифам, предвзятым идеологическим схемам, должно прийти вдумчивое и уважительное изучение наследия Гоголя.
-
1 На это, в частности, обращает внимание В. А. Воропаев: [Воропаев: 270, 273–275].
-
2 См.: [Виноградов, 2018, т. 7: 238, 266–267, 269–271, 274–275, 278, 282, 286, 295, 298–299, 301–302, 311–312, 314–315, 318, 337, 341–342, 349, 354, 367].
-
3 См. также: [Виноградов, 2018, т. 7: 269–270, 299, 311–312].
-
4 ОР РГБ. Ф. 88. К. 6. Ед. хр. 87. Л. 1–1 об. Выражаю благодарность М. А. Можаровой, указавшей мне на этот источник.
-
5 Там же.
-
6 В частности, почти ёрнический характер по отношению к религиозным вопросам носит описание предсмертной болезни Гоголя в письме западника В. П. Боткина к И. С. Тургеневу, отправленное из Москвы в Петербург 21 февраля 1852 г. — в день смерти писателя: «Недели за полторы <до кончины> у него сделался запор, Иноземцев посоветывал ему поставить клестир да и захворал сам. Приехав к нему чрез несколько дней — находит Гоголя хуже — клестир он не ставил. “Я ничего не хочу делать, — пусть будет воля Божия”. Все близкие к нему на коленях умоляли его поставить клестир — он не соглашался. Вследствие запора сделалось воспаление — решили поставить пиявки — он и слышать не хотел. Говорят два священника несколько часов уговаривали его, доказывая, что поставить клестир — не значит идти против воли Божией — Гоголь не слушался» [Виноградов, 2018, т. 7: 283]. Эту историю пересказывал, в сходных выражениях, Н. Ф. Павлов в письме к А. В. Веневитинову от 1 марта 1852 г.: «Гоголь истощил себя постом; лекарства никакого не хотел принимать, даже не позволил поставить клистира, кажется, от того, что думал, что, прибегнув к человеческой помощи, оскорбит величие Божие» [Виноградов, 2018, т. 7: 376].
-
7 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: в 17 т. (15 кн.) / сост., подгот. текстов и коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. М.; Киев: Изд-во Московской Патриархии, 2009–2010. Т. 5. С. 140. Здесь и далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием тома и страницы в круглых скобках.
-
8 Земляк и приятель Гоголя О. М. Бодянский, к примеру, характеризовал в 1849 г. «Отечественные Записки» и «Современник» как «самые неблагонамеренные русские журналы» [Павловский: 402]. 2 апреля 1848 г. сам Император распорядился «на Отечественные Записки и Современник, замеченные особенно в помещении статей и выражений сомнительного духа, обратить самое строгое внимание цензуры» [Барсуков: 289].
-
9 Источником этой сцены Гоголю послужило изображение Д. Н. Банты-шом-Каменским в «Истории Малой России» (1822) — давно знакомой Гоголю — обычаев Запорожской Сечи: «…Ничто не могло сравниться с казнию убийцы: Козак, умерщвлявший другого, был бросаем в могилу, потом опускали на него гроб с телом убитого им товарища и засыпали их землею» [Бантыш-Каменский, 1822: 16]. См. также: [Бантыш-Каменский, 1830: 68].
-
10 См.: [О средствах к предупреждению].
-
11 Вероятно, имеется в виду петербургский аптекарь Филипп Христиан Фишер (1797–1842), член Санкт-Петербургского Ученого фармацевтического общества в 1821–1824 гг., а также нескольких петербургских масонских лож (в 1810–1822 гг.) (см.: Месяцеслов с росписью чиновных особ, или Общий штат Российской Империи, на лето от Рождества Христова 1821. СПб., <1821>. Ч. 1. С. 714; Месяцеслов с росписью чиновных особ, или Общий штат Российской Империи, на лето от Рождества Христова 1824. СПб., <1824>. Ч. 1. С. 596; [Серков: 836, 1088, 1089, 1106, 1111]; см. также: <Саитов В. И.> Петербургский некрополь / <изд.> вел. кн. Николай Михайлович. СПб., 1913. Т. 4. С. 366.
-
12 Cам Гоголь относил Анненкова к «господам, до излишества живущим в Европе» (15: 443).
-
13 Так характеризовал гоголевскую оценку австрийского врача Анненков [Виноградов, 2017, т. 3: 540].
-
14 К «религиозному фанатизму» идеологи, подобные Анненкову, относят по обыкновению любое сколько-нибудь кажущееся им «выходящим за рамки» проявление веры.
-
15 Штаб-лекарь Федор Прокофьевич Голованев занимался медицинской практикой в Лубнах в 1810–1827 гг.
-
16 Гоголь умер на 43-м году жизни, его отец — на 48-м.
-
17 См.: Внутренние известия // Северная Пчела. 1829. 23 апреля. № 49. С. 1.
-
18 Позднее о вызывающей меркантильности некоторых лечащих врачей Гоголя, докторов А. И. Овера и С. И. Клеменкова, сообщал в своих записках фельдшер А. В. Зайцев [Виноградов, 2018, т. 7: 318–319, 325].
-
19 Гоголь, возможно, воспользовался в данном случае именем реального человека. В 1825–1833 гг. в Петербурге в управлении воспитательных домов Императрицы Александры Феодоровны служил кассиром чиновник Христиан Иванович Гибнер. Известны также три российских лекаря 1800–1830-х гг. с такой фамилией — московский штаб-лекарь Андрей Иванович Гибнер (статский советник), лекари Карл Гибнер и Иван Гибнер.
-
20 Ремесло цирюльника объединяло в себе в первой половине XIX в. профессии «парикмахера и фельдшера». См.: Указатель жилищ и зданий в Санктпетербурге, или Адресная книга, с планом и таблицею пожарных сигналов: на 1823 год. Издал С. Аллер. СПб., 1822. С. 539.
-
21 Каломель — минерал, хлорид ртути; токсичный препарат, применявшийся ранее в медицине как противомикробное средство.
-
22 Слово «аптечные» выделено Тарасенковым, что призвано отослать читателя к началу статьи, где это слово также было напечатано курсивом: «Об лекарствах аптечных он имел понятие как об ядах…»; см. выше.
-
23 «MARJOLIN (Jean Nic.), zu Paris, Med. Dr.» [Callisen, 1842: 236]. В 1828 г. хирург и патолог Ж. Н. Маржолен (1780–1850) впервые описал пациента с послеожоговым рубцом, края которого получили злокачественное изменение; с тех пор рак, развивающийся в рубцах, носит название «язва Маржолена» (Marjolin’s ulcer).
-
24 «ZIMMERMANN (Heinrich Wilhelm, Edl
v <из дворян; нем.>)…» [Callisen, 1845: 375]. С 1835 г. Г. В. Циммерман служил главным врачом в австрийском военном госпитале в Виченце. В 1836 г. в Парме была издана его книга о мерах по предотвращению итальянской холеры. Во второй половине 1830-х — 1840-х гг., вероятно, именно он лечил русских художников (и Гоголя) в Риме и Неаполе (в мемуаристке и переписке современников доктор Циммерман упоминается, без инициалов, как лицо из окружения Гоголя 1837–1847 гг.).
-
25 Личный врач римского папы Григория XVI; упоминается в переписке Гоголя и А. А. Иванова.
-
26 Языков скончался в 1846 г. в возрасте сорока трех лет после продолжительного безуспешного лечения у европейских знаменитостей. Почти в том же возрасте, в сорок два года, умер пять лет спустя, в 1852 г., Гоголь.
Список литературы Мифы о смерти Н. В. Гоголя: источники, становление, поэтика
- [Бантыш-Каменский Д. Н.] История Малой России со времен присоединения оной к Российскому Государству при Царе Алексее Михайловиче, с кратким обозрением первобытного состояния сего края. — М., 1822. — Ч. 2. — 324 с.
- [Бантыш-Каменский Д. Н.] История Малой России. От присоединения сей страны к Российскому Государству до избрания в Гетманы Мазепы. — М., 1830. — Ч. 2. — 223 + 62 с.
- Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. — СПб.: Тип. М. М. Ста-сюлевича, 1895. — Кн. 9. — 499 с.
- Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. — М.: Изд-во АН СССР, 1953. — Т. 1. — 575 с.; 1956. — Т. 10. — 474 с.
- Виноградов И. А. Гоголь — художник и мыслитель: христианские основы миросозерцания. — М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000. — 448 с.
- Виноградов И. А. «Необыкновенный наставник»: И. С. Орлай как прототип одного из героев второго тома «Мертвых душ» // Нов1 гоголезнавч1 студи. Новые гоголеведческие студии. — Симферополь; Киев, 2005. — Вып. 2 (13). — С. 14-55.
- Виноградов И. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя (1809-1852). Научное издание: в 7 т. — М.: ИМЛИ РАН, 2017-2018. — Т. 1. — 2017. — 736 с.; Т. 2. — 2017. — 672 с.; Т. 3. — 2017. — 672 с.; Т. 4. — 2018. — 704 с.; Т. 7. — 2018. — 640 с.
- Воропаев В. А. «Ей, гряди, Господи Иисусе»: Тайна смерти Н. В. Гоголя в свете его церковного мировоззрения // Русско-Византийский вестник. — 2019. — № 1 (2). — С. 244-288.
- Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: [в 14 т.] — [Ленинград]: АН СССР, 19371952. — Т. 1: Ганц Кюхельгартен. Вечера на хуторе близ Диканьки / тексты и коммент. подгот. И. Я. Айзеншток, Н. П. Андреев, А. И. Белецкий, Г. С. Виноградов, В. В. Гиппиус, М. К. Клеман, Н. К. Пиксанов, Н. Л. Степанов, П. Т. Щипунов. — 1940. — 556 с.
- Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: в 17 т. (15 кн.) / сост., подгот. текстов и коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. — М.; Киев: Изд-во Московской Патриархии, 2009-2010. — Т. 1—17. — 664 + 688 + 680 + 744 + 816 + 720 + 968 + 392 + 488 + 704 + 592 + 608 + 624 + 816 + 936 с.
- Заботливость Французов о предупреждении опасности погребения заживо мнимо умерших // Журнал Министерства Внутренних Дел. — 1844. — Ч. 7. — С. 496-498.
- [Зелингер Ю. Э.] Жизнеописание Викентия Присница. С портретом его. Соч. доктора Ю. Э. Зелингера. Пер. с немецкого. — СПб.: Изд. В. Н. Дорошенко, 1853. — 173 с.
- Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем: в 2 т. / изд. подгот. И. А. Виноградов. — М.: ИМЛИ РАН, 2003. — 704 с.
- Летаргический сон // Сын Отечества и Северный Архив. — 1831. — Т. XX. — № 23. — С. 181-191.
- Лидин В. Г. Перенесение праха Н. В. Гоголя / публ. Л. Ястржембского // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — [Т.] 1. — С. 243-246.
- [Назаров Н. С., князь] Н. Н. Письмо к редактору // Санкт-Петербургские Ведомости. — 1857. — 20 авг. — № 179. — С. 924.
- Носов В. Д. [Паламарчук П. Г.] «Ключ» к Гоголю. Опыт художественного чтения / вступ. ст. Б. Филиппова. — London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1985. — 139 с.
- О погребении обмерших и средствах к предупреждению этого несчастия // Журнал Министерства Внутренних Дел. — 1846. — Ч. 13. — С. 445-458.
- О средствах к предупреждению погребения обмерших. Напечатано по приказанию г. Министра Внутренних Дел графа Л. А. Перовского. — СПб.: В Тип. Министерства, 1846. — 92 с.
- Павловский И. Ф. Осип Максимович Бодянский в его дневнике 18491850 гг. // Русская Старина. — 1888. — Т. 60. — № 11. — С. 395-416.
- Попов Е., протоиерей. Общенародные чтения по православно-нравственному богословию. В порядке десяти заповедей Божиих: в 2 ч. — 2-е изд. — СПб.: Изд. книгопродавца И. Л. Тузова, 1901. — 1088 с.
- Рамазанов Н. Московская городская хроника. Художественные известия // Литературный отдел Московских Ведомостей 1853 года, февраля 26-го дня, № 25-й. — С. 260.
- [Самарин Ю. Ф.] Отрывок из записок Ю. Ф. Самарина. (Сообщено баронессой Э. Ф. Раден) // Татевский сборник С. А. Рачинского. — СПб., 1899. — С. 128-133.
- Серков А. И. Русское масонство. 1731-2000: энциклопедический словарь. — М.: РОССПЭН, 2001. — 1222 с.
- [Хитрово В. И., Хитрово Д. В.] Воспоминания об Алексее Степановиче Хомякове / публ., вступ. заметка и примеч. Е. Давыдовой // Наше наследие. — 2004. — № 71. — С. 91-94.
- [Callisen А.] Medicinisches Schriftsteller-Lexicon der jetzt lebenden Verfasser. Von Dr. Adolf Carl Peter Callisen. — Copenhagen, 1842. — Band 30. — Len-M. — 501 s.
- [Callisen А.] Medicinisches Schriftsteller-Lexicon der jetzt lebenden Verfasser. Von Dr. Adolf Carl Peter Callisen. — Altona, 1845. — Band 33. — Th-Z. — 760 s.