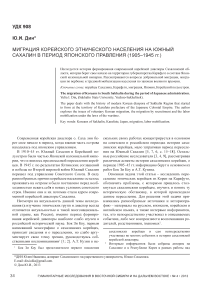Миграция корейского этнического населения на Южный Сахалин в период японского правления (1905-1945 гг.)
Автор: Дин Юлия Ивановна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4 (24), 2013 года.
Бесплатный доступ
Исследуется история формирования современной корейской диаспоры Сахалинской области, которая берет свое начало на территории губернаторства Карафуто в составе Японской колониальной империи. Рассматриваются вопросы добровольной миграции, миграции по вербовке и трудовой мобилизации населения по законам военного времени.
Корейцы сахалина, карафуто, миграция, япония, корейский полуостров
Короткий адрес: https://sciup.org/170175431
IDR: 170175431 | УДК: 908
Текст научной статьи Миграция корейского этнического населения на Южный Сахалин в период японского правления (1905-1945 гг.)
Современная корейская диаспора о. Саха лин берет свое начало в период, когда южная часть острова находилась под японским управлением.
В 1910–45 гг. Южный Сахалин и Корейский полуостров были частью Японской колониальной империи, что и явилось предпосылкой переселения корейцев. В 1945 г. по результатам Ялтинских соглашений и победы во Второй мировой войне Южный Сахалин перешел под управление Советского Союза. В силу разнообразных причин корейское население осталось проживать на острове и было поставлено перед необходимостью искать себя в новых условиях советского строя. Именно они и их потомки стали ядром современной корейской диаспоры Сахалина.
Несмотря на актуальность данной темы исследования (а изучение этнических групп и диаспор всегда отличается актуальностью в такой многонациональной стране, как Россия), именно период формирования корейской диаспоры наиболее слабо изучен в российской исторической науке. Бок Зи Коу, первым написавший монографию о сахалинских корейцах, приводит сведения и о переселении, но слабо аргументирует свою точку зрения, руководствуясь собственными воспоминаниями1 [1; 2]. А.Т. Кузин в не- скольких своих работах концентрируется в основном на советском и российском периодах истории сахалинских корейцев, мало затрагивая период переселения на Южный Сахалин [5, 7, 6, с. 15–18]. Остальные российские исследователи [3, 4, 9], рассматривая различные аспекты истории сахалинских корейцев, о периоде 1905–45 гг. информацию берут в основном из работ Бок Зи Коу и А.Т. Кузина.
Основная задача этой статьи – исследовать переселение этнических корейцев из Кореи на Карафуто, обозначить проблемы, с которыми пришлось столкнуться сахалинским корейцам, изучить и понять ту историческую обстановку, в которой происходило данное переселение. Для решения этой задачи привлекались разнообразные источники и историографию – материалы на русском, японском, корейском и английском языках, а также интервью информантов, тех, кто непосредственно участвовал в описываемых событиях, либо мог воспроизвести воспоминания родителей, родственников, знакомых2.
сахалинских корейцев и сам непосредственно участвовал во многих событиях в истории сахалинской корейской диаспоры.
Южный Сахалин Япония приобрела по Портсмутскому мирному договору 1905 г., когда Россия, проиграв Русско-японскую войну, была вынуждена уступить победителю часть острова южнее 50-й параллели. Японское правительство в 1907 г. создало на приобретенной территории губернаторство Карафу-то, которое до 1943 г. имело статус колонии3, а после было включено в губернаторство Хоккайдо и приобрело статус метрополии [18, с. 265]. Административным центром Карафуто стал город Тоёхара (ныне Южно-Сахалинск).
На первых порах переселение этнических корейцев на южную часть Сахалина шло довольно медленно. В 1910 г. на Карафуто насчитывалось всего 33 корейца, и через пять лет, в 1915 г., их оставалось столько же. Только к 1920 г. наблюдается некоторый рост в численности корейского населения – корейцев к тому времени насчитывается уже 513 чел. [10, с. 31].
ных расходов [14, с. 165]. Заработная плата для рабочих (японцев, корейцев, китайцев) в Тойохаре (Южно-Сахалинск) составляла 2,5 иены в день, а в Отомари (Корсаков) японцы получали также 2,5 иены, а корейцы – 2 иены в день [10, с. 36]. Надо иметь в виду, что в то время средний заработок квалифицированных рабочих в самой Корее составлял 15-20 иен в месяц, так что с чисто финансовой точки зрения эти условия были достаточно привлекательными [16, с. 166]. Предпочтение наниматели отдавали в основном холостым мужчинам.
С апреля 1920 г. по май 1925 г., воспользовавшись кризисом, который охватил Россию в результате революций 1917 г. и Гражданской войны, Япония оккупировала Северный Сахалин [Российский государственный архив социально-политической истории, далее РГА-СПИ. Ф. 495. Оп. 127. Л. 21.]. В это время наблюдался заметный приток корейцев из Приморского края и Северного Сахалина на Карафуто.
Таблица 1
Численность корейского населения на Карафуто в период 1921–1925 гг [14, с. 166]
|
Год |
Количество домохозяйств |
Численность корейского населения |
||
|
мужчины |
женщины |
всего |
||
|
1921 |
68 |
444 |
23 |
467 |
|
1922 |
76 |
577 |
39 |
616 |
|
1923 |
117 |
1 256 |
207 |
1 464 |
|
1924 |
170 |
1 522 |
305 |
1 827 |
|
1925 |
380 |
2 660 |
873 |
3 533 |
С конца 1910-х гг. компания «Мицуи Майнинг Ко.» стала нанимать корейцев для работы на угольных шахтах, находящихся на юге Карафуто [10, с. 31]. Происходило это следующим образом. Правление шахты Каваками (Синегорск), принадлежащей «Мицуи», в 1917 г. получило разрешение на вербовку корейцев от генерал-губернаторства Кореи. После этого в г. Синыйч-жу (Корея) представители компании начали вербовку корейских рабочих. Контракт заключался на полтора года и предусматривал, в частности, оплату транспорт-
Например, один из информантов рассказывал про переселение своей семьи на остров: « Мой отец родился в северной Корее, он оттуда с родителями перебрался в Приморье4, в Приморье он и вырос. Потом, когда ему лет двадцать было, он на Сахалин поехал на заработки. Вроде на севере тоже японцы были. Он тогда с севера на юг ушел и тут жил. А мама приехала из южной Кореи, они в 1926 г. поженились. Поэтому, когда русская армия в 1945 г. на Сахалин пришла, он работал переводчиком для русских – он русский язык знал » [Б., муж., 1938 г. р., г. Южно-Сахалинск, 22.12.2009.].
В 1922 г. более ста корейцев из «Северосахалинской дальневосточной лесной ассоциации» переехали на Карафуто. В 1923 г. опять наблюдался приток корейцев на остров из-за политики вытеснения иностранцев из Приморья и Дальнего Востока России.
Поскольку эти переселенцы изначально выехали в российское Приморье из корейской провинции Хам-гён вместе с семьями, в это время на Карафуто также-наблюдается рост числа женщин-кореянок [10, с. 36].
Динамику численности корейского населения Ка-рафуто можно проследить из табл. 1.
Как видно из табл. 1, за период с 1921 по 1925 г. число домохозяйств и общее количество корейского населения на Южном Сахалине существенно выросли.
В 1925 г. влиятельные корейцы, проживающие во Владивостоке, обратились к японскому правительству с просьбой переселить на Карафуто около 3 тыс. корейцев из Приморской области. Губернатор Кара-футо дал разрешение на переселение 1 000 чел., но фактически на остров переехало 562 корейца. Они приехали в сопровождении семей в Эсутору (Углегорск) и Сиритори (Макаров), получили там работу и остались на постоянное жительство [14, с. 167].
Примечательно, что политический кризис в России совпал с возросшим спросом на рабочие руки, вызванный бумом бумажной промышленности в Эсутору (Макаров), Сиритори (Углегорск) и других частях Карафуто. В результате миграций из России, вербовки на шахты и переселения из Кореи численность корейского населения в конце 1920-х гг. заметно увеличилась. По табл. 2 мы можем проследить изменение численности населения на Карафуто в 1910–30 гг.
Из табл. 2 видно, что, несмотря на общее увеличение численности населения, самый большой ясняется тем, что по-прежнему значительную часть корейской общины на острове составляли сезонные рабочие. Они покидали остров по истечении срока своих контрактов или по окончании сезонных работ в лесной или рыбной промышленности.
Особо следует остановиться на истории переселения корейцев с Корейского полуострова. Процесс переселения на Карафуто был сходен с переселением корейцев в метрополию. Поскольку, в отличие от промышленной северной части страны, южная часть Кореи оставалась в этот период аграрным районом, японские компании предпочитали вербовать рабочих именно на юге. Обосновавшись на острове, корейцы вызывали на Карафуто семью, а также зачастую уговаривали родственников и односельчан последовать их примеру. Японские власти активно поощряли подобные способы переселения на Карафуто.
На первоначальном этапе переселение шло медленно, причиной чего были конфуцианские традиции и страх перед переездом. Однако после Первой мировой войны в Японии начался промышленный бум, который вызвал небывалый спрос на рабочие руки. К тому же в этот период шла активная миграция японцев в Корею, где они могли получить административные посты, заняться бизнесом, а также становились землевладельцами. Поддерживаемые колониальной администрацией, японские мигранты получали в свое распоряжение лучшие земли, в результате чего для многих разорившихся корейских землевладельцев единственным выходом становилась эмиграция.
Таблица 2
Этнический состав населения Карафуто, 1910–30 гг. [10, с. 30]
В результате количество корейцев на Японских островах росло быстрыми темпами. Накануне аннексии Кореи, в 1909 г., в Японии проживало всего лишь 790 корейцев, а к 1938 г. их число составило почти 800 тыс. чел. [17, с. 35–37]. Работали корейцы в основном на шахтах и в качестве дешевой неквалифицированной рабочей силы [17, с. 38].
В 1938 г. этнические корейцы на Японских островах по месту рождения делились следующим образом. Из провинций Южная Кёнсан, Северная Кёнсан, Южная Чолла, Южная Чхунчхон, Северная Чхунчхон5 – 93,8%, из провинций Южная Пхёнан, Южная Хамгён, Янган, Северная Пхёнан, Северная Хамгён6 – 3,4%, а из провинций Кёнги и Канвон7 – 2,8% [17, с. 36]. Корейцы Южного Сахалина также были в основном выходцами из провинций аграрного юга Кореи (корейцы северной части страны в то время, скорее, мигрировали в Маньчжурию, которая с 1931 г. тоже находилась под фактическим японским контролем). В г. Тойохара, административном центре Карафуто, корейское население в 1941 г. по месту рождения распределялось следующим образом.
Как видно из табл. 3, в численности корейского населения административного центра Карафуто прослеживались те же тенденции, что и в метрополии, – количество выходцев с юга Кореи достигало 97,3% ского полуострова. Выходцев из провинций Кёнги и Канвон, находящихся в центральной Корее, тоже было немного – 2,4%, или 33 чел. Эти особенности происхождения корейского населения Карафуто впоследствии сыграют значительную роль8 в истории сахалинской корейской диаспоры.
На процессы миграций на Карафуто большое влияние оказывала международная обстановка и внешняя политика японского правительства. Начало в 1937 г. Тихоокеанской войны9 вызвало необходимость поставить под контроль трудовые ресурсы. Вскоре после 1937 г. гражданское население империи становится объектом принудительной мобилизации, темпы которой быстро росли. В 1939 г. было мобилизовано 850 чел., в 1940 г. – 311 724, а в 1942 г. – уже 623 385. Вся рабочая сила бралась на строгий учет (существовала так называемая система регистрации профессий), при этом были приняты меры по предотвращению самовольных миграций (закрепленные в указе 1940 г. «О
Таблица 3
Корейцы г. Тойохара (Южно-Сахалинск) по месту рождения (1941 г.) [8, с. 2]
|
Провинция происхождения |
Численность корейского населения, чел. |
Соотношение к общему количеству корейского населения, % |
|
Северная Хамгён |
2 |
0,15 |
|
Южная Хамгён |
1 |
0,07 |
|
Северная Пхёнан |
0 |
0 |
|
Южная Пхёнан |
1 |
0,07 |
|
Хванхэ |
2 |
0,15 |
|
Северная Чхунчхон |
21 |
1,55 |
|
Южная Чхунчхон |
95 |
7,03 |
|
Северная Чолла |
61 |
4,52 |
|
Южная Чолла |
101 |
7,48 |
|
Северная Кёнсан |
433 |
32,05 |
|
Южная Кёнсан |
603 |
44,63 |
|
Кёнги |
25 |
1,85 |
(1 314 чел.). В г. Тойохара насчитывалось всего лишь 4 выходца из четырех провинций северной части Корей- запрещении рабочим и служащим менять место работы» и указе 1941 г. «О регулировании спроса и предложения рабочей силы»). Указ «Об организации труда на важнейших предприятиях» фактически отменял ограничения на максимальную продолжительность рабочего дня и минимальный размер заработной платы, которые отныне произвольно устанавливались правительственными чиновниками. Вкупе с неизбежными лишениями и падением уровня жизни это вело к общему ухудшению состояния здоровья трудоспособного населения и росту смертности [11, с. 194].
Закон «О всеобщей мобилизации» (Закон № 55), вступивший в силу в 1938 г., включал 50 статей и дополнений, которые регулировали условия и ход мобилизации. В соответствии с этим законом подданные Японской империи могли привлекаться к трудовой повинности и службе в соответствующих местах по законам военного времени. В соответствии с Указом императора № 316 от 4 мая 1938 г. «Об исполнении Закона о всеобщей мобилизации в Корее, Тайване и Карафуто» с сентября 1939 г. Закон «О всеобщей мобилизации» распространялся на территории колоний [9, с. 46–47]. Согласно официальному отчету японских властей, всего из Кореи в Японию было мобилизовано 422 262 корейца [18, с. 232].
В этих условиях на Карафуто также стали прибывать рабочие, мобилизованные в Корее. Однако японские власти по-прежнему поощряли приезд корейцев в виде свободной вербовки, вербовки через родственников и знакомых. Происходило это и после объявления о введении в феврале 1942 г. так называемой трудовой повинности [14, с. 168]. Общее количество принудительно мобилизованных из Кореи на Карафуто корейцев можно проследить по табл. 4.
Один из информантов вспоминал про свое прибытие на Карафуто: « Я приехал в 1943 г. по вербовке. Выбирали они, записывали всех на вербовку. Добирался сначала на пароходе, а потом поездом. На шахту в Красногорске. Работали по 12 часов без выходных, еду выдавали по талонам. Хочешь сразу съешь, хочешь – растягивай. Деньг не давали, на книжку клали. Убегать не пытались, если поймают, могут вообще за колючую проволоку посадить, там условия были гораздо хуже… » [П., муж., 1925 г. р., п. Углезаводск, 20.12.2008].
Стоит обратить внимание на тот факт, что зарплата сахалинских шахтеров шла в основном на сберегательные вклады почтового отделения банка г. Тойохара. Регистрационные книги с записями вкладов частью были потеряны во время военных действий, частью захвачены Красной армией в качестве трофеев [Государственный исторический архив Сахалинской области, далее – ГИАСО. Ф. 1038 оц. Оп. 1. Д. 104. Л. 14.]. После войны сахалинские корейцы так и не смогли получить свои сбережения, и вопрос этот ждет справедливого решения до сих пор.
Другие информанты рассказывали о приезде и жизни на Карафуто со слов своих отцов. « Мой отец мне рассказывал, как они работали при японцах. Вот идет вагонетка с лесом, толпа корейцев – человек сто рабочих – они хватают по два-три бревна и надо бежать метров восемьсот до шахты. Потом обратно – и так сколько наберешь. Потом работали – сколько этих подпорок в шахте хватало, они их ставили и уголь рубили. Сколько у тебя подпорок, столько ты и продвинешься, столько уголь нарубишь – столько денег и давали. Были настоящие гонки, как они бежали с этими бревнами, кто больше нахватает. Некоторые рисковали, ставили не через два метра, а через четыре, через пять – а потом обвал, увечья получали, умирали, такое тоже
Таблица 4
Принудительно мобилизованные для работы в производстве Карафуто корейцы, чел. [14, с. 168]
В конце 1944 г. общая численность населения Кара-футо составила 382 713 чел. (мужчин из них было 195 794, женщин – 186 919). Кроме того, из Хоккайдо на
Таблица 5
Корейское население губернаторства Карафуто в 1931–44 гг.[14, с. 165]
« Некоторые приезжали по контрактам трудовым на два или три года. Мой отец так приехал… Но он хорошо работал, и директор шахты, он видел, что отец такой работник хороший, он его уговорил еще остаться на год. Отец говорил, что несколько человек так уговаривали, тех, кто хорошо работал. А там родители его ждали на родине – невеста даже уже была, а он все не возвращается, родители взяли и приехали за ним. А там уже 1945 г. – так и остались здесь жить » [А., муж., 1951 г .р., пос. Углезаводск, 01.02.2009.].
Складывается примерно такая картина миграции корейского населения на территорию губернаторства Ка-рафуто. Важным являются не только документальные сезонные работы в рыбную и лесную промышленность ежегодно прибывали от 18 до 25 тыс. чел. [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 92. Л. 2.].
В 1931–44 гг. динамика численности корейского населения на Карафуто выглядит следующим образом.
Как мы можем увидеть из табл. 5, количество корейцев на Карафуто равномерно росло и к 1944 г. составило почти 27 тыс. чел.
Из-за обстановки, царившей в Японской империи накануне окончания Второй мировой войны, 11 августа 1944 г. японским правительством было принято решение «О немедленном перемещении шахтеров и ресурсов Карафуто и Кусиро10». В результате этого решения были закрыты 14 из 26 шахт на западном побережье Карафуто, а японские и корейские рабочие этих шахт были перемещены о. Кюсю. Этих рабочих насчитывалось от 6 до 10 тыс. чел. Этнических корейцев из них было около 3 тыс. чел. [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 92. Л. 2].
Главной причиной этого перемещения были финансовые трудности и транспортные проблемы. Условия перемещения, которое в российской историографии получило название «повторная вербовка», были очень тяжелыми. Рабочим сообщили о перемещении за 3 дня до отъезда, который состоялся 19 августа. Условия работы на японских шахтах были гораздо хуже, чем на Карафуто, было несколько смертельных случаев. Однако главным следствием «повторной вербовки» стала разлука с семьями, оставшимися на Карафуто. Некоторое количество завербованных смогли после окончания боевых действий в 1945 г. вернуться на остров, однако для большинства возвращение оказалось невозможным из-за военных действий и недостатка необходимой информации. Во многих случаях те, кто вернулись на Карафуто, умерли рано из-за последствий тяжелейшей работы на шахтах в Японии [15, с. 72–73].
На Сахалине до сих пор проживают дети тех, кто подвергся «повторной мобилизации». Информанты про эти трагические события вспоминают следующее:
« А отца моего забрали, когда мама мной была беременна… значит в 1944 г. Отца я так и не увидела за всю жизнь. Закрыли шахту, на которой он работал, и забрали. А после войны делать нечего, к нам он
Таблица 6
Динамика переселения корейский рабочих, повторно мобилизованных в Японию в августе 1944 г. [12, с. 25]
По табл. 6 можно проследить, из каких шахт Кара-футо были вывезены корейские рабочие, количество вывезенных, а также шахты, на которых работали подвергшиеся «повторной вербовке». Эти шахты находились на о. Кюсю, самом южном острове Японского архипелага.
Как можно увидеть из табл. 6, «повторной вербовке» были подвергнуты 3 100 корейцев, а количество вернувшихся на Сахалин к семьям было ничтожно мало, поскольку возвращение не проводилось официально. Эти рабочие инициируют в послевоенной Японии движение за репатриацию сахалинских корейцев.
После поражения главной союзницы Японии – гитлеровской Германии – в мае 1945 г. положение Японии становится катастрофическим. Объявление Советским Союзом войны 8 августа, а также атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа продемонстрировало японскому правительству невозможность продолжения войны. В этих условиях 15 августа по радио был передан рескрипт императора Хирохито о принятии условий Потсдамской декларации. 2 сентября 1945 г. представители японского правительства подписали на борту американского крейсера «Миссури» Акт о безоговорочной капитуляции, закончив таким образом Вторую мировою войну.
В связи с началом военных действий японская администрация Карафуто провела частичную эвакуацию гражданского населения (женщин и детей) из южных районов Карафуто, в основном из г. Ото-мари (Корсаков), Рудака (Анива), Хонто (Невельск). Эвакуированные выезжали на Хоккайдо, причем их число достигло 40 тыс. чел. [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 92. Л. 2]. Несомненно, среди эвакуированных были и корейцы, но количество последних подсчитать не представляется возможным.
По условиям, которые согласовали между собой державы-союзницы по антигитлеровской коалиции, было решено передать Советскому Союзу Южный Сахалин и Курильские острова. Южно-Сахалинская и Курильская десантная операции, начавшиеся 11 августа 1945 г., позволили к 26 августа советским войскам полностью занять Карафуто и Тисима. В 1947 г. эти территории были объединены с Северным Сахалином и образовали Сахалинскую область в составе РСФСР.
На момент вступления Красной армии на территорию Южного Сахалина его население составляло около 370 тыс. чел. В Отомари и Тойохара скопилось более 30 тыс. беженцев, причем часть из них ушла в горы. Всего беженцев насчитывалось 64 тыс. чел. Корейцев на Южном Сахалине было 23 498 чел., из них 15 356 мужчин и 8 142 женщины [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 92. Л. 2].
Таков был итог периода, имевший важное значение в истории сахалинской корейской диаспоры. На территорию губернаторства Карафуто в составе Японской колониальной империи шла миграция корейского этнического населения, преимущественно с юга Корейского полуострова. Основная миграция была двух видов – приезд корейцев для работы в промышленности острова (которая отличалась по сравнению с Кореей более высокими заработками) и принудительная мобилизация корейского населения в соответствии с законами военного времени. В 1945 г., после перехода Южного Сахалина Советскому Союзу по результатам Второй мировой войны именно эти трудовые мигранты и принудительно мобилизованные рабочие составят основное ядро сахалинской корейской диаспоры.
Список литературы Миграция корейского этнического населения на Южный Сахалин в период японского правления (1905-1945 гг.)
- Бок Зи Коу Корейцы на Сахалине. Южно-Сахалинск: Южно-Сахалин. гос. педагог, ин-т, 1993. 222 с.
- Бок Зи Коу Сахалинские корейцы: проблемы и перспективы. Южно-Сахалинск: ИМГиГ ДВО АН СССР, 1989. 77 с.
- Ким Г.Н. История иммиграции корейцев. Кн. 1. Вторая половина XIX в. -1945 г. Алматы: Дайк-пресс, 1999. 424 с.
- Костанов А.И., Подлубная И.Ф. Корейские школы на Сахалине: исторический опыт и современность. Южно-Сахалинск: Архивный отдел администрации Сахалинской области, 1994. 24 с.
- Кузин А.Т. Дальневосточные корейцы: жизнь и трагедия судьбы. Южно-Сахалинск: Дальневост. кн. изд-тво, 1993. 368 с.
- Кузин А.Т. Исторические судьбы сахалинских корейцев. Кн. 2. Интеграция и ассимиляция (1945-1990 гг.). Южно-Сахалинск: Сахалин. кн. изд-во, 2010. 336 с.
- Кузин А.Т. Переход корейцев в Дальневосточные пределы Российского государства. (Поиски исследователя). Южно-Сахалинск, 2001. 64 с.
- Ли Сон Хван Сахалинханин мунчэе кванхан сорончог кочжаль (Размышление о проблеме сахалинских корейцев)//The Study of Sakhalin Koreans. 2003. № 13 (январь). 13 с. (на кор. языке).
- Ло Ен Дон Проблема российских корейцев. М.: Изд-во «Арго», 1995. 108 с.
- Мики Масафуми. Сэнканги Карафуто ниокэру тё сэндзин сякайно кэйсэй (Формирование корейского общества на Карафуто в период войны)//Сякай кэйдзай сигаку. 2003. № 68-5 (январь). С. 25-45 (на япон. языке).
- Молодяков В.Э., Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. История Японии. XX век. М.: ИВРАН; Крафт+, 2007. 528 с.
- Нагасава Сигэру Сэндзика нанкарафутоно хикё сэйунго тёсэндзин танкофу ни цуитэ (Исследование о корейских шахтерах, насильно переселенных на Южный Сахалин в период войны)//Исследования истории корейцев в Японии. 1986. № 16. 150 с. (на япон. языке).
- Петров А.И. Корейская диаспора на Дальнем Востоке России. 60-90-е годы XIX века. Владивосток: ДВО РАН, 2000. 304 с.
- Хан Хе Ин Сахалин ханин гвихваныль толлоссан бэчева пхосопи чончжи: хэбанху -1970 нёнтэккачие Сахалин ханин квихван умчигимыль чунсимыро (Обстановка, окружающая репатриацию сахалинских корейцев, и политика вовлеченных стран: движение за репатриацию сахалинских корейцев в период освобождения -1970-е гг.)//Сахагёнгу. 2011. № 102. С. 157-198 (на кор. языке).
- Чон Хе Кён 1944 нёне ильбонбонтхоро чонхванпэчжи твин Сахалинэ чосонин гванбу (Корейские шахтеры Карафуто, переселенные в японскую метрополию в 1944 г.)//Ханильминчогмунчэ ёнгу. 2008. Август (8). С. 5-73 (на кор. языке).
- Lankov A. Dawn of Modern Korea. The Transformation in Life and Cityscape. Seoul: EunHaeng NaMu, 2007. 374 p. (на англ. языке).
- Lee Ch., De Vos G. Koreans in Japan: Ethnic Conflict and Accommodation. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1981. 438 p. (на англ. языке).
- The Japanese Colonial Empire/Edited by Ramon H. Myers, and Mark R. Peattie. Princeton: Princeton University Press, 1984. 541 p. (на англ. языке).