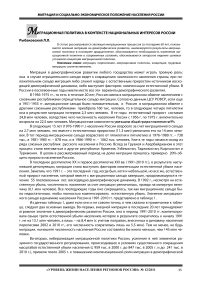Миграционная политика в контексте национальных интересов России
Автор: Рыбаковский Л.Л.
Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal
Рубрика: Миграция и социально-экономическое положение населения России
Статья в выпуске: 12 (166), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается эволюция миграционных процессов за последние 60 лет, показывается влияние миграции на демографическое развитие, анализируются результаты миграционной политики в последнее двадцатилетие, обосновывается необходимость изменения миграционной политики в современных условиях, обосновывается авторское видение целевых установок концепции миграционной политики.
Миграция, переселение, миграционная политика, концепция, трудовые миграции, соотечественники
Короткий адрес: https://sciup.org/143181439
IDR: 143181439
Текст научной статьи Миграционная политика в контексте национальных интересов России
Миграция в демографическом развитии любого государства может играть троякую роль: она в случае отрицательного сальдо ведет к сокращению численности населения страны, при положительном сальдо миграция либо служит наряду с естественным приростом источником восходящей демографической динамики, либо выступает фактором компенсации естественной убыли. В России в послевоенные годы имели место все эти варианты демографического развития.
В 1956-1975 гг., то есть в течение 20 лет, Россия имела в миграционном обмене населением с союзными республиками отрицательное сальдо миграции. Согласно данным ЦСУ РСФСР, если еще в 1951-1955 гг. миграционное сальдо было положительным, и Россия в миграционном обмене с другими союзными республиками приобрела 160 тыс. человек, то в следующие четыре пятилетки она в результате миграции потеряла 2,3 млн человек. В те годы естественный прирост составил 24,8 млн человек, вследствие чего численность населения России с 1956 г. по 1975 г. включительно возросла на 22,5 млн человек. Миграционная компонента уменьшила общий прирост населения на 9%.
В следующие 15 лет (1976-1990 гг.) население России возросло за счет миграционного сальдо на 2,7 млн человек, что вместе с естественным приростом (11,3 млн) увеличило его на 14 млн человек. В тот период миграционное сальдо возрастало от пятилетия к пятилетию: в 1976-1980 гг. – 738 тыс., в 1981-1985 гг. – 878 тыс. и в 1986-1990 гг. – 1062 тыс. человек. Уже в те годы начался исход из ряда союзных республик русского населения в Россию. Вслед за Грузией и Азербайджаном в этот процесс стали втягиваться и другие республики: Армения, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Туркмения. В целом в рассматриваемый период на долю миграции пришлось примерно 20% общего прироста населения России.
В последнее десятилетие ХХ и первое десятилетие ХХI вв. (1991-2010 гг.), в результате наступившей депопуляции, миграция стала выступать фактором компенсации естественной убыли населения. Заметим, что 1991 г. – это последний год, когда был, хотя и небольшой, но все же, естественный прирост населения, который вместе с миграционным сальдо завершил, продолжавшуюся в течение 55 послевоенных лет, восходящую демографическую динамику. В 1992 г., несмотря на естественную убыль, численность населения за счет миграции увеличилась, правда на мизерную величину (0,1 млн человек). Все последующие годы оно сокращалось, так как миграционное сальдо было недостаточным, чтобы полностью компенсировать естественную убыль. Значение миграционного сальдо в динамике населения России в 1991-2010 гг. представлено в таблице 1.
Из данных таблицы 1, даже если они и не совсем точны, о чем сказано в примечании к таблице, следуют два основных вывода. Во-первых, внешней миграции в последние 20 лет принадлежит огромное значение в демографическом развитии России, она в период 1991-2010 гг. компенсировала свыше трети естественной убыли населения, которое в результате сократилось к началу 1991 г. не на 13,1 млн человек, а лишь – на 8,4 млн (с учетом поправок, внесенных в динамику населения переписями 2002 и 2010 гг., его численность сократилась лишь на 5,5 млн). Тем не менее, не будь миграции, нынешняя численность населения России составляла бы много меньше, чем 143 млн человек.
Во-вторых, либерализация миграционной политики России, усиление в ней элементов разумного государственного регулирования, происходившее в условиях существенного сокращения масштабов естественной убыли населения (с 959 тыс. в 2000 г. до 847 тыс. в 2005 г. и до 241 тыс. в 2010 г.), привели после 2005 г. к повышению компенсационной роли миграции в демографической динамике. В 2009 г. миграция, по сути, компенсировала всю естественную убыль населения и впервые с 1993 г. его численность не сократилась, в 2010 г. миграция возместила 2/3 естественной убыли.
В Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года (далее Концепция), утвержденной указом Президента в 2006 г., подтверждена цель демографического развития страны, одобренная Правительством РФ в 2001 г., и одновременно намечены конкретные рубежи её достижения: в 2015 г. стабилизировать население на уровне 142-143 млн человек и в 2025 г. достигнуть 145 млн. Таким образом, в период 2011-2025 гг. в России должна быть восходящая демографическая динамика. Стало быть, во втором, да и в третьем десятилетиях ХХI в. роль миграции в демографическом развитии России должна возрасти еще в большей мере, чем это было в предшествующие годы.
Таблица 1
Доля миграции в компенсации естественной убыли населения
России в 1991-2010 гг., тыс. человек*
|
Годы |
Естественная убыль |
Миграционный Прирост |
Общий Прирост |
Доля компенсации** |
|
1991-1995 |
-2599 |
2024 |
-575 |
77,9 |
|
1996-2000 |
-4127 |
1399 |
-2728 |
33,9 |
|
2001-2005 |
-4407 |
331 |
-4076 |
7,5 |
|
2006-2010 |
-2009 |
1019 |
-990 |
50,7 |
|
Всего |
-13142 |
4773 |
-8369 |
36,3 |
*В связи с проводимыми Росстатом корректировками данных о миграционном и общем приросте населения, вы- званными несовпадениями сведений переписей и текущего учета, возможна не точность, приводимых в таблице цифр.
**отношение миграционного прироста к естественной убыли в %.
Это связано с рядом обстоятельств, прежде всего, с негативным воздействием на демографическое развитие России, созданным в восьмидесятые-девяностые годы демографической волны. В 1983-1987 гг. произошел взлет чисел родившихся до 2,4-2,5 млн в год, а затем, в 1996-2001 гг. числа резко упали до уровня в 1,2-1,3 млн. Происходящее в результате волны движение различных по численности возрастных контингентов помимо того, что в социальной сфере скачкообразно меняет потребность в образовательных, воспитательных и других учреждениях, определяет численность и структуру экономически активного населения, задает также параметры демографического будущего страны. Численность женщин наиболее активных репродуктивных возрастов (20-29 лет) к 2015 г. может сократиться на 15%, и к 2025 г. относительно 2015 г. на 30% и к 2010 г. – более чем на 40%, что существенно повлияет на число рождений. Оно, если не произойдет значительного увеличения суммарного коэффициента рождаемости, сократится почти до одного млн.
Еще более опасным для демографического развития России является ускоряющийся процесс старения возрастной модели рождаемости. Если средний возраст матери при рождении первого ребенка в 2005 г. был 24,2 года, то в 2009 г. уже 24,6 года. За это же время средний возраст матери при рождении второго ребенка увеличился с 29 до 29,5 лет. Ныне в России наибольшие показатели рождаемости приходятся на возрастную группу в 25-29 лет, тогда как еще несколько лет назад ею была группа в 20-24 года. В таких городах как Санкт-Петербург и Москва, ныне наивысшие показатели рождаемости приходятся на группу в 30-34 года. Тенденции постарения возрастной модели рождаемости – не конъюнктурны, и потому, без их приостановки и придании им обратной направленности, трудно рассчитывать на достижение тех параметров рождаемости, которые вкупе с другими компонентами демографической динамики смогут обеспечить ей восходящий характер.
Одновременно с этими двумя обстоятельствами в России происходит также постепенное увеличение доли лиц в возрасте старше трудоспособного возраста. Согласно среднему прогнозу Росстата (выполнен в 2009 г.), к началу 2015 г. доля этой категории населения достигнет 23,7% по сравнению с 21,6% в 2010 г. К началу 2020 г. эта доля станет 25,9, а к 2025 г. – 27,2%. Увеличение доли пожилого населения, не говоря уже о росте социальных издержек, непременно приведет к росту числа умерших, что может быть нивелировано лишь сокращением показателей смертности во всех, в том числе и старших возрастах.
Рост числа умерших, как и сокращение числа родившихся увеличат естественную убыль населения, что повлияет на демографическую динамику, которая вступит в противоречие со стратегией демографического развития страны, обусловленной её геополитическими, экономическими и другими факторами, в целом национальными интересами российского государства. Противодействие этому находится в существенном повышении вклада миграции в демографическую динамику.
Каково должно быть сальдо миграции при различных величинах двух других составляющих? Возможны различные ответы на этот вопрос. Один из них представлен в уже указанном прогнозе Росстата. Согласно среднему варианту прогноза, естественная убыль населения в 2015 г. составит 348 тыс. человек, то есть на 100 тыс. больше, чем была в 2009 г., в 2020 и 2025 гг. она соответственно будет – 481 и 639 тыс. человек. За 15 лет с 2011 г. по 2025 г. общая величина естественной убыли достигнет 6,6 млн человек. Столь значительная величина естественной убыли, её рост от года к году вызваны, по мнению разработчиков прогноза, тем, что число родившихся будет методично снижаться и к 2025 г. достигнет уровня конца 1990-х гг., в свою очередь число умерших останется на отметке 2 млн человек в год или чуть меньше (в 2025 г. – 1961 тыс.). Заметим, что спорить с принятыми в прогнозе уровнями рождаемости и смертности бессмысленно, поскольку оба эти явления имеют вероятностный характер. Можно существенно воздействовать на их параметры, но не получить нужных результатов, а можно их получить, ничего не предпринимая.
При заданной в прогнозе динамике естественной убыли – спасение только в увеличении миграционного сальдо, что и предлагается в нем. Миграционное сальдо в 2015 г. должно составить 339 тыс. человек, в 2020 г. – 384 тыс. и в 2025 г. – 405 тыс. В этот пятнадцатилетний период общая величина миграционного сальдо выразится в 5,4 млн человек. Страна должна будет ежегодно в среднем получать по 360 тыс. мигрантов. И, тем не менее, в результате прогнозируемых параметров миграции и естественной убыли населения, его численность к 2025 г. сократится примерно на 1,2 млн человек. Следовательно, предлагаемый Росстатом прогноз, не обеспечивает достижение пороговых значений, установленных Концепцией демографической политики России на период до 2025 года, утвержденной указом Президента РФ.
Согласно Концепции в 2015 г. ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) населения в России должна увеличиться до 70 лет и к 2025 г. – до 75 лет (в 2007 г. ОПЖ составляла 67,5, в 2008 г. – 67,9 и в 2009 г. – 68,7 года). В свою очередь, суммарный коэффициент рождаемости (СКР) должен возрасти по отношению к 2006 г. в 1,3 раза, а в 2025 г. – в 1,5 раза (его величина в 2006 г. была 1,296, в 2008 г. – 1,494 и в 2010 г. – почти 1,6). Значит, величины СКР должны составить в 2015 г. – 1,685 и в 2025 г. – 1,944. При заданных параметрах рождаемости и смертности миграционное сальдо не должно быть, согласно Концепции, менее 300 тыс. человек. Поскольку в Концепции пороговые значения рождаемости и смертности определяются специальными показателями (СКР, ОПЖ), то их необходимо пересчитать, чтобы определить величину естественной убыли для её сопоставления с миграционным сальдо. При уровне суммарного коэффициента рождаемости в 1,685 число родившихся в 2015 г. составит примерно 1750 тыс. человек. Величина суммарного коэффициента рождаемости, которая должна быть достигнута к 2025 г., составляет 1,944, что может обеспечить при численности репродуктивного контингента в том же году приблизительно 1,5 млн рождений.
Если к 2015 г. будет достигнут уровень ожидаемой продолжительности жизни в 70 лет, то число умерших снизится до 2 млн человек в год (точнее до 2020 тыс.), при достижении ожидаемой продолжительности жизни в 75 лет, число умерших должно составить примерно 1,7 млн человек (1715). При таких числах родившихся и умерших естественная убыль сохранится к 2015 г. в 250 тыс. и снизится к 2025 г. до 200 тыс. человек.
Среднегодовая взвешенная величина естественной убыли для пятнадцатилетнего периода будет равна 3250 тыс. человек. Поскольку, численность населения к 2025 г. должна возрасти относительно 142 млн в 2010 г. (текущий учет) на 2 млн и достигнуть 145 млн человек, постольку на весь период необходимо обеспечить миграционное сальдо в размере 6250 тыс. или по 400-420 тыс. в среднем за год. Согласно последней Всероссийской переписи населения 2010, численность населения к концу 2010 г. составила 143 млн человек. Поэтому суммарное миграционное сальдо для периода 2011-2025 гг. должно быть не 6250 тыс., а 5250 тыс. человек, а его средняя ежегодная величина составлять 350 тыс. человек, что не намного больше норматива, заложенного в Концепции.
Конечно, миграционное сальдо, следующее из прогноза Росстата и получаемое, исходя из нормативных данных Концепции, есть просто результаты арифметики. Станут ли они реальностью, всецело зависит от тех усилий, которые предпримет государство, чтобы реализовать цели Концепции демографической политики. Не хочется думать, что с намеченной целью довести к 2025 г. численность населения России до 145 млн человек, произойдет то же, что случалось уже много раз: завершали строительство коммунизма по Н.С. Хрущеву к 1980 г., обеспечивали всем семьям отдельные квартиры по М.С. Горбачеву к 2000 г. и т.д.
Следует добавить, что, несмотря на то, что созданная в 80-90-е гг. демографическая волна в наибольшей мере скажется на числе родившихся в двадцатые годы, тем не менее, её действие станет ощущаться уже с 2015 г. С этого времени пополнение наиболее активной в репродуктивном отношении группы будет происходить из лиц, родившихся в 1990 г. и позже. В 1990 г. число родившихся было меньше на полмиллиона, чем три-четыре года назад. В 2020 г. в эту категорию населения будут вступать лица, родившиеся во второй половине 90-х гг. (число родившихся в 1996-2000 гг. было на 1/3 меньше, чем в 1986-1990 гг.). Такое влияние демографической волны должно учитываться при проектировании вклада различных компонентов в демографическую динамику, во всяком случае, нельзя откладывать на завтра (на 2015 г. и позже), то, что надо делать уже сегодня, начиная с 2012 г.
Такие масштабы необходимого сальдо миграции в настоящее время кажутся непомерными для России, и, тем не менее, его ежегодная величина, скорее всего, должна быть еще более весомой в начале пятнадцатилетия, чем в его конце. К тому же масштабы миграционного потенциала в новом зарубежье с годами становятся все меньше и меньше.
Обеспечение определенных масштабов миграции, компенсирующих естественную убыль и содействующие стабилизации и росту населения, – это лишь одна сторона достижения цели Концепции, другая состоит в изменении вектора территориального размещения населения. Ныне преобладающая часть населения размещена в центральных и южных районах страны, хотя её основные природные ресурсы сосредоточены в слабозаселенной азиатской части России.
Россия – самая крупная по размерам территории страна в мире, её площадь 17,1 млн кв. км или 1/8 часть территории земного шара. Площадь её азиатской части составляет 12,8 млн кв. км (Канады – 10 млн, Китая – 9,6 млн и США – 9,4 млн). Здесь сосредоточены основные запасы древесины, нефти, газа, угля, руд чёрных и цветных металлов, гидроресурсов, минеральных удобрений, строительных материалов, пресной воды (только в Байкале её объем равен примерно одной пятой мировых запасов). Но наличие в Азиатской России богатых природных ресурсов, её выгодное географическое положение находится в явном противоречии с заселенностью и освоенностью огромных пространств. Нынешняя заселенность Сибири и Дальнего Востока – это, с одной стороны, историческая данность, а с другой – результат той политики, которую проводила Росси в 1990-2010 гг.
В прошлом Россия, преумножая и без того огромную территорию, не в состоянии была, тем не менее, заселить её достаточно плотно. Несмотря на сравнительно большие по условиям дореволюционной России масштабы переселений, восточные районы оставались слабозаселенными. В 1897 г. на огромной территории за Уральским хребтом проживало лишь 5,7 млн человек, что составляло 0,4 человека на кв. км. Накануне революции плотность населения Сибири и Дальнего Востока составляла менее 0,7 человек на кв. км.
Интенсификация освоения восточных районов страны в советские годы, хотя и увеличила плотность их населения, но не изменила кардинально уровень заселенности этих территорий. Поэтому, наряду со сравнительно плотно заселенными центральными областями страны, всегда были и слабо освоенные окраины, сколь бы значимыми в геополитическом отношении они не были для России. Но надо отметить, что до развала Советского Союза доля восточных районов в населении страны непрерывно повышалась: в 1939 г. она была 14,1%, в 1959 г. – 17,4, в 1979г. – 20,3% и в 1989 г. – 21,8%. За этим ростом в каждом восточном регионе – страницы самоотверженного освоения природных ресурсов Дальнего Востока и Сибири. Здесь и БАМ, и нефтегазоносные месторождения
Тюменского севера, и Ангарские гидростанции, и полиметаллические руды Красноярского края, и Якутские алмазы и многое-многое другое.
В 1990-е гг., спустя более чем полтора столетия с начала освоения Дальнего Востока, не говоря уже о Восточной Сибири, кардинально изменились демографические тенденции в этой части страны. Здесь стал снижаться уровень заселенности и еще более интенсивно сокращается доля в населении России в целом, то есть, разрушается демографический и трудовой потенциал. В 1999 г. доля восточных районов в населении страны снизилась до 21,4%, а в 2009 г. уже была – 18,3%. В настоящее время показатели плотности населения восточных районов ниже средних по России в 3,5 раза, а относительно уровня заселенности всего азиатского материка – в 30-35 раз.
Геополитические и экономические интересы страны настоятельно требуют изменить вектор внутренних миграций: потоки, идущие с востока на запад поменять в направлении запад-восток. Особенно это касается южных районов Дальнего Востока. За период 1991-2010 гг. миграционная убыль населения Дальнего Востока была почти в 5 раз больше естественной убыли. За это время население России сократилось примерно на 4%, а Дальнего Востока – на 20% , то есть в 5 раз больше. С каждым годом падает плотность населения в стратегически важных приграничных районах страны, в заселение которых вложены огромные материальные и людские ресурсы.
В это же время неуклонно растет численность постоянных жителей г. Москвы, на долю которой приходится уже почти 7,5% населения России. За время депопуляции в стране, численность населения столицы увеличилась, несмотря на естественную убыль, более чем на 15% (на 1,4 млн человек). Если в 1991-1995 гг. миграционное сальдо в Москве составило минус 6,6 тыс. человек, то уже в 1996-2000 гг. – миграционный прирост достиг 269,5 тыс. В новом столетии весь миграционный прирост, получаемый Россией из стран нового зарубежья, по сути, лишь пополняет растущее население Москвы. Так, в межпереписной период (2003-2010 гг.) 90% миграционного прироста из стран нового зарубежья, полученного Россией, а это 1440 тыс. человек, оказалось в Москве. В значительной мере это отразилось на демографической динамике: население Москвы возросло на 1,1 млн человек, а население остальных регионов России – сократилось на 3,4 млн.
Резюмируя, подчеркнем, что если Россия не сможет изменить вектор внутренних миграций, то в условиях нарастающей глобализации может стать перекрестком, фокусирующим интересы, отнюдь не только сопредельных стран. Это не наша выдумка. Вот, что говорит на этот счет Зб. Бжезинский. «Чтобы удержать Сибирь, России понадобится помощь: ей не под силу одолеть эту задачу самостоятельно в условиях переживаемого ею демографического спада и новых тенденций в соседнем Китае». И далее. Россия должна превратиться в общеевропейское достояние, используемое на многосторонней основе. Для европейцев это была бы увлекательная перспектива покорения «новых рубежей» (3, с. 139-140).
В связи со сказанным Россия должна не только предпринять новые, еще более существенные, чем в минувшее десятилетие усилия по дальнейшему повышению рождаемости и сокращению смертности, но и кардинально изменить, проводимую ею миграционную политику. А для этого необходимо, прежде всего, создать соответствующую национальным интересам страны Концепцию миграционной политики. Очевидно, что концепция – это не вся политика, а лишь один из её компонентов.
Концепция определяет только подход к формированию системы мер, регулирующих всю совокупность миграционных процессов в направлении, соответствующем геополитическим, социально-экономическим и иным интересам страны. Меры, охватывающие законодательную, финансово-экономическую, информационную и организационную деятельность органов власти, включаются в миграционные программы или иные нормативные документы, но отнюдь не в Концепцию.
Другая особенность Концепции состоит в том, что формулируемые ею цели регулирования миграционных процессов не самостоятельны по определению. Они соподчинены иным целям, решаемым в других областях деятельности, в частности демографической и трудовой. Одна из целей регулирования миграционных процессов, обусловлена, как это было показано выше, Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. Миграция в достижении цели, сформулированной в этой Концепции, выступает лишь в числе компонент стабилизации и последующего роста населения. Значение этой компоненты может быть различным (значимым и ничтожным) в зависимости, с одной стороны, от результативности естественного движения населения, а с другой стороны, от концептуальных положений, определяющих интенсивность демографического развития страны.
В Концепции миграционной политики должны быть прописаны количественные параметры миграций, состав их участников (социальные характеристики), места выхода (страны – доноры), условия приема переселенцев в России, схема их размещения по территории страны. Но это не целевая часть, а то, что формирует задачи и приоритеты.
Другая цель, определяющая количество и качественные характеристики временных трудовых миграций, всецело зависит от параметров перспективного баланса труда, текущего и прогнозного дефицита рабочей силы, учитывающего его территориальные и отраслевые разрезы. Исходя из прогнозов демографической динамики, в том числе и населения в трудоспособном возрасте, на весь перспективный период до 2025 г. цель концепции регулирования миграционных процессов должна быть двуедина. Возможна такая её формулировка.
Цели миграционной политики России на период до 2025 года состоят в привлечении иммигрантов, в первую очередь, из стран нового зарубежья, особенно соотечественников, для формирования из них граждан России, расселение которых должно соответствовать её геополитическим интересам, и в пополнении занятого в экономике населения временными трудовыми мигрантами в соответствие с балансовыми потребностями отраслей и регионов страны.
Лишь определив цели миграционной политики, следует обосновывать направления, приоритеты и меры её реализации. К сожалению, все 20 лет существования независимой России, необходимые решения в области регулирования миграции населения принимались без их концептуального обеспечения. Эти решения, будучи жестко привязаны к существовавшим правовым и другим нормативным актам, даже, несмотря на их непрерывный «ремонт», не имели целевой направленности, и потому миграционная практика часто противоречила национальным интересам России.
Как было показано ранее, России действительно нужны иммигранты (безвозвратные, временные) и притом в больших количествах. Это одно. Второе, важно, чтобы Россия выбирала страны и нужных мигрантов, а не мигранты выбирали Россию как пристанище и перевалочную базу для дальнейших странствований по Европе. Сразу заметим, что этот тезис не противоречит международной практике и тем нормативным актам, которые регламентируют перемещение населения между государствами, защищают права мигрантов, обеспечивают им гарантии в различных сферах жизнедеятельности.
В современном мире, несмотря на всю важность международных норм, страны-реципиенты все же в большей мере руководствуются собственными национальными интересами и к мигрантам предъявляют, соответствующие требования. Так, США – оплот западной демократии квотирует въезд из разных стран, отбирает только нужных мигрантов (в начале 90-х гг. они принимали лишь одного из пяти, желавших мигрировать туда из России); Франция, страна революционных традиций и демократии, высылает нежелательных для неё эмигрантов (цыган), ограничивает ношение женщинами, исповедующими ислам, платков, скрывающих лицо, в стране регулярно происходят массовые вспышки недовольства жизнью со стороны иммигрантов, достаточно жестко подавляемые полицией; Великобритания с её традиционно демократическими устоями, требует от мигрантов знания местного менталитета (есть специальный вопросник), дифференцирует мигрантов в зависимости от стран выхода (гражданам Евросоюза в отличие от других не надо брать разрешения на работу) и т.д., Россия же из-за боязни осуждения со стороны этих стран, не всегда проводит ту иммиграционную политику, которая соответствует её собственным национальным интересам.
Соответствие иммиграционной политики национальным интересам России, это лишь одна сторона, другая, о чем говорилось ранее, – насущная потребность все ближайшие 15-20 лет в притоке иммигрантов. Во-первых, миграция необходима для замещения естественной убыли, которая будет сохраняться, по крайне мере, еще два десятка лет и для обеспечения, намеченного Концеп- цией, роста численности населения. Во-вторых, она нужна для восполнения численности населения, занятого в экономике в связи с наступившим дефицитом трудовых ресурсов. В-третьих, связи с тем, что в центральной части страны исчерпаны переселенческие ресурсы, поступающий из-за пределов страны иммиграционный поток, целесообразно направлять преимущественно на Дальний Восток и в некоторые другие районы Сибири. Добавим, разумное расселение мигрантов по территории страны, учитывающее её национальные интересы, важнее привлечения иммигрантов, в том числе и из слаборазвитых стран, которые концентрированно оседают в её исторических центрах, в частности в Московском регионе.
Очевидно, что Россия должна не только устанавливать нижние границы, необходимых ей масштабов привлечения мигрантов на постоянное жительство, но и определять их этнические и страновые приоритеты, как это делается многими государствами. Бесспорно, основной приоритет принадлежит соотечественникам. К ним можно отнести либо лиц тех национальностей, которые являются титульными для данной страны независимо, где они проживают, либо лишь ту их часть, которая проживает в других государствах, будучи их гражданами. Тогда граждане России – это сограждане, а российские соотечественники – это титульные для России народы, но граждане других стран. Они в преобладающем количестве проживают на постсоветском пространстве (ныне их 1718 млн, в том числе – русских 16-17 млн).
За ними следуют лица, родившиеся в смешанных с титульными национальностями России семьях и не получившие их национальность при рождении, или поменявшие её уже после распада СССР. Подобный подход, дающий миграционные преференции лицам, имеющим «кровь» титульных народов страны вселения, существует, например, в Японии, Израиле и т.д. Лиц, смешанных с титульными народами России и проживающих в странах нового зарубежья, несколько миллионов человек, по крайней мере, не меньше трех млн, если не больше.
Третья приоритетная категория – граждане государств нового зарубежья, являющиеся для них титульными независимо от их проживания (например, армяне – в Грузии, узбеки – в Кыргызстане). Это наибольшая по численности группа населения, но и наиболее трудная для привлечения на постоянное жительство в Россию по многим, в том числе этнокультурным, экономическим и даже социально-политическим причинам.
Россия, вступая в новую полосу демографических трудностей, нуждается в придании миграционным процессам тех параметров, которые будут в наибольшей мере соответствовать её геополитическим и экономическим интересам. Более того, наступило время формирования системного по своим элементам, структуре и логике осуществления, механизма регулирования миграции населения. Процесс упорядочения миграционных процессов должен идти по следующей схеме: подготовка и утверждение президентским указом Концепции миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года, создание единой программы (или программ по отдельным видам миграции) регулирования внешней миграции на постоянное жительство в России, привлечение временных трудовых мигрантов и изменение вектора внутренних миграций. Следуя букве и духу Концепции, одновременно должны пересматриваться нормативные акты, регулирующие миграционные процессы. Ныне многие из этих актов, создаваемые и непрерывно «ремонтируемые» в течение двух десятков лет, противоречат национальным интересам страны, прежде всего, необходимости её устойчивому демографическому развитию с восходящей динамикой.
В рамках сказанного нужно оперативно решить ряд насущных проблем. Во-первых, надо радикально переработать Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, принятую в 2006 г. К сожалению, программа не привела к тем результатам, на которые рассчитывали её инициаторы. Так, на 1 января 2010 г. по этой программе переселено в Россию 16,3 тыс. человек, что в миграционном сальдо за это же время (2007-2009 гг.) составляет 2,2%. Свыше 0,7 млн человек вселились в это трехлетие самостоятельно. Более того, наиболее приоритетным предполагалось переселение соотечественников в приграничные районы Дальнего Востока. Однако, в Амурскую область, Приморский и Хабаровский края в эти годы был переселен всего 291 человек.
Причин провала Программы, иначе нельзя назвать, несколько. Прежде всего, её принятие опоздало на 10-15 лет. В 90-е гг., особенно их первой половине, окажи Россия радужный прием своим брошенным в новом зарубежье соотечественникам, и тогда сегодня такой проблемы не стояло бы. Другая причина, ахиллесова пята Программы, это – обеспечение жильем переселенцев. Без его получения в месте вселения, даже с отложенным сроком его приватизации, мало кто согласится все бросить в стране нынешнего проживания и поехать даже не туда, куда бы хотел, а в «никуда», часто незнакомую для переселенца местность. В условиях необеспеченности нормальным жильем местного населения, его предоставление переселенцам может создать массу социальных конфликтов (подобное имело место в советские годы, например, в сельскохозяйственном переселении в Забайкалье, в применении до 1960 г. северных льгот в Якутии и т.д.).
Третья причина состоит в самом составе переселенцев. До революции 1917 г. в переселения вовлекались «сильные» крестьянские семьи с тем, чтобы они сами могли обустраиваться на новых землях. Слабые (в данном случае – бедные) семьи к переселению не поощрялись. Собственно и ныне 240-250 тыс. человек (ежегодное миграционное сальдо) – это самостоятельные переселенцы, обходящиеся без помощи государства. Окажи им поддержку и их будет заметно больше.
Четвертая причина кроется в незаинтересованности местных властей в переселенцах. В дореволюционное время, как и в первые годы советской власти, все расходы на направляемых переселенцев покрывались из государственного бюджета. В нем специально выделялась статья на эти нужды. Эта мера стимулировала местные власти принимать переселенцев. И наконец, еще одна причина состоит в том, что Программа «работает» растопыренными пальцами, пытаясь охватить как можно больше субъектов РФ, вместо того, чтобы быть ориентированной только на переселения в наиболее важные в геополитическом отношении регионы России. Такими регионами являются приграничные территории Дальнего Востока и Забайкалья. Если бы весь поток переселенцев-соотечественников был направлен в 2007-2009 гг. Амурскую область, Приморский и Хабаровский края, то они получили бы мигрантов из нового зарубежья в 2-2,5 раза больше, чем было фактическое сальдо миграции.
Еще одним направлением привлечения мигрантов из нового зарубежья на постоянное жительство выступает отбор их среди живущих и работающих в России трудовых мигрантов. В 2008 г. число трудовых мигрантов, легально проживающих и работающих в России, достигло 2,5 млн человек. Согласно обследованию (5, с. 109), две трети мигрантов в середине первого десятилетия ХХI в. жили и работали в России более одного года, причем около 30% из общего числа – свыше 3-х лет. Это – люди, достаточно хорошо освоившие профессию, знакомы с менталитетом российского населения, знают или понимают общий для общения язык. Согласно обследованию, проведенному в 2002 г. той же Международной организацией по миграции (МОМ), 21,3% трудовых мигрантов проживали со своими семьями, еще 13,2% собирались перевести семьи в Россию (5, с. 158).
Тем же обследованием выявлено, что 28% трудовых мигрантов хотели бы остаться в России и получить её гражданство (5, с. 156). Социологическим обследованием, проведенном МОМ в 2006 г., установлено, что одна треть трудовых мигрантов хотела бы остаться в России на постоянное жительство и получить гражданство, и еще 22% ориентированы на длительное проживание (4, с. 149). Треть от численности только легальных трудовых мигрантов, желающих стать гражданами России, по данным для 2008 г., составит свыше 700 тыс. человек. А это примерно трехгодовое сальдо внешней миграции населения России. И проблема состоит не в том, какие создать условия для привлечения трудовых мигрантов, в данном случае из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, не в том, где их расселять (кстати, это могло бы оживить многие запущенные сельские регионы), а в том, прежде всего, чтобы принять в качестве одного из приоритетных направлений «вербовку» законопослушных, освоивших русский язык и владеющих нужными для экономики России профессиями, трудовых мигрантов, будущих её граждан.
Несомненно, имеются и другие направления пополнения населения России её будущими гражданами, такие как расширение контрактной системы привлечения лиц молодых трудоспособных возрастов для работы в силовых структурах, учебных заведениях и т.д. Это направление будет успешным, если будут сняты всякие проволочки в предоставлении гражданства тем, кто на опреде- ленных условиях готов сам вместе со своими близкими пополнить население России. Если России нужны молодые здоровые мужчины, несущие службу в её вооруженных силах по контракту, то почему они должны ждать 3 года, чтобы получить гражданство (это касается и их близких)? То же можно сказать и относительно желаний выпускников высших учебных заведений, выходцев из стран нового зарубежья остаться в России на постоянное жительство. Если в тех и других нуждается Россия, то, причем тут те правовые нормы, которые принимались без учета национальных интересов страны и которые давно необходимо пересмотреть.
-
1. Рыбаковский Л.Л., Кожевникова Н.И. Оценка возможных и необходимых масштабов привлечения иммигрантов в Россию. – М.: «Экон-информ». – 2010.
-
2. Так нужны или не нужны России мигранты? // Миграция. ХХI век. Информ.-аналит. журнал. – 2010, № 2.
-
3. Бжезинский Збигнев. ВЫБОР. Мировое господство или глобальное лидерство. М. – 2004.
-
4. Проблемы незаконной миграции в России. Реалии и поиск решений. – М. – 2004.
-
5. Тюрюканова Е.В. Трудовые мигранты в Москве: «второе» общество // Иммигранты в Москве. Под ред. Ж.А. Зайончковской. – М. – 2009.
Список литературы Миграционная политика в контексте национальных интересов России
- Рыбаковский Л.Л., Кожевникова Н.И. Оценка возможных и необходимых масштабов привлечения иммигрантов в Россию. - М.: «Экон-информ». - 2010. EDN: QUNVJF
- Так нужны или не нужны России мигранты? // Миграция. ХХI век. Информ.-аналит. журнал. - 2010, № 2.
- Бжезинский Збигнев. ВЫБОР. Мировое господство или глобальное лидерство. М. - 2004.
- Проблемы незаконной миграции в России. Реалии и поиск решений. - М. - 2004.
- Тюрюканова Е.В. Трудовые мигранты в Москве: «второе» общество // Иммигранты в Москве. Под ред. Ж.А. Зайончковской. - М. - 2009.