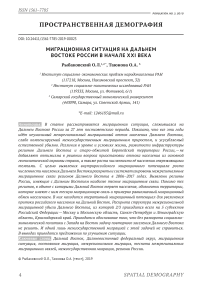Миграционная ситуация на Дальнем Востоке России в начале XXI века
Автор: Рыбаковский Олег Леонидович, Таюнова Ольга Александровна
Журнал: Народонаселение @narodonaselenie
Рубрика: Пространственная демография
Статья в выпуске: 3 т.22, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается миграционная ситуация, сложившаяся на Дальнем Востоке России за 27 лет постсоветского периода. Показано, что все эти годы идёт неумолимый межрегиональный миграционный отток населения Дальнего Востока, слабо компенсируемый межгосударственным миграционным приростом, и усугубляемый естественной убылью. Различия в уровне и условиях жизни, развитости инфраструктуры регионов Дальнего Востока и старо-обжитой Европейской территории России,- не добавляют оптимизма в решении вопроса приостановки оттока населения из основной геополитической окраины страны, а также роста численности её населения опережающими темпами. С целью выявления внутрироссийского миграционного потенциала роста численности населения Дальнего Востока раскрыты и систематизированы межрегиональные миграционные связи регионов Дальнего Востока в 2006-2017 годах. Выявлены регионы России, имеющие с Дальним Востоком наиболее тесные миграционные связи. Помимо тех регионов, в обмене с которыми Дальний Восток теряет население, обозначены территории, которые имеют с ним тесную миграционную связь и примерно равнозначный миграционный обмен населением. В них находится оперативный миграционный потенциал для увеличения притока российского населения на Дальний Восток. Раскрыта структура межрегиональной миграционной убыли Дальнего Востока, из которой 2/3 приходится всего на 5 субъектов Российской Федерации - Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Краснодарский край. Приводится обоснование того, что без разворота социально- экономической политики с Запада на Восток задачу повторного заселения Дальнего Востока не решить. И одной лишь межгосударственной миграцией с этой задачей не справиться. В выводах приводятся предложения по улучшению ситуации.
Дальний восток, дальневосточный федеральный округ, миграционная ситуация, постоянная миграция, теснота межрегиональных миграционных связей, межгосударственная миграция, регионы России, межрегиональная миграция
Короткий адрес: https://sciup.org/143173492
IDR: 143173492 | DOI: 10.24411/1561-7785-2019-00023
Текст научной статьи Миграционная ситуация на Дальнем Востоке России в начале XXI века
Источник: Данные Росстата. [Электронный ресурс] — Режим доступа:
В относительном выражении демогра‑ фическая динамика была хуже лишь на Европейском Севере России (без Респу‑ блики Карелия и Вологодской области). В сравнение с началом 1992 г. численность населения последнего сократилась к нача‑ лу 2019 г. до 69%, в то время как население Дальнего Востока за тот же период сокра‑ тилось лишь до 75%. Примерно 1/5 от об‑ щей убыли населения в обоих макрореги‑ онах составила естественная убыль, 4/5 — миграционная убыль. Последняя шла пре‑ имущественно в другие регионы России. Миграционный прирост из‑за рубежа за 25 лет (1993–2017 гг.) был незначительным. Он компенсировал межрегиональную ми‑ грационную убыль Дальнего Востока на 10%, Европейского Севера — всего на 5%. Основным фактором худшей миграци‑ онной ситуации на Европейском Севере была и остается его относительная бли‑ зость к основным миграционным реципи‑ ентам России.
Три региона Восточной Сибири, входя‑ щие в ДФО (на начало 2019 г.), в целом уси‑ ливают негативность миграционной си‑ туации в макрорегионе, но смягчают его демографическую ситуацию. Увеличива‑ ются абсолютные показатели общей и ми‑ грационной убыли, снижается итоговая интенсивность миграционного прироста из‑за рубежа и компенсация этим при‑ ростом межрегиональной миграционной убыли (в 1993–2017 гг. 8%). Но при этом темпы сокращения населения ДФО в срав‑ нение с ДВ становятся более медленные. В сравнение с началом 1992 г. числен‑ ность населения ДФО сократилась к нача‑ лу 2019 г. до 79%. В отличие от ДВ, в про‑ чей части ДФО в 1992–2018 гг. имел место (суммарно) естественный прирост населе‑ ния (203 тыс. человек). Его обеспечили ре‑ спублики Бурятия и Саха (Якутия).
Любой последующий более деталь‑ ный анализ миграционной ситуации на Дальнем Востоке и в ДФО, как, впрочем, и во всей стране наталкивается на неко‑ торые трудности, преодоление которых возможно лишь переходом к относитель‑ ным показателям с укрупнением периода анализа.
Период, по которому представлена офи‑ циальная текущая статистика миграции населения в региональном разрезе, делит‑ ся на две части — по 2010 г. и с 2011 года. В 1992–2010 гг. Росстатом после проведе‑ ния двух переписей населения как мини‑ мум дважды откорректированы: числен‑ ность постоянного населения на нача‑ ло каждого года и, как следствие, общий прирост населения и итоговый (внешний для регионов) миграционный прирост.
Для того чтобы не делать более детальные пересчеты, которые в общем‑то лишены смысла, итоговую скорректированную ре‑ гиональную информацию по миграции до 2011 г. Росстат просто убрал из своей базы данных [1]. Вследствие этого вся текущая миграционная информация до 2011 г., взятая из ежегодных отчётов Росстата, от‑ личается итогами от актуальной расчет‑ ной откорректированной информации ор‑ ганов официальной статистики России.
О том, каковы масштабы этой корректи‑ ровки, уже неоднократно писалось в науч‑ ной литературе [2; 3; 4]. Напомним лишь, что итоговые для России поправки после двух переписей населения составили поч‑ ти плюс 3 млн. человек. Для всех регионов абсолютные отклонения переписного учё‑ та от текущего учета в сумме составили 9,5 млн. человек. Одни регионы добави‑ ли к текущему учету в сумме 6,5 млн. че‑ ловек, другие потеряли в сумме 3,5 млн. человек. Все эти переписные поправки были списаны на внешнюю для регионов миграцию (без детализации) и разнесены примерно пропорционально на межпере‑ писные периоды. К примеру, Московский регион (Москва и Московская область) по двум переписям населения добавил около трех миллионов человек. Дальний Восток, напротив, потерял около 400 тыс. человек (ДФО — свыше 500 тыс. человек). Три ре‑ гиона Европейского Севера потеряли око‑ ло 300 тыс. человек. Казалось бы, по двум переписям были выявлены логичные по‑ правки: в регионах — миграционных доно‑ рах населения недосчитали, и, наоборот, в регионах — миграционных реципиентах учли дополнительно как раз тех, кого не‑ досчитали в донорах. Остается открытым лишь один вопрос — откуда появились до‑ полнительные 3 млн. человек постоянного населения в масштабах всей страны?
Во втором периоде после 2010 г.— дру‑ гая проблема. С 2011 г. в учёт постоян‑ ной миграции попадают временные им‑ мигранты, зарегистрированные по ме‑ сту пребывания более 9 месяцев. Ежегод‑ ный миграционный оборот постоянной миграции населения регионов РФ вырос в 2011–2017 гг. сравнение с предшествую‑ щим десятилетием в 3 раза, миграцион‑ ный прирост — в 2 раза (по данным теку‑ щего учета). При этом выросла волатиль‑ ность и ненадежность сальдо межгосудар‑ ственной миграции регионов. Достаточно привести один пример: сальдо межгосу‑ дарственной миграции Санкт‑Петербур‑ га составляло в 2001–2010 гг. в среднем плюс 2,5 тыс. человек в год, в 2013 г.— плюс 37 тыс., в 2015 г.— минус 26 тыс., в 2017 г.— плюс 18 тыс. человек.
Вследствие данных обстоятельств за‑ труднительно корректно увязывать лю‑ бое незначительное улучшение миграци‑ онной ситуации на Дальнем Востоке (и в ДФО) после 2011 г. с проводимыми вла‑ стью мероприятиями. При всех нововве‑ дениях и статистических манипуляци‑ ях, как и без них, миграционная ситуа‑ ция в макрорегионе остаётся удручаю‑ щей. Так, внешняя для регионов Дальнего Востока ежегодная миграционная убыль в 2011–2018 гг. составила 16 тыс. человек в год. В 2001–2010 гг. с учётом переписных корректировок Росстата она была равна 32 тыс. человек в год, то есть произошло позитивное для макрорегиона снижение убыли в два раза. Но без учёта переписных корректировок Росстата никакого сни‑ жения не было, так как по данным теку‑ щего учета в 2001–2010 гг. ежегодная ми‑ грационная убыль ДВ составляла 17 тыс. человек.
Аналогична ситуация и в ДФО — внеш‑ няя для регионов ежегодная миграци‑ онная убыль в 2011–2018 гг. была в сред‑ нем равна 33 тыс. человек. В 2001–2010 гг. с учётом переписных корректировок Рос‑ стата её уровень был 46 тыс. человек в год, то есть произошло позитивное снижение в 1,4 раза. Но по данным текущего уче‑ та в 2001–2010 гг. ежегодная миграцион‑ ная убыль ДФО составляла 31 тыс. чело‑ век в год, то есть миграционная ситуация лучше не стала.
И всё это происходило в условиях вве‑ дения нового порядка учета постоянных иммигрантов (2011 г.) и на фоне имми‑ грационного всплеска, вызванного, в том числе, украинскими политическими со‑ бытиями конца 2013 — начала 2014 годов. Ежегодный миграционный прирост на‑ селения РФ в 2011–2018 гг. в сравнение с 2001–2010 гг. (по данным текущего уче‑ та) вырос почти в два раза, со 135 тыс. до 253 тыс. человек в год. Хотя с учётом пе‑ реписных корректировок Росстата даже произошло его снижение с 298 тыс. чело‑ век в год.
Вследствие воздействия тех же фак‑ торов в новом десятилетии в сравнение с предшествующим наблюдается увели‑ чение ежегодного межгосударственного миграционного прироста населения ре‑ гионов ДВ и ДФО (такие данные имеются лишь в текущем учёте миграции и пока лишь по 2017 год). Ежегодный межгосу‑ дарственный миграционный прирост на‑ селения регионов ДВ в 2011–2017 гг. в срав‑ нение с 2001–2010 гг. вырос в 5 раз, с 2 тыс. до 10 тыс. человек в год. По регионам ДФО аналогичный рост составил почти 4 раза, с 3 тыс. до 11 тыс. человек в год.
При этом в текущем десятилетии в сравнение с предшествующим наблю‑ дается увеличение ежегодной межреги‑ ональной миграционной убыли населе‑ ния регионов ДВ и ДФО (данные текущего учёта по 2017 год). Эта убыль в ДВ в 2011– 2017 гг. в сравнение с 2001–2010 гг. вырос‑ ла на % с 19 тыс. до 25 тыс. человек в год. По регионам ДФО произошел аналогич‑ ный рост на % с 34 тыс. до 44 тыс. человек в год. Межрегиональная миграцион‑ ная убыль населения регионов ДВ и ДФО превышала межгосударственный мигра‑ ционный прирост населения регионов ДВ и ДФО в 2001–2010 гг. в 10 и 13 раз со‑ ответственно, в 2011–2017 гг.— в 3 и 4 раза соответственно.
Эти видимые позитивные сдвиги про‑ исходят не только вследствие изменения порядка учета и украинского миграци‑ онного всплеска. Они происходят также вследствие сокращения объемов выбытий с ДВ и уменьшения его миграционного по‑ тенциала, то есть численности оставше‑ гося населения, а также его частей — мо‑ бильного населения «неместного проис‑ хождения», способного и имеющего воз‑ можность уехать, и населения «местного происхождения», мобильность которого вследствие избирательных региональных льгот сокращается [5].
Для выявления возможных внутрен‑ них для России резервов улучшения ми‑ грационной ситуации на Дальнем Востоке необходимо рассмотреть миграционные связи его регионов с другими территори‑ ями России и выявить среди них тесных миграционных партнеров. Такие регио‑ ны являются потенциальными миграци‑ онными донорами для Дальнего Востока. Если опережающими темпами поднимать уровень жизни населения ДВ, развивать его инфраструктуру, создавать предпри‑ ятия с высокооплачиваемыми рабочи‑ ми местами, то в макрорегион потянут‑ ся люди. И перестанут уезжать дальнево‑ сточники. Есть в России успешный при‑ мер развития, например, Тюменская об‑ ласть. Но ведь не только с нефтью и газом можно зарабатывать и жить достойно. Ря‑ дом за рубежом живут и процветают наро‑ ды в странах Юго‑Восточной Азии, и мно‑ гие из них не имеют таких запасов полез‑ ных ископаемых, как даже отдельные ре‑ гионы России.
Для выявления тесных миграционных партнеров регионов ДВ воспользуемся так называемыми коэффициентами тесноты межрегиональных миграционных связей (КТМС). В настоящее время в отечествен‑ ной, да и в мировой науке предложено два вида таких показателей: коэффициенты интенсивности межрегиональных мигра‑ ционных связей — КИМС [6] и миграцион‑ ные индексы пространственные структу‑ ры — МИПС [7].
Методика их построения схожа: ме‑ жрегиональные коэффициенты интен‑ сивности миграций (выбытий, прибытий или оборота) по отдельным направлени‑ ям (например, между Амурской и Брян‑ ской областями) сравниваются в относи‑ тельной форме, в первом случае — с ито‑ говыми для регионов коэффициентами интенсивности аналогичных миграций. Во втором случае они сравниваются с те‑ оретическими значениями межрегио‑ нальных коэффициентов интенсивности миграций. Последние рассчитываются по принципу: во всем массиве межрегио‑ нальных миграций не должно быть ника‑ ких предпочтений по интенсивности ми‑ грации с учетом различий итоговых ин‑ дикаторов по регионам [7].
Оба вида КТМС дают примерно схожую картину миграционных предпочтений в межрегиональном обмене населением. Чем выше значение КТМС того или иного межрегионального направления, тем тес‑ нота миграционных связей между двумя регионами выше, и наоборот, чем коэффи‑ циенты ближе к нулю, тем миграционные связи слабее. Ориентиром для сравнения этих показателей может являться как ито‑ говая по массиву величина, равная еди‑ нице, так и медианное значение данного показателя по массиву, которое обычно в 1,5–2 раза ниже единицы.
Любые два зеркально симметричных межрегиональных направления, напри‑ мер, Амурская область — Брянская область и Брянская область — Амурская область, имеют примерно равные значения КТМС оборота. Между Амурской областью и Брян‑ ской областью он в 2006‑2017 гг. был равен 0,56 раз, между Брянской и Амурской — 0,55 раз. Поэтому, если такие значения между собой примерно равны, можно в интерпре‑ тации использовать не межрегиональные направления, а пары регионов.
В данной работе воспользуемся пока‑ зателями МИПС, рассчитанными по ми‑ грационному обороту между 82‑мя реги‑ онами России2 суммарно за 12 лет с 2006 по 2017 год. В массиве из 82 регионов 6642 межрегиональных направления, или 3321 пара регионов. Восемь регионов Дальне‑ го Востока входят в 648 межрегиональных направлений, или составляют 224 пары регионов, в том числе 56 межрегиональ‑ ных направлений (28 пар) — между собой.
Во всём массиве межрегиональных ми‑ грационных связей России максималь‑ ную тесноту со значениями МИПС от 40 до 7 раз регионы ДВ имеют между собой (первые 20 межрегиональных направле‑ ний, или 10 пар регионов). Это миграци‑ онные связи между парами: Хабаровский край с Еврейской автономной областью (40,0), с Амурской областью (16,2), с При‑ морским краем (14,9), с Сахалинской обла‑ стью (11,4); Приморский край с Сахалин‑ ской областью (10,2), с Камчатским краем (9,4), с Амурской областью (8,6), с Еврей‑ ской автономной областью (7,3); Амур‑ ская область с Еврейской автономной об‑ ластью (15,5). Магаданская область и Чу‑ котский автономный округ имеют между собой максимальную для данных регио‑ нов тесноту миграционных связей со зна‑ чением МИПС 10,0 раз. Это не удивитель‑ но — в недавнем прошлом они составляли единый регион, также как и Хабаровский край с Еврейской автономной областью.
За 12 лет (2006–2017 гг.) около 13% от всех межрегиональный выбытий из регио‑ нов ДВ шло в другие дальневосточные ре‑ гионы. В миграционном обмене с прочи‑ ми регионами России территории ДВ (кро‑ ме Чукотского автономного округа) были тесно связаны, прежде всего, с остальной частью ДФО. С Республикой Саха (Яку‑ тия) тесно связаны пять территорий, кро‑ ме Сахалинской и Камчатской области (МИПС 1,8–5,2); с Забайкальским краем — 6 территорий, кроме Камчатской области (МИПС 1,4–6,6). С Республикой Бурятия тесно связаны семь территорий макроре‑ гиона (МИПС 1,3–1,9). С Восточно‑Сибир‑ скими регионами ДФО территории Даль‑ него Востока за рассматриваемый пери‑ од имели незначительное положитель‑ ное сальдо межрегиональной миграции (14 тыс. человек за 12 лет). С другими тер‑ риториями России сальдо было либо отри‑ цательным, либо близким к нулю.
Территории России, с которыми наибо‑ лее тесно связаны регионы Дальнего Вос‑ тока (помимо ДФО) и в которые шла ме‑ жрегиональная убыль его населения мож‑ но разделить на три основных группы. Первая группа — южные равнинные ре‑ гионы Европейской России и Централь‑ но‑Чернозёмного экономического рай‑ она,— Краснодарский край, Ростовская, Белгородская и Воронежская области. Вторая группа — столичные регионы и Ка‑ лининградская область. Третья — Новоси‑ бирская область. Значения МИПС регио‑ нов ДВ с территориями первой и третьей группы находятся в диапазоне от 0,9 до 5,2 раз. Со столичными регионами МИПС ниже — 0,5–1,8 раз, так как они являют‑ ся центрами миграционного притяжения для всей страны, и уровни данных показа‑ телей достаточны для того, чтобы считать миграционные связи если не тесными, то ощутимыми.
Абсолютные потери регионов ДВ в ме‑ жрегиональном обмене населением в 2006–2017 гг. (по данным текущего уче‑ та) составили 263 тыс. человек. Из них в Краснодарский край — 58 тыс. человек, в город Москву и Московскую область — 60 тыс. человек, в город Санкт‑Петербург и Ленинградскую область — 50 тыс. че‑ ловек. В сумме это 168 тыс. человек или 2/3 от всех межрегиональных потерь ДВ. В Белгородскую область межрегиональная убыль ДВ составила 13 тыс. человек, Ро‑ стовскую и Калининградскую — по 9 тыс. человек, Новосибирскую — 8 тыс. человек, Воронежскую — 6 тыс. человек. Совокуп‑ но эти десять регионов приняли за 12 лет свыше 80% от межрегиональной миграци‑ онной убыли Дальнего Востока.
Прочие территории России, с которыми наиболее тесно связаны дальневосточные регионы, но межрегиональной обмен на‑ селением с которыми в целом равноцен‑ ный (сальдо близко к нулю) — это сибир‑ ские Иркутская область, Омская область, Алтайский край, Республика Алтай, а так‑ же приволжская Чувашская Республика. Данные регионы при заметном (и опере‑ жающем их) улучшении социально‑эко‑ номической ситуации на Дальнем Востоке (как и при аналогичном ухудшение ситуа‑ ции в них) могут стать такими же мигра‑ ционными донорами макрорегиона, как Восточно‑Сибирские регионы ДФО.
Самые слабые миграционные связи
Дальний Восток имеет, во‑первых, с реги‑ онами Европейского Севера, включая Ре‑ спублику Карелия и Вологодскую область (МИПС 0,03–0,19); во‑вторых, с двумя ав‑ тономиями Тюменской области (0,03– 0,12); в‑третьих, с республиками Северно‑ го Кавказа. Два исключения составляют следующие пары. Магаданская область — Республика Ингушетия (МИПС 3,5) — тес‑ ная связь образовалась и сохраняется со времен сталинских переселений народов Северного Кавказа. Редкий пример транс‑ формации пенитенциарных переселений в экономически мотивированную мигра‑ цию. Приморский край — Мурманская об‑ ласть — связь умеренная (МИПС 0,4). Ска‑ зывается схожая основная «морская и пор‑ товая специализация». Связь не такая од‑ нонаправленная и тесная как Приморско‑ го края или Камчатской области с Кали‑ нинградской областью, но имеет место.
Все прочие регионы России имеют с ДВ умеренную миграционную связь. Их ме‑ сто в векторах миграционных потоков России определяется близостью/удален‑ ностью от Дальнего Востока либо от основ‑ ных миграционных реципиентов страны. Так, регионы окружающие Московскую либо Ленинградскую области, также «уча‑ ствуют в приеме» миграционной убыли населения Дальнего Востока, но не в таких масштабах, как сами столичные регионы. В этом есть особенность оттока населения с Дальнего Востока, так как для большин‑ ства других регионов страны переселение в столицы либо в окружающие их Москов‑ скую и Ленинградскую области «не по кар‑ ману». И для переселения они выбирают окружающие, менее дорогие по прожива‑ нию, но близкие к крупнейшим мегаполи‑ сам области. Второй особенностью пере‑ селения с ДВ является тяга покидающего его населения к южным регионам России с более благоприятным климатом и, не считая Краснодарского края, достаточно недорогой стоимостью проживания.
Выводы. В ближайшее время карди‑ нальное изменение миграционной ситу‑ ации на Дальнем Востоке (и в ДФО) вряд ли случится. До тех пор пока оттуда бу‑ дет идти активная межрегиональная ми‑ грационная убыль населения, никакой межгосударственный прирост её не пе‑ рекроет. Да это и не решение задачи по‑ вторного заселения Дальнего Востока. Его необходимо заселять, прежде всего, рос‑ сиянами. А их ДВ как раз и теряет в зна‑ чительно большем объеме, чем получает иммигрантов.
Основной внутрироссийский миграци‑ онный потенциал пополнения численно‑ сти населения Дальнего Востока находит‑ ся в Южной и Восточной Сибири, а также в отдельных регионах Приволжья. В бли‑ жайшее время надеяться на то, что на Дальний Восток поедут из областей Евро‑ пейской России, как это было в прошлом веке, можно, помимо прочего, в том слу‑ чае, если прекратится пагубная практи‑ ка расширения крупнейших мегаполисов России в ущерб населению остальной ча‑ сти страны.
Что касается иммиграционного по‑ тенциала, то в XIX–XX вв. Дальний Вос‑ ток активно заселялся не только русскими и другими коренными народами России, но и украинцами и белорусами. Вслед‑ ствие чего, по нашему мнению, те льго‑ ты, которые предоставляются на Даль‑ нем Востоке соотечественникам, долж‑ ны быть, во‑первых, распространены на украинских переселенцев в Россию — им необходимо предлагать переселять‑ ся на Дальний Восток, включая при этом в «Государственную программу по оказа‑ нию содействия добровольному пересе‑ лению в Российскую Федерацию соотече‑ ственников, проживающих за рубежом». Во‑вторых, льготы переселенцам на ДВ необходимо кардинально увеличить — по‑ лучение переселенцами жилья (постоян‑ ного с правом выкупа, временного и т.п.) и механизмы его оплаты сделать реально выполнимой для них задачей, а не камнем преткновения.
Необходимо все программы по стиму‑ лированию рождаемости населения Рос‑ сии регионально дифференцировать, вы‑ делить в них геополитически значимые регионы, в том числе Дальнего Восто‑ ка, для которых в рамках этих программ должны будут действовать дополнитель‑ ные федеральные льготы (как это было в СССР в самом начале 1980‑х годов). Пере‑ населенные же регионы России необходи‑ мо, по нашему мнению, напротив, лишить части федеральных льгот, перенаправив высвобожденные средства в геополитиче‑ ски значимые регионы страны.
Список литературы Миграционная ситуация на Дальнем Востоке России в начале XXI века
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат): Центральная база статистических данных (ЦБСД) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://cbsd.gks.ru
- Чудиновских О. С. Статистика приобретения гражданства как отражение особенностей миграционной политики России // Вопросы статистики. - 2018. - Т. 25. - № 9. - С. 3-26.
- Миграционные процессы в России // Под ред. В. В. Локосова и Л. Л. Рыбаковского. - М: Экон-информ, 2014.-383 с.
- Рыбаковский О. Л., Таюнова О. А. Реализация концепции демографической политики России в области постоянной миграции населения // Социологические исследования. - 2016. - № 6. - С. 34-41.
- Рыбаковский Л. Л., Савинков В. И., Кожевникова Н. И. Демографическое развитие азиатской России в XX-XXI веках: оценка результатов // Социологические исследования.- 2018. - № 11. - C. 64-74.
- Рыбаковский Л. Л. Проблемы формирования народонаселения Дальнего Востока. АН СССР. Сибирское отделение. Хабаровский комплексный НИИ. - Хабаровск, 1969. - 200 с.
- Рыбаковский О. Л. Миграции населения между регионами: проблемы методологии и методики анализа. - М: Экон-Информ, 2008. - 287 с.