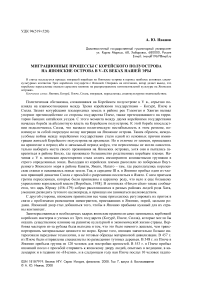Миграционные процессы с Корейского полуострова на Японские острова в V-IX веках нашей эры
Автор: Иванов Александр Юрьевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.7, 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется процесс миграций корейцев на Японские острова в период наиболее активных социокультурных контактов Трех корейских государств с Японией. Опираясь на источники, автор делает вывод, что корейские переселенцы оказали серьезное влияние на распространение континентальной культуры на Японских островах.
Япония, когурё, пэкче, силла, миграция, переселенцы, социокультурное взаимодействие
Короткий адрес: https://sciup.org/14736999
IDR: 14736999 | УДК: 94(519+520)
Текст научной статьи Миграционные процессы с Корейского полуострова на Японские острова в V-IX веках нашей эры
Политическая обстановка, сложившаяся на Корейском полуострове к V в., серьезно повлияла на взаимоотношения между Тремя корейскими государствами – Когурё, Пэкче и Силла. Захват когурёсцами плодородных земель в районе рек Тэдонган и Ханган вызвал упорное противодействие со стороны государства Пэкче, также претендовавшего на территории бывших китайских уездов. С этого момента между двумя корейскими государствами началась борьба за абсолютную власть на Корейском полуострове. К этой борьбе впоследствии подключилось Силла, что вызвало политическую нестабильность в этом регионе, повлекшую за собой очередную волну миграции на Японские острова. Таким образом, междоусобные войны между корейскими государствами стали одной из основных причин иммиграции жителей Корейского полуострова на архипелаг. Но в отличие от племен, пришедших на архипелаг в период яёи и начальный период кофун, эти переселенцы не могли самостоятельно выбирать места своего проживания на Японских островах, хотя они и пытались закрепиться в районе Кюсю, где проживало большинство родственных корейцам племен. Начиная с V в. японская аристократия стала селить иммигрантов компактными группами в строго определенных зонах. Выходцев из корейских племен расселяли по побережью Внутреннего Японского моря в районе Кавати, Ямато, Нагато – там, где располагались королевские ставки и осваивались новые земли. Так, в середине III в. в Японию прибыл один из членов правящей династии Силла с просьбой о разрешении поселиться в Ямато. С ним приехала группа переселенцев, которые были приписаны к царскому роду, что вело к еще большему укреплению королевской власти [Воробьев, 1958]. В летописях «Нихон сёки» также сообщается, что царь Юряку (456–479) cобрал расселившихся в разных районах людей рода Хата, умевших разводить тутового шелкопряда, и приказал им заниматься шелководством.
С другой стороны, японским правителям все чаще приходилось регулировать их приток в связи с проблемами размещения иммигрантов, приезжавших в Японию, порой, целыми родами. Японский двор стал добиваться того, чтобы в Японию прибывал нужный для их страны контингент.
Заинтересованные в необходимых кадрах японские правители сами занимались вербовкой корейских мастеров и ученых из Трех государств (Когурё, Пэкче, Силла), которые могли бы оказать существенное влияние на развитие культурной и экономической жизни страны. Вербовка мастеров из-за рубежа была выгодна и тем, что это было намного дешевле, чем транспортировать материальные ценности по морю. Кроме того, японцев значительно больше интересовали передовые технологии, а не готовые образцы материковой цивилизации. В 457 г. из Пэкче были отправлены специалисты по разведению тутовых деревьев. В 548 г. из Пэкче в Японию прибыла группа из 120 человек для постройки крепостей. В 553 г. в Пэкче прибыл японский посол с просьбой отправить к японскому двору людей, опытных в медицине, в календарях и в гадании по «И-цзин», и в следующем году ван Пэкче послал 10 человек гадате-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2008. Том 7, выпуск 4: Востоковедение © А. Ю. Иванов, 2008
лей, составителей календарей, врачей, фармацевтов, музыкантов [Нихонсёки, 1997. Т. 2, св. 19. С. 54–55]. В 577 г. из Пэкче приехала большая группа каменщиков и скульпторов для строительства буддийских храмов, а также корабельщиков [Там же. Св. 20. С. 73], а в 588 г. в Японию прибыли пэкческие ремесленники: каменщики, строители, литейщики, красильщики, мастера по изготовлению черепицы и строительству дорог [Там же. Св. 21. С. 87]. Многие из корейских мастеров участвовали в строительстве города Асука, который с 593 г. стал столицей Ямато [Толстогузов, 1991. С. 74–75]. Существует предположение, что название Асука, где проживало много корейских переселенцев, происходит от корейского слова «Ан-сук» ( 安宿 «место, спокойное для проживания»), которое впоследствии трансформировалось в японское «асука» 飛鳥 и дало название древней японской культуре. Отмечается, что на данный момент в районе Асука (район соврем. г. Нара) культурных памятников, относящихся к пэкческому государству, больше, чем в самой Корее.
В отличие от пэкчесцев и силласцев, жители Когурё V–VI вв. переселялись в Японию в меньшей степени. Это было связано с географическим положением Когурё, находившимся на севере Корейского полуострова и потому не представлявшим для японской дипломатии существенного интереса, направленного, прежде всего, на южно-корейские государства Пэк-че и Силла. Тем не менее в летописях «Нихонсёки» существует немало сведений о переселении когурёсцев в Японию. В частности, там есть сообщение, что в 565 г. переселившихся в Японию из Когурё людей разместили в Ямасиро [Нихонсёки, 1997. Т. 2, св. 19. С. 66].
Испытывавшие нехватку квалифицированных мастеров, правители Японии делали набеги на Корейский полуостров, откуда массами уводили население и затем заставляли работать на себя [Конрад, 1974. С. 3]. Так, в «Нихонсёки» сообщается, что в 345 г. император Тюай предпринял поход против Силла, захватил много пленных силласцев, которые основали в Центральной Японии 4 поселения кузнецов [Нихонсёки, 1997. Т. 1, св. 9. С. 276]. Интересно, что в древних летописях не зафиксировано ни одного факта, где бы отмечалось, что японцы насильно захватывали и уводили в Японию людей из государства Пэкче. Более того, пэкче-ские правители нередко передавали в дар японскому императору захваченных в плен людей из соседних государств. Например, в 550 г. пэкческий ван передал в дар японцам пленных когурёсцев-рабов [Там же. Т. 2, св. 20. С. 73].
Корейские переселенцы пользовались покровительством со стороны японской аристократии, благосклонно относившейся к ним, как к представителям народа, с которым ее объединяли родственные связи, и как к людям, обладавшим более высокой культурой и несшим с собой социальные нормы и порядки, существовавшие на их родине, вследствие чего корейцы занимали более высокий общественный статус, чем простые японцы. Пользуясь своим более высоким уровнем знаний и отсутствием в Японии строгих сословных барьеров, существовавших в корейских государствах, переселенцы могли повысить свой социальный статус до такого уровня, которого бы они не достигли в Корее, и попасть в элиту японского общества. Например, те, кто на родине был на положении раба, в Японии могли стать свободными людьми.
Попадая в более отсталую культурную среду, мигранты, невостребованные у себя на родине, начинают проявлять способность быстро подниматься по служебной лестнице и играть большую роль в общественно-политической и культурной жизни своей новой родины. Так, из четырех составителей «Сёку нихонги» («Продолжение Анналов Японии») двое являлись потомками переселенцев из Пэкче [Сакамото, 1970. С. 184]. В «Нихонсёки» также существует рассказ о том, как в 572 г. придворные историки, слывшие знатоками текстов, в течение трех суток читали послание, полученное императором Бидацу от вана Когурё, но так и не смогли перевести ничего вразумительного. И только один из недавно прибывших в Японию переселенцев – Ван Сини смог прочитать текст послания и объяснить его, за что он был награжден и получил высокий пост при дворе императора, а писарям «Востока и Запада» (т. е. провинций Ямато и Кавати) было сделано внушение [Нихонсёки, 1997. Т. 2, св. 20. С. 69].
В конце V в., когда Ямато стало активно включаться в межгосударственные отношения с соседними странами, на Японские острова из Пэкче перебрался род Фунэ, который сделал большой вклад в развитие финансовой системы и каллиграфии в Японии. В период правления правительницы Ямато – Суйко (592–628) в стране насчитывалось уже 28 родовых кла- нов, которым официально было предписано работать с письменными документами и материальными памятниками, и большинство этих кланов включало в себя переселенцев с Корейского полуострова. Самыми известными из них были кланы с общей фамилией фуми-но хи-то (семь семей потомков пэкчесца Ванина), адзики-но фумихито (две семьи прямых потомков пэкчесца А Джик Ки), ая-но атаэ и фунэ-но хито (29 и 11 семей прямых потомков других корейских переселенцев соответственно) [Прасол, 1994. С. 71].
Давление иммигрантов, обладавших большими знаниями, было столь значительным, что японской родоплеменной аристократии, не выдержавшей конкуренцию в борьбе за высшие посты в правительстве, приходилось изыскивать возможности сохранения своих позиций только в защите сакрального генеалогического дерева [Мещеряков, 1987. С. 50]. О растущем политическом могуществе иммиграции свидетельствует стремительное восхождение к власти клана Сога. Родоначальник клана Сога – Сога Манчи ( 蘇我滿智 ) (кор. Монни Манчхи 木 滿致 букв. «посланный через залив» 1 ), прибыл в Японию из Пэкче в 475 г. во время смут в Корее [Кожевников, 1998. С. 142]. Постепенно в период правления Кэйтая (507–531) вся семья Сога Манчи перебралась в Японию. В Японии у Сога Манчи родился сын – Сога Карако (букв. «корейский ребенок»), который после смерти Кэйтая включился в борьбу кланом местного происхождения – Отомо. Будучи не включенными в традиционную структуру родоплеменной аристократии Японии, Сога добились успехов в борьбе за власть лишь благодаря своей образованности, которую они приобрели во время проживания на Корейском полуострове. Именно умение читать, считать и писать дало роду Сога возможность занимать ведущее положение при дворе и управлении королевскими владениями, привлекая на свою сторону корейских переселенцев, в том числе потомков могущественных иммигрантов – Ати-но оми, Вани и Хата. Впоследствии потомок Сога Карако – Сога Инамэ получил один из самых высоких рангов – оми.
Ростом своего могущества род Сога во многом обязан пэкческим мигрантам, ставшими его основной опорой в приходе к власти. С другой стороны, Сога оказывали всемерную поддержку и покровительство корейским переселенцам, расселяя их в своих владениях и назначая на высокие посты. Так, Сога Инамэ назначил прибывшего из Кореи Ван Сини ответственным за ведение учета налога с кораблей [Нихонсёки, 1997. Т. 2, св. 19. С. 55]. Тесные отношения рода Сога и корейских переселенцев отчетливо выразились в том, что во время разгрома клана Сога в 645 г. только пэкческие мастеровые до конца остались верными своему покровителю. Один из потомков пэкчесца Сиба Дачито был даже похоронен в одной могиле с Сога Эмиси.
После гибели Пэкче многие выходцы из этого государства во главе с правящей верхушкой бежали на Японские острова. Основная масса высокопоставленных пэкчесцев, бежавших с Корейского полуострова, оседала в районе Нара – первой постоянной столице Японии. Например, в 665 г. в Канадзаки (ныне южная часть префектуры Сига) было расселено 400 пэкческих чиновников, а в 667 г. – 700 чиновников – в уезде Камоу близ Оми, куда император Тэндзи в 669 г. перенес свою столицу [Там же. Св. 27. С. 195–202]. 70 из них были назначены на высокие государственные посты. Так, Сатаку Дзёмо был назначен на должность, отвечающую за ротацию чиновничьих кадров, а Кисицу Сюси – на пост главы ведомства, отвечающего за образование и образовательные учреждения. После того, как в Нара поселились бежавшие с Корейского полуострова пэкчесцы, основу которых составляла аристократия, этот район стал приобретать цивилизованный вид. Вклад пэкческих беженцев, сосредоточившихся в районе Нара, несомненно, ускорил культурное развитие Японии в период Нара.
Само название – «Нара» (ранее – «Асука») появилось только вскоре после поселения в этом районе корейцев. Существует предположение, что название «Нара» происходит от корейского слова «нара» (나라 «страна») 2 . Тем самым корейцы отдавали дань своей стране, которую они потеряли, и надеялись приобрести ее на новой земле [Ким Хян Су, 1997. С. 528]. Существует также версия, что именно пэкческие переселенцы, бежавшие в Японию после гибели Пэкче и осевшие в Нара, дали современное название Японии - нихон или ниппон («страна восходящего солнца»), тем самым переставая отождествлять страну, которая дала им убежище от врага, с отсталым государством, когда корейцы презрительно именовали Японию - вэ (^, яп. Ямато). С тех пор, начиная с 670 г. 3, когда название «нихон» впервые появилось в одном из корейских документов, официальное название Японии стали записывать как 日本 [Пу Джи Ён, 1995. С 166–167].
Корейские переселенцы из Пэкче обосновывались не только в центре Японии, но и на периферии. Летописи «Нихонсёки» сообщают, что корейскими переселенцами в местах их поселений стали возводиться крепостные сооружения. Так, в 665 г., через пять лет после гибели Пэкче, бежавшие оттуда полководцы Окураи Фукуру (Оннё Понню) и Тхохои Сюнсо (Тап-пок Чхунчхо) стали руководить строительством горных крепостей Оно, Кии и Нагато. В 667 г. на о-ве Цусима была построена крепость Канада, в Ямато – крепость Такаясу, в Са-нуки – крепость Ясима. Через год в Нагато была сооружена еще одна крепость, в Цукуи – две крепости [Нихонсёки, 1997. Т. 2, св. 27. С. 196–198]. Еще более десяти крепостей (Райдзан, Какенома, Чояма, Хаки, Носёгатаки – в префектуре Фукуока, Оцубома, Обикумояма – в префектуре Сага, Кинодзё – в префектуре Окаяма, Кияма – в префектуре Кагава, Эино – в префектуре Эхимэ) не имеют точной датировки строительства. Крепости подобного типа строились в Корее и ранее не встречались ни в Китае, ни в других регионах Восточной Азии [Ким Даль Су, 1984. С. 272–273]. Эти крепости (в том числе и вышеперечисленные) относятся к «корейскому типу», так как они возводились в тесной зависимости от корейской природы и методов ведения боя корейцами. Обычно крепости корейского типа в период Трех государств строились на отдельной отвесной скале высотой 300–400 м, находящейся над речным ущельем. Крепостная стена, как правило, воздвигалась по гребню горы, а выход из ущелья перекрывался обычно шлюзом или той же крепостной стеной. Самим японцам такие сооружения до середины VII в. были не нужны, так как к этому времени они еще не обладали стратегией ведения боевых действий с использованием подобных крепостей [Ли Чжин Хи, 1984. С. 70–71], и поэтому крепостное строительство не требовало каких-либо особо развитых инженерных знаний. В древних летописях «Фудоки» сообщается о том, что местные жители рассказывали, как «люди из Кудара (Пэкче)» на месте уже вырытых укреплений стали строить укрепления «по-новому» [Древние фудоки, 1969. С. 100], т. е. в соответствии с традициями государства Пэкче. В «Харима фудоки» указывается, что в деревне Миякэ, находящейся близ одной из таких крепостей, проживают потомки пэкчесцев – Ясиро [Там же. С. 100].
Строительство крепостей корейскими поселенцами было вызвано опасением нападения союзной армии Силла и Тан, правители которых не скрывали своих захватнических планов в отношении Японии. Но, после гибели Когурё (668) между бывшими союзниками возникли серьезные противоречия из-за притязаний обоих государств на бывшие владения Пэкче и Когурё, и угроза вторжения на Японские острова внешних врагов отпала. Впоследствии, из-за отсутствия случаев использования этих крепостей по прямому назначению, они стали просто объектом компактного сосредоточения жителей, как правило, представителей Корейского полуострова [Ли Чжин Хи, 1984. С. 70–71].
После гибели государства Когурё в 668 г. основная масса когурёсцев была переселена Танской империей в районы нынешних провинций Ляонин и Цзилинь. Но часть когурёсцев, в том числе и представители королевского рода, бежали в Японию. В «Нихонсёки» говорится о том, что член королевского дома Когурё Ягван в 703 г. получил в Японии титул короля, а в 716 г. переселил в Мусаси проживавших в различных районах Японских островов 1 790 ко-гурёсцев и основал там уезд Кома [Пу Джи Ён, 1995. С. 206–207]. Поскольку переселение людей с севера Корейского полуострова в Японию по суше в конце VII – начале VIII вв. было затруднено из-за военного противоборства между Силла и Тан, когурёсцы, как правило, добирались до Японских островов на кораблях, способных перевозить порой несколько сот
3 М. В. Воробьев считает, что корейцы стали называть Японию «страной восходящего солнца» еще задолго до гибели Пэкче – в 620 г. [Воробьев, 1980. С. 118].
человек. Поскольку эти корабли были не столь надежны, чтобы пускаться в плавание в открытом море, когурёсцам приходилось передвигаться вдоль западного побережья Японского моря на север в сторону острова Хоккайдо, либо на юг – к острову Кюсю.
После гибели Пэкче и Когурё стала значительно расти доля незнатных родов с Корейского полуострова, получивших три высших ранга в чиновничьей системе Японии. Имевшие опыт управления в своих странах корейские иммигранты назначались на должности, которые позволяли им делать большой вклад в культурное и экономическое развитие Японии. Так, выходец из Пэкче Яманоуэ Окура, бежавший с Корейского полуострова в 668 г., в 680 г. был включен в состав посольства, отправлявшегося в Тан, а после возвращения из Китая Окура участвовал в составлении официальной исторической хроники «Нихонсёки». В 716 г. Окура стал управителем земли Хоки (совр. преф. Тоттори), а в 726 г. управителем земли Тикудзэн (совр. преф. Фукуока). Кроме того, Окура снискал себе известность как сочинитель танка и песен нагаута [Мещеряков, 1988. С. 59]. Ученый корейского происхождения Кисида Ёроси в 733 г. занимал должность начальника государственного департамента, задачей которого было копирование рукописей, привезенных с континента [Сэнсом, 1999. С. 148]. Успехов в своей карьере добились и военные чиновники из Кореи Конна Чинсу, Моксо Квиджа, Оннё Понню, Таппок Чхунчхо, сделавшие огромный вклад в сооружении фортификационных сооружений на Японских островах и получившие впоследствии высокий ранг дайсэн [Нихон-сёки, 1997. Т. 2, св. 27. С. 203].
Особое положение переселенцев в Японии не вызывало недоверие со стороны местного населения; отношения к ним определялись, скорее всего, их социальным происхождением, а не национальным [Ханин, 1973. С. 57], в силу того, что японская нация в этот период еще была в процессе своего формирования. Терпимое отношение к более поздним насельникам позволяло им принимать японское подданство, тем более, если они вносили существенный вклад в развитие образования, культуры и ремесла в Японии. Даже переселившиеся с Корейского полуострова крестьяне очень ценились из-за их более высокой техники ведения сельского хозяйства, чем у местных земледельцев. Ради повышения уровня шелководства в Японии правитель Юряку организовал в 472 г. расселение людей Хата по различным местам, чтобы они могли обучить большее количество крестьян шелководству [Нихонсёки, 1997. Т. 1, св. 14. С. 366].
Переселение большого количества корейских мигрантов на Японские острова повлекло за собой появление множества корейских топонимических названий в западной и центральной частях Японии. Название «Кара» (Корея), «Кома» (Когурё), «Кудара» (Пэкче), «Сиракуни» (Силла) 4 носят уезды, деревни, станции, перевалы, горы, мосты, буддийские и синтоистские храмы. Среди них такие, как Карамуро-сато («село с корейским амбаром»), Карани-сима («корейский остров»), Карахама («корейское побережье»), Карахито-но икэ («пруд корейских людей»), Сиракуни-яма («Гора, близ которой проживали люди из страны Силла»), Си-ракуни-мура («деревня переселенцев из Силла»), Комаэ , Комагава («корейская река»), Ко-мадзи («буддийский храм Когурё»).
Японцами был заимствован ряд номенклатурных терминов корейского происхождения, такие как «уезд», «деревня» и др. Многие японские ученые (Араи Хакусэки, Мотори Нори-нага, Канадзава Сёдзабуро) утверждают, что слово кохори 評 (совр. 郡 кори) было заимствовано из древнекорейского языка, где ко-роч означало «большая деревня». Название кохори, которое до VI в. записывалось как Л^ и звучало как копори или копури (др.-кор. копур, совр. кор. коуль), широко употреблялось до 646 г. (когда оно стало обозначением административной единицы – уезда) именно в значении «большая деревня» [Мацуока, 1929. С. 541]. Другое значение, «деревня» - мура (#), также заимствовано из древнекорейского языка (ср. кор. маыль «селение, деревня») [Камо, 1943. С. 629]. Корейские переселенцы, под влиянием и при участии которых в Японии распространилась система административного деления, схожая с системой коуль в период Трех государств, заложили основы структуры власти в центральных районах Японии еще до того, как в 712 г. в стране стал действовать свод законов Тайхорё, регулирующий в том числе и административно-территориальное деление на островах.
Таким образом, массовое переселение корейцев с материка на Японские острова в V – VIII вв. и образование там компактных поселений были тесно связаны с политической обстановкой на Корейском полуострове и взаимоотношениями между тремя корейскими государствами, а также, в немалой степени, активной попыткой японцев привлечь ценные кадры из Кореи. Переселения с континента привели к значительному увеличению массы иноземных специалистов в самых различных сферах производства, науки и искусства, оказавших решающее влияние на развитие культуры в Японии. В результате массовых переселений в период с IV по VIII в., к началу IX в. в центральных районах Японии 1/3 фамилий вела свое происхождение с материка. Пу Джи Ён, опираясь на японские исторические хроники, сообщает, что в 772 г. в одном только центральном районе Такедзи проживало корейцев из 17 округов Пэкче, а из 10 обосновавшихся там родов некорейских насчитывалось лишь 2 – 3 [Пу Джи Ён, 1995. С. 166 – 167]. Другими словами, в древней японской столице и ее окрестностях 70 – 80 % населения составляли выходцы из Пэкче. Японский антрополог Кояма, исследовав подворные списки и регистрационные журналы по сбору налогов, составленные в период Нара (710 – 794), подсчитал, что из примерно 5,4 млн населения Японии 1 млн 210 тыс. проживало в центральных районах Кинки, большинство которых составляли выходцы из Кореи [Koyama, 1992. Р. 187 – 197]. Согласно переписи «Синсэнсёдзироку», на Японских островах проживало 104 клана (сёбан) пэкчесцев, 41 – когурёсцев, 10 – силласцев и девять кланов – выходцев из Кая (Мимана). Многие представители этих кланов после прибытия в Японию были поставлены на государственную службу и расселены в центральных районах компактными группами, что позволяло им долгое время жить этнически обособленно, делясь своими знаниями и навыками [Воробьев, 1980. С. 71 – 72]. В этом случае личные контакты япoнцев с переселенцами с Корейского полуострова играли неизмеримо большую роль в распространении континентальной культуры, нежели посольства, отправляемые корейскими государствами на Японские острова.
Аleksandr Yu. Ivanov
Migration processes from the Korean peninsula to the Japanese islands in V–IX centuries AD