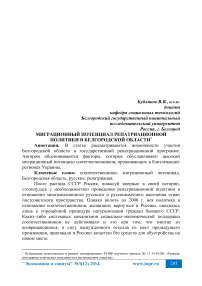Миграционный потенциал репатриационной политики в Белгородской области
Автор: Бубликов В.В.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 3-1 (12), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются возможности участия Белгородской области в государственной репатриационной программе. Автором обосновываются факторы, которые обуславливают высокий миграционный потенциал соотечественников, проживающих в близлежащих регионах Украины
Соотечественники, миграционный потенциал, белгородская область, русские, репатриация
Короткий адрес: https://sciup.org/140108352
IDR: 140108352
Текст научной статьи Миграционный потенциал репатриационной политики в Белгородской области
После распада СССР Россия, пожалуй впервые в своей истории, столкнулась с необходимостью проведения репатриационной политики в отношении многомилионного русского и русскоязычного населения стран постсоветского пространства. Однако вплоть до 2006 г. вся политика в отношении соотечественников, желающих вернуться в Россию, сводилась лишь к упрощённой процедуре натурализации граждан бывшего СССР. Каких-либо системных механизмов социально-экономической поддержки соотечественников не действовало и это при том, что многие из возвращающихся, в силу вынужденного отъезда из мест предыдущего проживания, приезжали в Россию зачастую без средств для обустройства на новом месте.
Вместе с этим, несмотря на полное отсутствие активных действий со стороны российского государства по возвращению соотечественников, сами репатрианты, под воздействием комплекса «выталкивающих» факторов, массово устремились в Россию. Так, только за 1990-е гг. положительный миграционный баланс в Российской Федерации составил 4,6 млн. человек [1], а большинство прибывших мигрантов, собственно и составили русские и русскоязычные жители бывших советских республик. Таким образом, всю репатриационную политику России вплоть до 2006 г. фактически можно охарактеризовать известной формулой «спасение утопающих – дело рук самих утопающих».
Существуют различные подходы к трактовке самого понятия соотечественники, проживающие за рубежом. Так, например Л.Л. Рыбаковский, на основе «генезиса различных частей населения России», выделяет четыре категории зарубежных соотечественников, от собственно этнических русских до представителей всех народов (и их потомков), когда-либо проживавших на территории российского государства [2]. Разумеется, неопределённость понимания объекта репатриационной политики также не способствовала формированию эффективных механизмов поддержки соотечественников, желающих вернуться в Россию.
Не до конца разработан в научной литературе и сам феномен миграционного потенциала. Тем не менее, практически все исследователи сходятся в том, что его базисом является численность культурно близкого населения в зарубежных странах, а также социально-экономическая привлекательность страны-реципиента [3]. Исходя из этого, можно согласиться с О.Д. Воробьевой, которая определяет миграционный потенциал как «возможную на данный момент численность населения, которая может в качестве эмигрантов выехать из страны проживания при условии сохранения значимости и структуры выталкивающих и привлекающих факторов» [4].
Основываясь на ключевых факторах «выталкивания-притяжения» (выделенных ещё в 1960-х гг. американским социологом Эверетом Ли [5]) нами была предложена методика оценки миграционного потенциала, а проведённые в 2013 г. расчёты показали, что более половины всего миграционного потенциала постсоветских стран для России, сконцентрировано на Украине и в Узбекистане [6].
В 2006 г. по инициативе Президента России В.В. Путина была принята «Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – Программа), которая предусматривает ряд мер социально-экономической поддержки соотечественников, переселяющихся в Россию, а также упрощённую процедуру получения вида на жительство и гражданства Российской Федерации [7].
Ключевой особенностью Программы стала её реализация через принятие в регионах страны своих, аналогичных региональных программ. Такой подход к репатриационной политике, безусловно оправдан и мог бы потенциально принести максимальную эффективность, поскольку только региональные власти могут учесть социально-экономическую, геополитическую и социокультурную специфику своих территорий и выработать собственную стратегию реализации Программы (разумеется, не выходя за рамки общей концепции и механизмов, обозначенных в федеральной программе).
Однако на практике, переложив реализацию репатриационной политики на региональные власти, без выделения адекватных финансовых и материальных ресурсов, федеральный центр обрёк Программу на крайне низкую эффективность. Так, например в 2013 г. в рамках реализации Программы на территорию Российской Федерации переселилось всего 36,8 тыс. человек [8].
Необходимо также учитывать, что в реализации Программы принимают участие, прежде всего регионы с негативной демографической ситуацией, а также имеющие стратегическое геополитическое значение (Восточная Сибирь и Дальний Восток), т.е. прежде всего территории в депрессивном социально-экономическом состоянии, откуда зачастую стремится уехать само местное население.
В противоположность – регионы, лидирующие по уровню социальноэкономического развития, до настоящего времени не принимают участия в реализации Программы, даже не смотря на очень хорошие потенциальные возможности привлечения значительного числа зарубежных соотечественников. Одним из таких регионов является Белгородская область, принявшая в 1990-е годы десятки тысяч фактических репатриантов, прежде всего из Казахстана, Средней Азии и Украины. Как уже было отмечено выше, репатриация того периода осуществлялась по собственной инициативе соотечественников и фактически без государственной поддержки. Единственным властным субъектом, оказавшим соотечественникам-мигрантам помощь, были местные и региональные власти, которые в силу своих скромных финансовых возможностей стремились помочь репатриантам обустроиться на новом месте (помощь с жильём, работой и т.д.).
Однако, несмотря на массовый приём соотечественников из стран нового зарубежья, Белгородская область до сих пор не принимает участия в реализации Программы, хотя потенциал реализации репатриационной политики в этом регионе один из самых высоких в стране. Обозначим факторы, которые обуславливают высокий потенциал миграционной привлекательности для зарубежных соотечественников Белгородской области.
Белгородская область среди регионов России имеет один из самых высоких уровней социально-экономического развития, что определяет высокий уровень жизни населения, в совокупности с хорошими (по российским меркам) природно-климатическими условиями (в отличие от большинства регионов принимающих участие в реализации Программы). Так, по ключевым показателям социально-экономического развития (размер валового регионально продукта (13-е место в Российской Федерации [9]), индексу развития человеческого потенциала (5-е место [10])) Белгородская область среди регионов Центральной России, уступает только столице – городу Москва.
Однако несмотря на столь высокие экономические показатели, демографическая ситуация в Белгородской области продолжает оставаться неблагоприятной и компенсируется только за счёт притока мигрантов, причём в последние годы преимущественно внутренних – из других субъектов Российской Федерации. Так, в 2013 г. в Белгородской области сохранялась естественная убыль населения (в отличие от страны в целом, когда впервые с 1991 г. был достигнут естественный прирост численности населения [11]), которая составила -3,5 тыс. человек [12].
Ещё более негативные тенденции наблюдаются в числе жителей области, находящихся в трудоспособном возрасте, т.е. того населения которое собственно и составляет основу экономики региона. Если за 2011 г. общая численность населения Белгородской области благодаря миграционному приросту выросла на 3,7 тыс. человек, то число жителей трудоспособного возраста, напротив, сократилось на 6,1 тыс. человек [13].
Иначе говоря, несмотря на внешне благоприятную демографическую ситуацию, при ближайшем рассмотрении демографические показатели свидетельствуют о негативном развитии ситуации, темпы нарастания которой ускорятся во второй половине нынешнего десятилетия в связи с особенностями возрастной структуры населения (вступлением в активный репродуктивный период крайне малочисленного поколения 1990-х годов рождения и достижением пенсионного возраста большого поколения послевоенного «бэби-бума»).
Таким образом, внутренние факторы развития Белгородской области свидетельствуют о том, что, с одной стороны, регион имеет негативную демографическую ситуацию, которая скорее всего обострится в ближайшее десятилетие, а с другой, будучи одним из самых экономически развитых регионов страны, имеющем материальный потенциал для содействия возвращению зарубежных соотечественников, область потенциально могла бы принять несколько десятков тысяч репатриантов в самые ближайшие годы.
Рассмотрим теперь внешние факторы, которые обуславливают потенциальную успешность проведения региональной репатриационной компании. Белгородская область граничит с тремя регионами Украины:
Сумской, Харьковской и Луганской областями. Только в этих регионах, находящихся в непосредственной близости от Белгородчины, проживает 6,1 млн. человек [14].
Более того, по данным переписи населения Украины 2001 г., 1,9 млн. жителей этих областей являлись русскими, а ещё для 3,2 млн. человек – русский язык являлся родным (табл. 1) [15]. То есть непосредственных соотечественников, даже без учёта культурно очень близких украинцев, в этих трёх областях больше, чем население самой Белгородской области.
Однако насколько привлекательной для жителей этих регионов является Белгородская область с социально-экономической точки зрения? Ответ на этот вопрос содержится в расчетах, представленных в табл. 1. Так, по последним имеющимся сведениям 2011 г., по размеру душевого валового регионального продукта (ВРП) Белгородская область в 3,2 раза превосходит Харьковскую область, в 3,6 раза – Луганскую и в 4,5 раза – Сумскую область Украины (табл. 1)! Для сравнения разрыв в уровне экономического развития США и Мексики составляет 5,0 раз, а Германии и Польши 3,3 раза [16].
Таблица 1.
Основные экономические и этно-демографические параметры регионов Украины, граничащих с Белгородской областью
|
ВРП на душу населения в националь ной валюте, 2011 г. [17] |
ВРП на душу населения в долларах США, 2011 г.6 |
Разница в уровне экономич еского развития в пользу Белгородс кой области, 2011 г. |
Численно сть русских, 2001 г., тыс. человек [19] |
Число жителей, считающи х русский язык родным, 2001 г., тыс. человек |
Численно сть всего населения , 2001 г. тыс. человек |
|
|
Белгородс кая область (справочн о) |
333,5 тыс. руб. |
11 150 |
- |
- |
- |
- |
|
Сумская область |
19,8 тыс. грн. |
2 480 |
4,5 раз |
121,7 |
201,1 |
1 296,8 |
|
Харьковск ая область |
28,0 тыс. грн. |
3 500 |
3,2 раза |
742,0 |
1 282,7 |
2 895,8 |
|
Луганская область |
25,1 тыс. грн. |
3 140 |
3,6 раз |
991,8 |
1 748,6 |
2 540,2 |
Итак, констатируем, только в трёх соседних регионах Украины, в самой непосредственной близости от Белгородской области (в радиусе не более двухсот километров от её территории) проживает более 3 млн. русских и русскоязычных жителей, причём уровень их жизни многократно ниже, чем на Белгородчине.
Приток переселенцев из Украины в Белгородскую область был очень активным ещё в позднесоветский период и особенно усилился в 1990-е гг. Однако в последние годы интенсивность иммиграции из Украины снизилась. Например, в 2012 г. со всей территории Украины в Белгородскую область переехали только 2,0 тыс. человек [20], что совершенно не соответствует миграционному потенциалу этой страны. На наш взгляд, причины этого лежат, прежде всего, в забюрократизированности процедуры миграции и натурализации в России, а также в отсутствии хоть какой-либо материальной помощи иммигрантам из Украины.
Инструменты поддержки репатриантов из соседних регионов Украины могли бы появиться у региональных властей Белгородской области в случае принятия своей региональной программы возвращения соотечественников. Тем более что транспортные издержки на само переселение соотечественников из соседних регионов Украины минимальны, в отличие от репатриации, например, из стран Центральной Азии.
Необходимо также отметить и ещё один не менее важный фактор потенциального успеха такой программы – близость всех социокультурных признаков, объединяющих население Белгородской области и соседних областей Украины. Жители территории исторической Слобожанщины имеют не только одни культурные и ментальные особенности, язык и религию, но даже и говорят на одном диалекте русского языка (в сельской местности русско-украинского суржика). Наконец, наличие огромного числа родственно-дружеских связей между населением этих регионов, делает жителей Сумской, Харьковской и Луганской областей Украины, с социокультурной точки зрения, для жителей Белгородчины даже более близкими людьми, чем русское население других более отдалённых регионов России.
Разумеется, реализация такой масштабной репатриационной программы, наверняка потребует больше финансовых ресурсов, чем приём низкоквалифицированных, полулегальных гастарбайтеров из Центральной Азии. Однако в долгосрочной перспективе ставка на такую миграционную политику, безусловно принесёт бóльшие экономические дивиденды, при практически нулевом уровне социокультурных и геополитических рисков.
Среди отечественных экспертов и политологов можно встретить и такое мнение, что Россия не должна проводить активную репатриационную политику учитывая, что тем самым она сокращает свое политическое и культурное присутствие в сопредельных странах. В целом признавая справедливость этой позиции необходимо отметить ряд факторов, которые всё же склоняют в пользу проведения активной репатриационной компании.
Во-первых, не создавая условий, благоприятствующих добровольному переселению в Россию соотечественников, мы толкаем значительную их часть на миграцию в другие страны. По нашим оценкам только из рассматриваемых здесь трёх регионов Украины (Сумской, Харьковской и Луганской областей) в странах дальнего зарубежья, от Норвегии до Аргентины, проживают десятки тысяч мигрантов. Во-вторых, никаких серьёзных геополитических дивидендов от многомилионной русскоязычной общины на постсоветском пространстве за последние десятилетия так и не было получено. Разве прибалтийские республики с самой большой долей русского и русскоязычного населения из всех постсоветских республик не стали членами НАТО и Евросоюза? Да и геополитические достижения России на Украине последних двух десятилетий вызывают сейчас большие сомнения.
В заключении необходимо отметить, что в настоящее время назрела объективная потребность в серьёзной интенсификации репатриационной политики, как с целью закрытия внутренних демографических провалов, так и с целью обезопасить государство и общество от массовой иммиграции низкоквалифицированных гастарбайтеров из стран Центральной Азии. Однако федеральный центр должен создать все условия (делегировать полномочия и финансовые ресурсы) для возможности реализации таких программ, прежде всего усилиями региональных властей. В этом случае такие регионы как Белгородская область могли бы в полной мере использовать уникальный и пока практически неисчерпаемый миграционный потенциал близких, не только территориально, но и культурно соседних стран.
К слову сказать, обозначенный выше миграционный потенциал соседних с российскими регионами территорий, относится не только к Белгородской области. Такие же параллели можно провести и с другими территориями российско-украинского, российско-белорусского и российско-казахстанского пограничья. Однако, пожалуй, нигде из них ни проявляется столь большая разница в уровне социально-экономического развития как на белгородском участке российско-украинского пограничья, достигающая 4-5 раз7!
Наконец, в случае принятия региональной программы содействия возвращения соотечественников, ориентированной, прежде всего на близлежащие регионы Украины, необходимо предусмотреть не только упрощённые правовые процедуры переселения и материальную поддержку репатриантов, но и информационную компанию в соседних регионах, учитывая разорванность информационного пространства между нашими государствами. В данном случае можно рекомендовать открытие информационных центров ФМС России не только в областных центрах украинских регионов (сейчас такие центры работают только в пяти городах Украины), но и во всех крупных населённых пунктах (например, с численностью жителей свыше 100 тыс.). Кроме того, следует в полной мере использовать возможности рекламно-информационных компаний в СМИ регионов Украины.