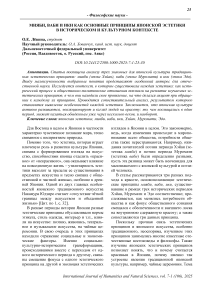Мияби, ваби и ики как основные принципы японской эстетики в историческом и культурном контексте
Автор: Лвина О.Е.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 7-1 (106), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу трех знаковых для японской культуры традиционных эстетических принципов: мияби (эпоха Хэйан), ваби (эпоха Муромати) и ики (эпоха Эдо). Ввиду малоизученности выбранные понятия представляют особенный интерес для отечественной науки. Исследуется контекст, в котором существовала каждая эстетика: как исторический процесс и общественно-политические отношения повлияли на развитие изучаемых эстетических принципов, в чем они находили свое проявление, на что делался акцент при обращении к каждому из принципов. Проводится сопоставительный анализ, результатом которого становится выявление особенностей каждой эстетики. Заключается, что японская культура активно развивается, эволюционирует и взгляд людей на красоту: то, чем восхищались в один период, может казаться обыденным уже через несколько веков, и наоборот.
Японская эстетика, мияби, ваби, ики, хэйан, муромати, эдо
Короткий адрес: https://sciup.org/170210764
IDR: 170210764 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-7-1-25-30
Текст научной статьи Мияби, ваби и ики как основные принципы японской эстетики в историческом и культурном контексте
Для Востока в целом и Японии в частности характерно чувственное познание мира, тесно связанное с восприятием природы.
Помимо того, что эстетика, которая играет ключевую роль в развитии культуры Японии, связана с формированием взгляда на искусство, способностями японца отделить «красивое» от «некрасивого», она оказывает влияние на повседневную жизнь - утилитарность эстетики выходит за пределы ее существования в предметах искусства и тесно связана с общественной и частной жизнью, особенно в древней Японии. Одной из двух главных особенностей японского традиционного искусства Накамура Юдзиро считает «отсутствие чёткой границы между искусством и обыденной жизнью» [Цит. по 1, с. 32].
В разные периоды истории Японии разные эстетические принципы обуславливали нормы этикета, стиль одежды, интерьер и т.п., влияли на искусство: поэзию, живопись, театральное и музыкальное искусства, на чайные церемонии. В свою очередь в этих принципах находили отражение социальные и экономические факторы. Именно социально-культурно-историческим трансформациям, происходившими вместе с переходом от одного исторического периода к другому, связаны смещение фокуса с одного эстетического принципа на другой и эволюция эстетических взглядов в Японии в целом. Это закономерно, ведь, когда изменения происходят в миропонимании всего общества, потребности общества также перестраиваются. Например, ожидания почитателей поэзии периода Хэйан (эстетика мияби) и поэзии периода Муромати (эстетика ваби) были определенно разными, пусть эта разница может быть неочевидна для малознакомого с японской культурой и поэзией человека.
В статье рассматриваются три разных подхода к красоте, основополагающие эстетические принципы мияби , ваби , ики , существовавшие в рамках трех исторических периодов Хэйан, Муромати и Эдо соответственно; прослеживается, как менялись потребности общества и как фокус общественного сознания смещался с обеспеченности и внешнего лоска на внутреннюю сдержанную красоту; а также сопоставляются три данных принципа.
Поскольку прочная связь эстетических принципов и японского искусства, особенно традиционного, неоспорима, изучением этих принципов занимались многие известные отечественные востоковеды и философы. Также изучение японских эстетических принципов позволяет понять, что и почему считается красивым в Японии, почему именно так устроены явления традиционной японской культуры, например, чайные церемонии. Тема эстетических принципов раскрывается в книгах «Красотой Японии рождённый», «Японская художественная традиция» Т.П. Григорьевой. Знания об эстетических принципах применяет при анализе японской поэзии Т.И. Бреславец в книге «Очерки японской поэзии IX-XVII веков». Подробный и разносторонний анализ эстетических принципов и отношения японцев к красоте предлагают в сборнике своих статей «Пути японской культуры» Е.Л. Скворцова и А.Л. Луцкий.
Попытки описать и объяснить эстетическое восприятие японцев в самой Японии предпринимались с XVII века, но наиболее оформленный и привычный нам вид научные изыскания приняли в период Мэйдзи (XIXXX вв.), когда Япония вновь открыла свои границы для западного мира. В XX веке Куки Сюдзо написал «Структуру ики», в которой предпринял попытку впервые описать эстетическое понятие ики , используя методы западной философии.
Из-за того, что интерес к Японской культуре с каждым годом лишь растет, тема эстетических принципов и их влияния на японское искусство и сейчас активно изучается: подробнее описываются уже изученные понятия, обнаруживается все больше следов тех или иных принципов в различных произведениях искусства.
Новизна проведенного исследования заключается в том, что в статье в хронологическом порядке рассматриваются и описываются важные для японской культуры эстетические принципы, не получившие достаточного внимания в сфере российского востоковедения; анализируется связь исторического процесса и культурно-философских понятий; сопоставляются концепции мияби , ваби и ики . Несмотря на то, что японские эстетические принципы рассматриваются во многих научных статьях и книгах, посвященных японской культуре, произведений, где сравниваются все три понятия, крайне мало. Целью исследования является попытка расширить, углубить знания об японских эстетических принципах; проследить, как анализируемые эстетические принципы связаны друг с другом и с историческим периодом их расцвета.
Эстетическое понятие мияби освещает одну из сторон эстетики моно-но аварэ («очарование вещей», «прелесть вещей», «печальное очарование вещей»). Мияби – элегантность, которая «преобладает в системе аристократической вычурности» [2, с. 1] и развивается в элитарной аристократической среде. Расцвет обоих эстетических принципов принято относить к эпохе Хэйан. Это был «период сравнительно мирного, без крупных военных конфликтов, существования централизованного японского государства, который ознаменовался невероятным всплеском культурной жизни, протекавшей главным образом в столице Хэйан (совр. Киото)» [3, с. 23]. При императорском дворе ценились рафинированность, умеренный внешний блеск и лоск, умение со всей утонченной элегантностью продемонстрировать как финансовое благосостояние, так богатство внутреннего мира. При этом резко осуждались примитивность, неотесанная грубость, вульгарность. Безупречным должно было быть все, любая мельчайшая деталь: начиная от манер и соблюдения правил этикета и заканчивая художественными порывами придворного (под «художественным» понимается любой из видов искусства). Придворные в эпоху Хэйан были мастерами каллиграфии и поэтического искусства, которое в тот период подчинялось строгим правилам. Они разбирались в живописи, музыке и церемониальных танцах. Искусство было неотделимо от дворцовой жизни, а мияби неотделимо от искусства.
В статье «Cities at one with nature» («Города в гармонии с природой») французский географ и востоковед Огюстен Берк, разъясняя особенности понятия мияби, пишет: «оно (ми-яби) необязательно касается учтивости и дипломатичности в межличностных отношениях, но и рассматривает чувственность и изящество людей в отношении природы» [4, с. 21]. Он добавляет, что, в частности, мияби можно найти в произведениях поэтического искусства, в которых авторы выражают свою любовь к природе. Имамити Томонобу, один из самых известных японских философов, считает Хэйан «…периодом становления японской художественной мысли и прежде всего – пиком развития национальной поэтики…» [Цит. по 5, с. 92]. Именно в эпоху Хэйан по приказу императора была составлена антология японской поэзии «Кокинсю» («Кокинвакасю», «Собрание старых и новых песен Японии»), шесть из двадцати свитков которой составляют произведения, связанные с временами года. Говоря о предисловии Кино Цураюки к «Кокинсю», Татьяна Иосифовна Бреславец отмечает: «Сам слог предисловия Цураюки выдержан в духе мияби – чрезвычайно отточен, изыскан, виртуозен. Аристократизм определяет творческую манеру поэта» [6, с. 23]. Последнее высказывание может относиться ко многим поэтам и деятелям других искусств эпохи Хэйан.
Элегантностью мияби проникнуто еще одно знаменитое литературное произведение того периода – «Повесть о блистательном принце Гэндзи» («Гэндзи-моногатари»). По словам япониста Натальи Дёмкиной, поступки принца Гэндзи читателям XXI века могут показаться сомнительными с этической точки зрения, но в эпоху Хэйан он считался образцом для подражания, поскольку воплощал в себе изящество мияби . Между этикой и эстетикой японцы в эпоху Хэйан выбирали эстетику, и этот факт еще раз демонстрирует, насколько важную роль в жизни японского общества играла красота.
XII век считается в истории Японии началом периода японского средневековья. Складывались феодальные отношения, хотя понятие японского феодализма несколько отличается от западного. Установилось бакуфу – военное правительство сёгуната, которое на протяжении своей истории было представлено тремя основными династиями сёгунов: Минамото, Асикага, Токугава.
В 1338 года был основан сёгунат Асикага, правление которого называется периодом Муромати. Конечно, когда происходят такие значительные социальные и политические изменения: очередная смена правительства, резкое снижение политического влияния аристократического сословия и резкое возрастание влияния военных [7, с. 196], культура не может оставаться прежней. На смену утонченной роскоши и изяществу мияби пришла эстетика ваби , выработанная самураями и буддийскими монахами школы Дзэн.
В «Уложении годов Кэмму» («Кэмму си-кимоку», программа устройства нового самурайского правительства) были прописаны в том числе и морально-этические нормы, такие как экономность, сдержанность и т.п. Именно сдержанность, умение довольствоваться тем, что есть, нестремление к богатству есть осно- ва понятия ваби. Для аристократов, которые лишились прежнего дохода, эстетика скромности, привнесённая военными, стала в каком-то смысле спасением. «Аристократия времен Асикага «…» двигалась от понимания роскоши к пониманию утонченности. Этим аристократам нравилось жить в крытых соломой домиках, таких же незатейливых, как и у самых простых крестьян. «…» Красота или жизнь вещей всегда скрывается глубоко внутри, а не проявляется внешне…» [8, с. 234]. Подобная философия; стремление аристократов упростить свой образ жизни, внешне прировнять его к образу жизни простых японцев и есть проявление ваби.
Ваби – это глубокая внутренняя скромность, стремление оттенить этой скромностью богатый внутренний мир, который может быть продемонстрирован в неспешной беседе, в умении насладиться таинством чайной церемонии вабитя, в искусстве каллиграфии и изящной монохромной живописи, между строк поэзии трёхстиший хайку.
И все же речь идет не об эстетике бедности, абсолютном аскетизме и отказе от богатства. Окакура Какудзо, говоря об изменении нравов и этико-эстетических норм в эпоху Муромати, пишет: «Все богатства коллекции, принадлежащей даймё, будут хранить в отдельной сокровищнице и выставлять по очереди ради удовлетворения эстетического порыва. «…» Самураи испытывали гордость от того, что носили свои чудесные клинки в непритязательных ножнах» [8, с. 235].
Не найдя счастья в роскоши и рафинированности эстетики мияби, люди постепенно пришли к эстетике «простоты и чистоты бедности» ваби, которая даже может показаться грубоватой. Это была попытка обнаружить счастье в чем-то простом, чтобы его достичь не нужно было тянуться к социальным вершинам, достаточно было просто посмотреть вокруг и постараться проникнуться красотой уже имеющегося, нередко красотой природы: красотой вазы, одиноко стоящей в специальной нише чайной комнаты; красотой одинокой сосны, растущей напротив окна, в то время как человек эстетики мияби захотел бы высадить сосновый лесок, чтобы ненароком продемонстрировать плодородность земель своего участка; красотой и ценностью чашки со сколом, что позже приведет к распространению технологии кинцуги.
Ики – это эстетика скрытой, сдержанной элегантности, которая развивалась в эпоху Эдо. Это самый многогранный и невыразимый словами эстетический принцип из трёх, рассмотренных в данной статье.
Большую роль в изучении эстетики ики сыграл упомянутый выше философ Куки Сюдзо. «История жизни Куки Сюдзо нетипична для японского академического философа» [9, с. 2]. Дело в том, что после окончания обучения в Токийском Университете, он около восьми лет изучал философию в Европе: посещал лекции в Гейдельбергском университете, был участником «Декады Понтиньи», летних конференций, на которые съезжался «интеллектуальный цвет» Франции. Он был знаком с Жан-Полем Сартром и Александром Койре. Именно этот опыт позволил Куки Сюдзо попытаться описать, детерминировать эстетическое понятие ики в книге «Структура ики». Этот труд очень значим в контексте изучения японской культуры, так как восточное и западное понимание эстетики разительно отличаются. Западная философия, описывая эстетические принципы, пользуется определённым терминологическим аппаратом, понимание эстетики может существовать отдельно от предмета или явления искусства. Для восточного взгляда на эстетику, напротив, характерна чувственность. Эстетика тяжело отделяется от материального искусства. До периода Мэйдзи японцы практически не предпринимали попыток к описанию множества японских эстетических терминов, формировавшихся на основе национальной истории Японии под влиянием синтоизма, буддизма, конфуцианства и материковой культуры в целом. Куки Сюдзо, объединив восточный и западный подходы в науке, смог создать дискурсивное рассуждение о японской эстетике, используя в том числе и западную методологию.
«Известно, что принцип ики возник в среде торгового сословия Эдо в эпоху Эдо. Этот феномен оказался важным в контексте социальной иерархии того периода, поскольку первоначально служил особой формой выражения материального богатства: ики как особая эстетика упрощенности и элегантности возник именно в результате попыток купече- ства, торговцев и ремесленников выразить свои интересы» [10, с. 18].
«Японское слово ики имеет яркую национальную окраску» [11, с. 16]. Согласно Куки Сюдзо эстетика ики – это совокупность кокетства, гордости и чести, смирения и принятия. Главная особенность ики – это напряжение, которое возникает при взаимоотношениях людей противоположного пола и которое питает кокетство. При этом ики выражает моральные идеалы Эдо: «Кто ики , тот обладает незыблемым достоинством и изяществом». Когда мы говорим об этой эстетике, мы имеем в виду кокетство, доведенное до идеала чувством собственного достоинства человека, которое основывается на бусидо , и смирение, корни которого уходят в буддизм [11, с. 23].
В качестве примера проявления ики Куки Сюдзо приводит орнамент из вертикальных параллельных линий, в котором помимо присущего ики напряжения чувствуется строгость, четкость и изящество. Ики больше склоняется к скромности, нежели к демонстрации обеспеченности, так как это понятие включает в себя напряжение, честь и принятие неотвратимого и не включает утонченную изощренность, которая, напротив, ассоциируется с витиеватостью, мягкими линиями, перетеканием из одного состояния в другое. Толстый слой макияжа, который наносили женщины из Киото и Осака, считался в Эдо моветоном и воспринимался женщинами из Эдо как грубое проявление невоспитанности. Это еще один пример, показывающий, что эстетике ики присуща скромность, невычур-ность.
Правлению сёгуната Токугава в период Эдо был характерен тотальный контроль. «Если какое-то княжество начинало слишком заметно богатеть, то с этим боролись при помощи различных мер, начиная с обложения фискальными повинностями и практики заложничества…» [7, с. 245]. Поэтому скромность и простота ики, которые, конечно, отличаются от скромности и простоты ваби по смысловому содержанию, могут быть также обусловлены исторически. Здесь важно отметить, что изначально эстетика ики развивалась в городской среде столицы Эдо, но из-за некоторых особенностей политического устройства жизни в тот период и информационного обмена между столицей и провинциями, этот эстетический принцип постепенно распространился по всей стране.
Ики было присуще жизнелюбивым людям, знавшим толк в удовольствиях. Это понятие одновременно кажется и простым, земным, и очень глубоким, вбирающим в себя множество стилистических и смысловых оттенков.
Прежде чем перейти к сопоставлению мия-би, ваби и ики нужно отметить, что все три эстетических принципа так или иначе связаны эволюционным контекстом, каждый последующий содержит в себе предыдущий. Японская культура прошла огромный путь от утончённой дворцовой эстетики мияби к городской эстетике кокетливой чести и гордого смирения ики. «Момент перехода мияби в ики можно представить через призму эстетики ва-би-саби. То есть, когда среди неказистых предметов, красивых своей некрасивостью, можно увидеть элегантность и рождение ики. «…» Элегантности, которая проявляется во всём» [2, с. 1].
Процитированный тезис подтверждается тем, что у мияби и ваби или ваби и ики больше общего, чем у мияби и ики . То есть, действительно, ваби можно назвать переходным эстетическим принципом на стыке «золотого века японской культуры аристократии Хэйан», и культуры горожан эпохи Эдо.
Мияби и ваби достаточно однозначно отражают суть периода и взаимосвязанность истории, человеческого общества и культуры. Лоск мияби был обусловлен блеском императорского дворца и необходимостью относить- ся с почтением даже к самым заклятым недругам. Простота и скромность ваби объяснялись усталостью от роскоши, смещением фокуса интересов общества с демонстрации богатства на демонстрацию гармонии человека с собственным внутренним миром и с природой.
Ики в свою очередь, скорее, отражает суть отношений между разными явлениями, например, сложное устройство взаимоотношений между мужчиной и женщиной, нежели опирается на исторический контекст. Конечно, политика сёгуната Токугава влияла на формирование ики, но, как нам кажется, в меньшей степени, чем принятые при Хэйан-ском дворе нормы.
Когда речь идет о произведениях искусства, в которых отражены мияби и ваби, про- явление этих эстетических принципов сначала ищут в окружающей природе и только затем во взаимоотношениях между людьми и др. Проявление ики же, наоборот, проще заметить, если обращать внимание на людей и что-то ими созданное, природа уходит на второй план, но это не значит, что она теряет свою значимость. Сознание японцев слишком тесно связано с чувственным познанием и природой, чтобы игнорировать ее, размышляя о японском искусстве.
Мияби и ваби – понятия, которые развивались в элитарном кругу аристократов, тогда как ики рождалось в среде горожан. При этом мияби – эстетика, которая расцвела в период правления аристократии, а ваби и ики , в отличие от нее, связаны с правлением военных.
Мияби – это изящество и утончённость, которые не нужно было прятать за излишней скромностью. Ваби, наоборот, - нарочитая скромность, которая должна была стать проводником во внутренний мир человека, показать, что за простотой, чем-то невыразительным, невзрачным и невыделяющимся, а иногда и вовсе уродливым, прячется глубина и понимание, например, хрупкости мира или умение наслаждаться тем, что человеку дала природа. Ики – это скрытая элегантность, которая есть и в кокетливой юной девушке, и в вертикальных полосах на кимоно, и в смиренной пожилой даме, которая понимает, что любовь всегда конечна и что людям только и остается, что плыть по течению реки жизни.