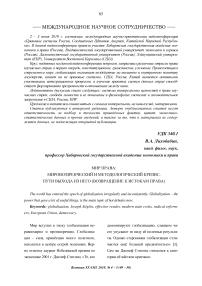Мир права: мировоззренческий и методологический кризис, пути выхода из него (возвращение к истокам права)
Автор: Лихобабин В.А.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Международное научное сотрудничество
Статья в выпуске: 4-5, 2010 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14319241
IDR: 14319241
Текст статьи Мир права: мировоззренческий и методологический кризис, пути выхода из него (возвращение к истокам права)
Мир вступил в эпоху глобализации неравномерно и противоречиво. Глобализация – сила, принёсшая много полезного, находится в центре острой полемики. Верно отметил лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 г. Джозеф Стиглиц: «Те, кто демонизируют глобализацию, слишком часто упускают из виду её полезные результаты. Однако сторонники глобализации отличаются ещё большей предвзятостью» [1]. Сам же Джозеф Стиглиц относится к категории её жёстких критиков.
К одному из очевидных негативных последствий глобализации Дж. Стиглиц относит кризис современного государства. Причина этого – потеря государством и его институтами, в том числе и правом, легитимности, ввиду неспособности исполнять взятые на себя обязательства по поддержанию правопорядка, защите от внешних угроз и обеспечению населения «социальными благами». Упадок государства ведёт к радикальной трансформации всего современного мира. Нужна новая модель государства, нужна «глобализация с человеческим лицом» [1, с. 285 – 290 ].
Индустриально развитые страны взяли на себя миссию содействия глобализации в общих интересах человечества, исповедуя «идеологию глобализма», подчас игнорируя исторически сложившееся многообразие мира, традиции и особенности стран, представляющих незападные цивилизации, навязывая свои «правила игры» и модели социально-экономического и политического развития как напрямую, так и через международные организации, в частности через Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и ряд других.
Радикал-реформаторы, пришедшие к власти в России и других странах бывшего коммунистического блока, пытаясь сократить дорогу к капитализму, желая без промедления попасть в рыночную экономику и демократию, начали создавать их без фундаментальных институтов, а институты – без фундаментальной инфраструктуры, слепо следуя рекомендациям и ультиматумам иностранных специалистов или копируя в буквальном смысле их опыт. Важ- нейшим механизмом реализации этих стратегий и планов стало право. Именно этим обусловлен интерес и распространение сравнительно-правового анализа, не выходящего за рамки доминирующей в наше время позитивистской концепции права.
Между тем узость, ограниченность позитивистской концепции права и сравнительно-правового анализа уже осознаётся самими сторонниками этой концепции. Ярким примером является предисловие профессора Раймонда Леже (Франция) для русского читателя его книги «Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход». «В том, что касается понятий и основных технических приёмов современного права, – пишет Р. Леже, – три правовые системы, а именно система Англии, Германии и Франции, имеют совершенно особое значение. Эти системы оказывают своё влияние далеко за пределами создавших их обществ, поскольку почти во всех правовых системах мира, с которыми мы сталкиваемся в начале этого тысячелетия, можно увидеть взятые у них заимствования, которые иногда переходят в настоящее копирование. При этом мы вынуждены учитывать уроки, преподнесённые нам великими восточными цивилизациями: сегодня нам следует ограничивать техническое значение права и прилагать максимум усилий к регулированию социальных отношений другими способами… Во многих странах обычаи или религиозные представления также взаимодействуют с правом, врастая в него или даже подчиняя его себе. Ведь за пре- делами позитивного права существует и другое, неписаное право, которое восходит к самой природе человека, как это было провозглашено Софоклом и Аристотелем. Мы прекрасно осознаём разнообразие правовых систем, равно как и множество концепций, которые юристы и философы могут извлекать из самого права» [2].
Классическим примером служит Шариат – систематизированный свод мусульманских законов, не совпадающих с мусульманским правом, ибо охватывает более широкий круг вопросов. В нём связаны в единую систему законы, регулирующие хозяйственную жизнь, формы морали и этики, мусульманские обряды, праздники и многое другое, определяющие поведение верующих и порядок жизни всей мусульманской общины. В Шариате подробно излагаются запреты, перечисляются дозволенные, одобряемые и порицаемые поступки. Шариат и его законы охватывают жизнь и деятельность мусульманина от колыбели до могилы [3].
Обратимся к опыту современного Китая, который, идя по пути модернизации и открытости, прилагает усилия к гармонизации всех сфер жизни на основе не только идей Мао Дзедуна и Дэн Сяопина, но и мобилизуя для этого учение Конфуция (551 – 479 г. до н.э.). Это записано в решениях ХVII съезда КПК!!!
Популяризация учения Конфуция в Китае носит беспрецедентный характер. Так, книга Юй Дань «Конфуций: от сердца к сердцу. Уроки «Луньюя» вышла тиражом в 10 млн экземпляров, а права на издание проданы в 19 стран мира [4].
Да и в самой Европе – Англии, Германии, Франции, Италии – в последние годы вырос интерес к изучению религиозноправовых, культурных оснований права. Это в первую очередь относится к развитию юридической антропологии – науки о человеке как социальном существе в его правовых проявлениях, измерениях, характеристиках, о правовых формах общественной жизни людей от древности до наших дней. В связи с этим уместно будет назвать имя всемирно известного французского юриста и антрополога Норбера Рулана и его работы [5].
Широкое распространение в Европейском союзе получили идеи и ценности христианской демократии, исходящие из представлений христианской антропологии о сущности человека, о смысле и задачах его жизни, о принципах и приоритетах политико-экономического устройства общества [6].
Не является исключением в этом плане и Россия, где эти же проблемы будоражат умы не только религиозных мыслителей, политиков, деятелей науки и культуры, но и юристов: развивается юридическая антропология, этика права [7], раскрываются и обосновываются идеи воскресения права на основе его религиозных (этических) начал [8].
Почему я столько внимания уделяю этому вопросу? Да потому, что юриспруденция, юристы должны преодолеть очень узкую манеру понимания права как только позитивного права с законами и судебной практикой в качестве главных, если не основных конститутивных элементов правовой системы.
Наше видение права, его сущности, содержания и формы, роли и места в регулировании социальных отношений, в культуре общества и индивида должно быть всё более органично, целостно, полно (онтологично) как «национальный образ права». И здесь мне вспомнись два имени – Уолт Уитмен и Франклин Делано Рузвельт.
Уолт Уитмен (1819 – 1892 гг.), например, понимал демократию как особую онтологию, особый склад и формирование бытия и духа, а не просто как форму правления, политику. Это и религия, и глубочайший жизненный настрой, и этика.
У. Уитмен отмечал, что не надо ждать целостного охвата и всеобщности, все-проникания демократией, а можно и надо понимать её на уровне веры в неё: «Друг мой, – написал он, – неужели ты думал, что демократия существует только для выборов, для политики и для того, чтобы дать наименование партии? Я говорю: демократия нужна для грядущего, чтобы цветами и плодами войти в наши права, в высшие формы общения людей, в их верования, в литературу, в университеты и школы, в общественную и частную жизнь, в армию и флот.
Как я уже указывал, ещё мало кто до конца понял демократию и поверил в неё. А пожалуй, никто не понял, и никто не поверил… Демократию несут в себе все моральные силы страны, равно как и её торговля, финансы, машины, средства сообщения… Несомненно также, что демократия живёт, глубоко скрытая в сердцах огромного количества простых людей, американцев, главным образом тех, которые являются корен- ными жителями сельских районов и особенно на западе, где на горных вершинах восседает «Гений Штатов» [9].
В 1943 г. военная комиссия американских писателей обратилась во влиятельный журнал с вопросом: «Что такое демократия?»
Получила ответ: «Демократия – это когда все стоят в одной общей очереди. Это частица «не» в словах «не притесняй». Это вмятина в броне чванства. Это извечная вера в то, что большинство людей в большинстве случаев право. Это чувство полного уединения в кабинете для тайного голосования. Чувство молчаливой общности с другими в читальном зале, это ощущение полноты жизни повсюду. Демократия – это письмо в редакцию. Это горчица к сосискам. Демократия – это момент, когда решается судьба матча… Это идея, которая не развенчана, песня, которая не надоела. Демократия – в том, что можно спросить и получить ответ на вопрос: «Что такое демократия?»
Говорят, когда Франклин Делано Рузвельт прочёл это «определение» демократии, оно ему очень понравилось, и он хотел использовать его в одной из своих речей. Помощники его отговорили [10].
Вот на таком исповедальном онтологическом понимании права, права как национального образа видится нам выход из мировоззренческого и методологического тупика позитивизма (право только как производное от правоустанавливающих институтов).
Ближе всех к такому онтологическому пониманию права, к выходу из тупика правового фетишизма, правового релятивизма и цинизма находится естественнонаучное направление в теории права. Обращение к нему как в классическом первозданном, так и в современном виде обладает большой эвристической силой и может привести к оздоровлению правового сознания, правовой идеологии, законотворческой деятельности. Ведь практика законотворческой деятельности в России показывает, что упрощённое и некритическое восприятие позитивистских концепций права и нормативизм нередко приводят к появлению неприменимых на практике, противоречивых и в целом неработающих законов и иных нормативных актов.
Показательна в этом плане работа крупнейшего современного представителя естественнонаучной школы американского правоведа Лона Фуллера (1902 – 1978 гг.) «Мораль права» (1964), произведшая настоящий фурор в юридической науке как в США, так и Европе [11]. Дело Лона Фуллера должно быть продолжено.