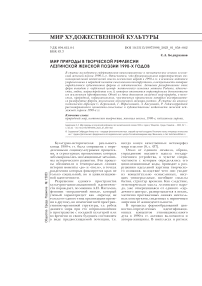Мир природы в творческой рефлексии лезгинской женской поэзии 1990-х годов
Автор: Бедирханов Сейфеддин Анвер-Оглы
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Мир художественной культуры
Статья в выпуске: 1 (66), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются содержательно-композиционные и тематические основы лезгинской женской поэзии 1990-х гг. Отмечается, что функциональные характеристики этнонациональной поэтической мысли лезгинского народа в 1990-е гг. в основном задаются укорененными в народной памяти смысловыми конструктами, в актуальности которых определяются субъективные формы ее идентичности. Активное развертывание этих форм выводит в «сердечный центр» поэтического сознания мотивы Родины, одиночества, любви, мироустройства и т. д, которые становятся структурными доминантами его жизненного пространства. Одной из этих доминант является мир природы, в телесных, природных, нерациональных, чувственных проявлениях которого выстраиваются развернутые формы жизненных экзистенций женщин-поэтесс. В статье на анализе поэтических образцов С. Керимовой, Г. Ибрагимовой, З. Касумовой, Р. Гаджимурадовой рассматриваются ценностно-смысловые и художественные особенности женской пейзажной лирики 1990-х гг.
Природный мир, поэтическое творчество, женская поэзия, 1990-е, пейзажная лирика
Короткий адрес: https://sciup.org/140298574
IDR: 140298574 | УДК: 894.612.8-1 | DOI: 10.53115/19975996_2023_01_058-062
Текст научной статьи Мир природы в творческой рефлексии лезгинской женской поэзии 1990-х годов
Общество. Среда. Развитие № 1’2023
Культурно-историческая реальность конца 1980-х гг. была сопряжена с определенными социокультурными процессами, в структурных проявлениях которых заблокировались эволюционные механизмы исторического развития. Эти процессы обозначили в темпоральных линиях истории моменты «до» и «после», в точках разделения которых фиксируется крах не только социальной, но и цивилизационной идентичности.
Разрушение единого пространства культурно-цивилизационной идентичности порождает, по мнению А.И. Пигалева, феномен «пограничной эпохи», который ученый характеризует как «переход не только от одного типа организации времени к другому, но изменение всей пространственно-временной структуры, т.е. рубеж данного мира при его соприкосновении в пространстве с соседней культурой или во времени со своим будущим состоянием в виде предвосхищаемой потенции, т.е.
всегда канун качественных метаморфоз мира в целом» [6, с. 437].
Отказ от единого символа, образа, упразднение высшего идеала государственного устройства, в чувстве сопричастности с которым определялись его цивилизационные коды, приводят к разрушению идеальной картины творческого сознания, вследствие чего оно уходит из концептуально осмысленных, несущих универсальные, всеобщие смыслы бытия, структур времени. Как следствие, этнотворческая мысль лезгинского народа, уже отвернувшаяся от единого «сердечного центра», развертывается в неких, хаотично протяженных линиях ментальных конструктов, сведенных к первичным энергиям ее жизнедеятельности.
В процессы формообразований ценностно-определенных идентификационных концептов этнонационального духа в 1990-х гг. активно включаются и авторы-женщины. В импульсах и ритмах женской души образный мир заряжается особыми, эмоционально-напряженными чувственными волнениями, в переживаниях которых факты мира являются в телесных, нерациональных формах организации бытия. Духовные формы организации идеального мира выстраивают последовательность смысловых доминант, в развертывании которых синтезировались жизненные энергии женского поэтического сознания в период социокультурных трансформаций. Одной из этих доминант становится мир природы, в поэтической рецепции которого раскрываются наиболее глубинные жизненные экзистенции женского поэтического сознания. Исходя из этого, целью статьи является изучение содержательно-композиционных и художественных форм организации женской пейзажной лирики 1990-х гг. Достижение этой цели делало необходимым выработку определенных исследовательских подходов, освещающих ценностно-смысловые ориентиры творческой мысли женщин-авторов в период радикальных социокультурных трансформаций.
В постсоветской женской поэзии лезгин значительное место занимает природа. Впавшие в пространство душевной жизни природные явления сращиваются с его чувственными волнениями. Из этих сращиваний образуются некие мгновенья, эпизоды, в переживаниях которых жизнь лирического «я», уже оторванная от стихии текущего, связного времени, превосходит жизнь его автора. По мнению Г. Зиммеля, только человеческие категории вырезают из природы «отдельные куски, с которыми мы связываем эстетические, возвышенные, символически значимые реакции: что прекрасное от природы “испытывает блаженство само от себя”, правомерно лишь в качестве поэтического измышления, для сознания же, нацеленного на объективное, с ним не связывается никакого иного блаженства, нежели то, которое создается им внутри нас» [2].
Г. Темирханова в работе «Современная лезгинская поэзия» размышляет о функциональных смыслах пейзажных видов в стихотворчестве. По мнению ученого, «жизнь природы дается в момент, когда писатели чувствуют необходимость показать гармонию человеческого духа, или его смятение, развороченность, его дисгармонию. Тогда “на помощь” приходят краски, звуки, голоса умиротворенной или мятежной стихии, становясь средством эмоцио-нально-рефлексирующей нагруженности стиха, психологического параллелизма и т. д.» [7, с. 87]. Краски, звуки, голоса природы приобретают, как уже было отмечено выше, особые, эмоционально-насыщенные, чувственные, смыслы в жизненных экзистенциях женщин-поэтесс. Так, например, в стихотворении известной лезгинской поэтессы С. Керимовой «Йифен ванер» («Ночные голоса») развернута душевная форма, в семантических определениях которой являются определенные мгновенья, отрезки жизни «я». Представление жизненных мгновений лирического «я» выстраивает линию определенных позиций - ночь, тишина, одиночество, - каждая из которой с разных точек отсылает к одним и тем же экзистенциям жизни души. Развернутые в семи строфических строениях эти экзистенции исходят из единого «сердечного ядра», присвоенного наименованием «я».
Лирическая героиня в одиночестве погружена в раздумье. В ночной тишине ей иногда слышны голоса, которые, слившись с ритмами жизни, заряжаются ее энергией. Обратное их возвращение в поле зрения выстраивает цепочку определений, несущих негативный заряд жизненного бытия: зарул (тоскливый), гъарик (унылый), перишан (грустный):
Йифен ванер зарул, гъарикI, Фикирар хьиз перишан, Кукуп1дин къуш, гудани заз Шадвилерин са лишан? [5, с. 108]
Ночные голоса, тоскливые, унылые, Как мысли печальные.
Кукушка, известишь ли меня, О знаках счастья1.
Ночные голоса исходят от животных природного мира. Животные – светлячок, лягушки, волк - в семантических определениях составляют лирический сюжет произведения. Это означает их нахождение в жизненном пространстве души, в пределах которых образные формы животных приобретают иное, не свойственное их природной, объективной фактичности, содержание. Как пишет Г. Зиммель, «восход солнца, который не видит ни один человеческий взор, не делает мир ни более ценным, ни более возвышенным, потому что в его объективной фактичности вообще нет места для этих категорий. Однако если только художник внесет в свое изображение этого восхода свое настроение, чувство формы и цвета, свои выразительные способности, то мы рассматриваем это
Общество
Общество. Среда. Развитие № 1’2023
произведение <…> как обогащение, как рост ценности бытия вообще» [2].
Из образных форм, впавших через голоса во внутренний мир лирической героини, животных выстраиваются некие ассоциативные поля, в линиях размещения которых движутся эмоционально напряженные прочувственные силы («струны сердца»). Песня светлячка вызывает волны мыслей:
<…> Секинардан куь маниди
Зи хиялрин лепеяр?
Успокоит ли ваше пение Волны моих мыслей?
Из звуков кваканья лягушек, которые требуют от луны чувства любви, изливаются мысли одиночества:
<…> Агакь тийиз кIанидав гъил, ХьанватIа икI йиф гъарикI?
Не успев дойти до любимого, Стала ли ночь столь тоскливой?
Рычание волка ассоциируется с глубиной «ямы мыслей», которая никак не заполнится. Лирическая героиня – в поисках одной-единственной песни, которая успокоила бы все боли:
Йифен ванер жезва пара,
РикIин симер юзурдай.
ГьикI илигин са макьамдал, Вири тIалар ксурдай?
Ночные голоса – все больше, громче, Колеблющие струны сердца.
Как сыграть одну мелодию, Которая успокоила бы все боли?
Последовательность природных явлений санкционируется некими универсальными законами, определяющими их функциональные механизмы в циклических движениях мироустройства. Именно из этих законов исходят принципы объективной фактичности природного мира. Объективная фактичность природы проявляется в тотальном равнодушии к внутренним смятениям душевной жизни, в экзистенциальных переживаниях которой уже проецируются субъективные, идеальные реалии природных явлений. Пространственно-временные координаты этих проекций определяются колебаниями чувственно-эмоциональных сил, в линиях соприкосновений которых развертываются жизненные формообразования природного мира. Каждое формообразование располагает определенным способом синтеза душевных моментов. Поэтому развернутые в них структуры пережива- ния определяются в различных ситуациях душевных чувствований.
В стихотворении З. Касумовой «Марф къвадайла» («Когда льется дождь») субъективная позиция развернута в неполных неустойчивых линиях жизненных сил. Из жизненного пространства выведено все, что имеет отношение к светлому, радостному. В результате душевная жизнь замыкается в «прохладных» («серин»), эмоционально напряженных моментах, в точках соприкосновения которых определяется позиция явленной в наименовании «я» лирического начала. Сердце лирической героины – очень холодное, ее мысли, раздумья – очень глубокие. Причина – льющийся дождь:
Марф къвадайла акI жеда заз, Чилер – цавар шедайди хьиз.
Адахъ галаз цавараллай
Гъамар чилел къведайди хьиз [4, с. 176].
Когда льется дождь, мне кажется, Земли и небеса плачут.
И вместе с ним [дождем],
Невзгоды спустятся [с небес]
на землю.
Последовательность композиционных структур произведения определяется в линиях развертывания позиции лирического начала. В результате открывается жизненная драма, которая разыгрывается в слияниях внутренних (душевных) и внешних (природных) явлений бытия. Само словосочетание «марф къвадайла» («когда льется дождь») вырывает дождь из временнóго порядка настоящего, выводит его из состояния фактической данности. В результате дождь превращается в некий знак, символ, захватывающий душевные порывы «я» во всех линиях его жизненного пространства. Каждый раз, когда дождь идет, лирической героине кажется, что, «земля, небеса плачут»:
Марф къвадайла акI жеда заз, Чилин ахмур къведайди хьиз.
Цав шедайла акI жеда заз,
Инсанарни шедайди хьиз [4, с. 177].
Когда льется дождь, мне кажется, Это есть порицание земли.
Когда плачет небо, мне кажется И люди плачут.
Таким образом, в стихотворении З. Ка-сумовой «Марф къвадайла» («Когда льется дождь») отдельное природное явление – дождь, включенное в особо организованный грамматический строй (деепричастная форма глагола) выводится из природ- ной стихии (фактичности), в результате оно, уже в качестве концентрированного вербального знака, включается в жизненное пространство лирического «я». В просторах жизни образ дождя раскрывается, вследствие чего его структурные компоненты встраиваются в определенный ряд, параллельно с которым протягивается линия жизненных мотиваций. Из форм схождений образных характеристик дождя и моментов души исходят смыслы, которые, будучи включенными во временной порядок настоящего, синтезируют лирическую тему произведения.
В произведении поэтессы Р. Гаджимурадовой «Авахьзава зулун пешер» («Падают осенние листья») также из природного мира выведено отдельное его явление – осенние листья, которые в образной форме всецело становятся достоянием внутреннего мира лирического «я». В жизненном пространстве осенним листьям присваивается форма «авахьзава» («падают»), через сущностный смысл которой в их образное строение вносится определенный экзистенциальный смысл. Для раскрытия этого смысла в стихотворении развернуто содержательно-композиционное пространство, за пределы которого выведен образ лирической героини.
Если легший в основу стихотворения З. Касумовой «Марф къвадайла» («Когда льется дождь») прием параллелизма позволяет раскрыть образные смыслы дождя в моментах судьбы лирической героины, в биениях которых и развертывается экзистенциальная драма, то в произведении Р. Гаджимурадовой «Авахьзава зулун пешер» («Падают осенние листья») лирическое начало размыто, как следствие не обозначено именем «я». Его жизненная основа перенесена в образ листьев, в «моментах судьбы» которого раскрывается экзистенциальный смысл бытия.
Осенние листья появляются в различных ситуативных моментах: то они падают, то улетают, то шумят. Каждая форма проявления их образа вызывает определенные ассоциативные события, которые сведены к одному единственному вопросу: грустны ли, счастливы ли листья? Стихотворение начинается и заканчивается этим вопросом. Таким образом, в «моментах судьбы» листьев проецируется определенный эпизод, мгновенье душевной организации, носителем которой может быть только лирический герой:
Авахьзава зулун пешер…
Пашман ятIа, шад ятIа?
Лув гуз физва сад-сад, вад-вад, Пешер белки фад ятIа? [1, с. 9]
Шелестят листья:
Листья на земле, под ногами. На земле еще осень, Ах, знают ли звезды?
Стихи, посвященные природному миру, встречаются и в творчестве Г. Ибрагимовой. Каждое схваченное взглядом лирического «я» явление, оторвавшись от стихии природы, попадает в его внутренний мир, следствием чего облагается субъективными формами душевной жизни. В содержательных наполнениях этих форм природные явления сплетаются с эмоционально-насыщенными чувственными силами души. Из этих сплетений синтезируются образные смыслы природных фактов, которые определяют позицию «я» в светлых окрасках.
В сборнике Г. Ибрагимовой «КIанда заз рагъ» («Люблю я солнце») целый раздел занимает пейзажная лирика. Раздел называется «Вуч гуьзел я, тIебиат» («Как красива природа»). В стихотворениях поэтессы природа выступает как неиссякаемый источник душевных вдохновений, в переживаниях которых лирическое начало приобретает определенные вербальные формы. В стихах часто встречаются суждения: «как я люблю», «как мне нравится», «как мне приятно», «как красива».
В пейзажной лирике Г. Ибрагимовой значительное место занимает образ весны. Весна ассоциируется с определенными формами миропорядка, организованными в соразмерных, гармоничных сочетаниях ее внутренних реалий. Содержательная полнота этих форм определяется линиями следования смыслов: красота, обилие, смех, песня, солнце, урожай, цветы, сады и т.д. В этом отношении интерес представляет стихотворение «Пагь ашукь я зун…» («Ах, как я влюблен...»).
Стихотворение состоит из четырех строф, каждая из которых начинается со слов «Вуч дамах гва…» («Как горды…»), а заканчивается стихом «Пагь, ашукь я зун рикIивай и чIавал» («Ах, как же я от всего сердца люблю это время»). Таким образом, содержательно-композиционные осно вы четверостиший замыкаются в линиях чувственно-эмоциональных напряжений, которые разряжаются на «окрашиваниях» природных явлений весеннего цикла. При этом образ весны имеет одну и ту же окраску – светлую, через цветовые оттенки которых природный мир включается в композиционное пространство четверостиший.
Общество
Каждое явление весны раскрывается в окружении соответствующих и по содержанию, и по цветовому оттенку вербальных конструкций: «нивы, которые готовятся к урожаю»; «воробьи, которые с гордостью поют песни»; «радужные цветы колышутся на ветерке»; «цветущие сады горды, горы, которые стоят гордо»; «небеса, на которые солнце рассеялось» и т.д. Все это вызывает у лирической героини восторг:
<…> Вуч дамах гва мани лугьур нуькIверив, Шагьвардал ян гузвай алван цуькверив, Цуькверилай элкъвезвай кул чIижерив, Пагь, ашукь я зун рикIивай и чIавал [3, с. 33].
Как горды – утро этой весны, Эти пашни, плодородные, урожайные,
Красавица, которая стоит у окна.
Ах, как же я от всего сердца люблю это время!
Развертывание различных фактов природы в акте одновременности полагает определенность позиции лирического начала в точке «здесь и сейчас». Из этой позиции направляется взгляд на внешний мир. Из внешнего мира вызываются факты, которые, зарядившись душевней энергией, складываются в картину весны, раскрывающуюся уже не столько как природная фактичность, сколько как образ духовного вдохновения.
Тема природы занимала значительное место и в лезгинском поэтическом творчестве 1960–1980-х гг. Превращенные в недрах этнопоэтической мысли в символические знаки природные факты
Список литературы Мир природы в творческой рефлексии лезгинской женской поэзии 1990-х годов
- Гаджимурадова Р. Не гасни, моя звезда. - Баку: Азербайджан нешрияты, 2011. - 150 с. (на лезг. яз.).
- Зиммель Г. Понятие и трагедия культуры. - Интернет ресурс. Режим доступа: https://www.libfox.ru/61338-g-zimmel-ponyatie-i-tragediya-kultury.html.
- Ибрагимова Г. Люблю я солнце: стихи. - Махачкала: Мавел, 2015. - 160 с. (на лезг. яз.).
- Касумова З. Море каплей. - Баку: "Азербайджан", 2016. - 264 с.
- Керимова С. Еще одна весна. Стихи, песни, поэмы. - Баку: "Ziya-Nurlan", 2003. - 218 с. (на лезг. яз.).
- Пигалев А.И. Культура как целостность: (Методологические аспекты). - Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 2001. - 468 с.
- Темирханова Г. Современная лезгинская поэзия. - Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1988. - 127,[2] с.
- Эпштейн М.Н. "Природа, мир, тайник вселенной.".: Система пейзажных образов в русской поэзии. - М.: Высшая школа, 1990. - 303 с.