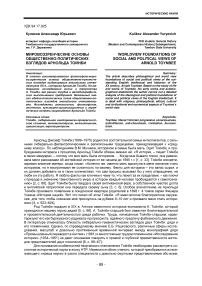Мировоззренческие основы общественно-политических взглядов Арнольда Тойнби
Автор: Куликов Александр Юрьевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 12, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются философско-мировоззренческие основы общественно-политических взглядов выдающегося английского интеллектуала XX в., историка Арнольда Тойнби. На материалах исследований жизни и творчества А. Тойнби, его ранних трудов и автобиографичен ских высказываний предпринят детальный анализ идейно-политических основ общественно-политических взглядов английского интеллектуала. Исследованы религиозные, философские, этические, культурно-цивилизационные и экуменические аспекты мировидения Арнольда Тойнби.
Тойнби, либеральное викториански-прогрессист-ское сознание, антимилитаризм, антишовинизм, цивилизация, европоцентризм
Короткий адрес: https://sciup.org/14935979
IDR: 14935979 | УДК: 94:17.025
Текст научной статьи Мировоззренческие основы общественно-политических взглядов Арнольда Тойнби
Арнольд Джозеф Тойнби (1889–1975) родился в состоятельной семье интеллигентов, с сильными либерально-филантропическими и религиозными традициями, принадлежавшей к «среднему классу». По наблюдениям В.М. Мучника, историком в семье была мать, Эдит Тойнби, и пробуждением интереса к прошлому Арнольд Тойнби обязан именно ей. «Я историк, – пишет Тойнби в своих мемуарах, – потому что моя мать была историком.... Когда мне бывало плохо, она развлекала меня рассказами об английской истории от ее начала до 1895 г.» [1, с. 33]. Тойнби конкретизировал влияние матери, когда писал: «Конечно же, именно мать вдохнула в меня желание стать историком, но я воспринимал ее склонность по-своему. Факты для историка – это запас сырья, и он должен добывать их в таких количествах, что сам процесс вызывал бы у него отвращение, не люби он эту работу. Я люблю факты как ключики к чему-то, что лежит за их пределами, – как ключи к природе и значению таинственного мира, в котором каждый человек пробуждается к самопознанию» [2, с. 88]. Эдит Тойнби была тверда в своей англиканской вере, а собственное чувство долга и английский патриотизм она передала своему сыну [3, с. 6]. Особое впечатление на Арнольда Тойнби произвело появление в лондонской квартире родителей в 1898 г. 4 томов серии Фишера Унвина «История наций». Вот что писал об этом Тойнби: «Я имел вполне благоприятное окружение, для того чтобы сознание мое проснулось на рубеже 9–10 лет и призвало меня стать историком» [4, с. 623–624].
Род Тойнби подарил в XIX в. Англии известного историка-экономиста А. Тойнби, который приходился нашему герою дядей [5, с. 66]. А. Тойнби-старший был известен благотворительной и просветительской деятельностью среди рабочих. Труды, написанные Тойнби-старшим, характеризуют его как буржуазного радикала-прогрессиста, идейного предтечу фабианского движения. В литературе отмечалась близость либерально-гуманистических взглядов двух Тойнби: дяди и его племянника. Однако, по справедливому мнению Е.Б. Рашковского, различные сферы исследования, масштаб и довольно протяженный временной интервал между монографией дяди «Промышленный переворот в Англии» (1881) и многотомным трудом племянника «Исследование истории» (1934–1961) не дают основания говорить о прямой и глубокой преемственности взглядов представителей двух поколений [6, с. 68–67].
Для понимания особенностей творческого становления Тойнби необходимо рассмотреть состояние исторической науки в эпоху НТР. Изменился облик ученого, который преобразился из всезнающего «жреца науки» в узкого специалиста с довольно смутными представлениями обо всем, что за пределами его компетенции [7, с. 67]. Вот что вспоминает Тойнби о своих ранних соприкосновениях с этим процессом: «В детстве приходилось мне время от времени бывать в доме крупного профессора одной из физических наук. … Шли годы, и на полки [хозяина квартиры. – А.К.] вторгались один за другим специализированные журналы, не было единства в их содержании и, воистину, никакой связи между смежными статьями.... Эти периодические издания и были самой воплощенной в книжную продукцию Индустриальной системой с ее разделением труда и стремлением к максимальному производству механическим образом сработанных статей» [8, с. 67–68].
Упоминая о детских годах, Арнольд Тойнби выражает удовольствие по поводу того, что родился еще в то время, когда основами воспитания и образования в состоятельных семействах Англии были религия и изучение древних языков. Мать Арнольда Тойнби и его дядя Гарри Тойнби развивали в Арнольде с самого раннего детства навыки запоминания текстов, в первую очередь церковных. Уильям Макнил приводит характерные факты: «Дядя Гарри давал несколько пенни за то, чтобы племянник заучивал тексты из Старого и Нового Завета» [9, с. 7]. По наблюдениям академика Е.А. Косминского, религия и Библия остались с Тойнби на всю жизнь, влияние религиозных представлений и настроений не ослабевало, а возрастало в процессе его творчества [10, с. 289].
Благодаря личным способностям Тойнби был принят в привилегированную среднюю школу. Здесь он мог заниматься свободно, один, без посторонних наблюдателей. Впоследствии в письме к матери он напишет, что в школе был очень одинок [11, с. 9]. С 1902 по 1907 гг. Тойнби учился в Винчестерском колледже. Источником, из которого Тойнби черпал вдохновение, было творчество античных, особенно греческих авторов. В закрытой аристократической школе, а потом в Оксфордском университете Тойнби заслужил свои первые лавры как образцового «классика». Античная поэзия и проза, история и мифология фигурируют в его работах наряду с Библией [12, с. 289]. К образам Библии и античности со временем добавились впечатления от ряда творений западноевропейской литературы Нового времени: «Потерянного рая» Мильтона, «Фауста» Гете, творений Шекспира, Шелли, Блейка, Мередита.
Особенно сильное впечатление произвел на него французский поэт Поль Валери, который в будущем будет так же тяжело переживать годы Первой мировой войны, как и Тойнби [13, с. 289]. Значительно позже Поль Валери напишет: «Я иронически сравнивал самого себя с монахом V в. в его келье, который, слыша, как гибнет цивилизованный мир, продолжает вопреки всему старательно и прилежно слагать бесконечную латинскую поэму в трудных и туманных гекзаметрах» [14, с. 5]. Философская идея творчества Валери была близка Тойнби: игра жизни и смерти, прерывности и непрерывности бытия, времени и пространства, пунктуальность индивидуальной жизни, непрерывность мировых процессов [15, т. 3, с. 125]. Природа в творчестве Валери неразрывно связана с душевным строем. Красной нитью в творчестве поэта прослеживается идея гармоничного слияния человеческих чувств и движения вод, трав, облаков. В диалоге с философом Дайсаку Икедой Арнольд Тойнби на закате своей творческой деятельности будет отстаивать эту идею – идею единства человека и природы, спасения человечества от последствий технологий и борьбы с загрязнением среды путем сотрудничества в мировом масштабе сторонников всех мировых религий и философских воззрений [16, с. 49].
Размышления о преходящем характере всех земных цивилизаций возникли у Тойнби рано, во время его путешествия по Востоку [17, с. 289–290]. В 1911–1912 гг. Тойнби в качестве студента Британской археологической школы в Афинах посетил Грецию, Италию, Турцию, знакомясь, в частности, с археологическими раскопками памятников только что открытой Эгейской культуры [18, с. 68] и сравнивая это прошлое с современной ему Англией – «владычицей морей» [19, с. 290]. Здесь произошло первое столкновение английского либерала с реальной действительностью: он с ужасом видел следы резни мусульман на Крите [20] и был очевидцем начала Балканских войн [21, с. 35–36]. К концу своего девятимесячного пребывания в греческих городах Тойнби с неожиданным удивлением открыл для себя международную политику как совокупность сложных и противоречивых отношений между государствами, нациями, культурами [22, с. 218].
Возвратившись из путешествия, Тойнби в 1913 г. женился на Розалин Мюррей, дочери известного специалиста по античной истории Гилберта Мюррея, одного из виднейших пропагандистов идеи создания Лиги Наций [23, с. 37]. В 1913 г. Тойнби был назначен тьютором в Оксфорде, преподавателем греческого языка, литературы и истории. Е.Б. Рашковский видит в Тойнби мыслителя идеалистического, считающего историю духовной культуры основополагающей сферой истории как таковой [24, с. 69]. Вот как писал сам Тойнби в 1947 г. о том, что дало ему в свое время штудирование античной истории: «Классическое образование, я уверен, – бесценное сокровище. Уцелевшие источники для изучения греко-римской истории не только поддаются количественному учету, но и очень удачны с точки зрения качества: они хорошо сбалансированы по содержанию. Статуй, поэм и философских трудов здесь куда больше, чем актов и договорных текстов; и это сообщает историку, воспитавшемуся на греко-римской истории, чувство пропорций...» [25, с. 68–69].
Период жизни Тойнби, охватывающий обучение в школе, университете и начало научной деятельности, отмечен сильным влиянием на него имперской европоцентристской идеологии, которая провозглашала исключительность, правильность и самодостаточность, исключая любую возможность сопоставления с иными культурами [26, с. 24–25]. Именно на эти годы творчества Тойнби приходится наивысший расцвет Британской колониальной империи [27, c. 332]. «В течение столетия, вплоть до августа 1914 г., – столетия, открывшегося победой Великобритании при Ватерлоо, – значительно позже вспоминал Арнольд Тойнби, – мир выглядел стабильным и для меньшинства населения Соединенного королевства, принадлежащего к среднему классу общества, жизнь представлялась не внушающей никаких опасений» [28, с. 324]. Таким образом, к августу 1914 г. строй его мысли, как и большинства представителей европейской либеральной интеллигенции той поры, был викториански-прогрессистским, что означало, в частности, видение истории в европоцентристской перспективе.
Трагедия 1914 г., вырвавшая Тойнби из комфортного мира университетской науки, впоследствии описывалась им как важнейший стимулятор интереса к истории в ее целостности. В первые же дни войны А.Дж. Тойнби привлекается в МИД для научного консультирования по вопросам истории, политики и демографии Ближнего Востока. В руки Тойнби поступает богатейший комплекс источников по текущей истории, за каждым из которых стояли ужасы и страдания сегодняшнего дня [29, с. 69–71]. Видения классической древности встали перед ним, и страшное кровавое столкновение начала XX в. напомнило ему Пелопоннесскую войну. Он почувствовал себя современником Фукидида, описавшего эту катастрофу греческого мира [30, с. 290].
Антимилитаристские настроения Тойнби находили опору в модной в то время в Оксфорде интуитивистской философии А. Бергсона, чьи труды «Творческая эволюция» и «Два источника морали и религии» привлекли к себе внимание английского интеллектуала. Для обоснования своих положений Тойнби прибегает к реинтерпретации идей А. Бергсона, делая большой акцент на понятиях «динамическая» и «стоическая» формы религии и государства – мировое государство и вселенская церковь.
Еще большее значение имела книга Освальда Шпенглера «Закат Европы», оказавшая огромное влияние и на тойнбианскую концепцию истории, и на его метод. Выдвинутая Шпенглером концепция всемирной истории как генезиса, развития, упадка и гибели локальных культур становится надолго руководящей теоретической идеей Тойнби [31, с. 290]. Принимая цивилизацию как локальный объект изучения, Тойнби полемизирует с немецким теоретиком, не соглашаясь с ним в вопросе невозможности культурного наследия, коммуникаций культур в пространстве и времени. Английский интеллектуал отмечает, что из-за «непрозрачности цивилизаций» невозможно объяснить разнообразие исторических процессов.
Тойнби продолжает политико-теоретические исследования («Национальность и война», «Новая Европа»). Публицистические работы английского исследователя полны ощущения абсурдности всего происходящего в мире, что было не свойственно либеральному сознанию конца XIX – начала XX в. Откликаясь на геноцид армян 1915 г., Тойнби писал: «Впервые в жизни мы ощущаем полную неопределенность относительно будущего.... Мы вступили в борьбу ... с родственным народом, против которого ничего не имеем» [32, с. 71]. «Немецкая война началась тем, что посеяла ужас и разобщение в непривычных к этому местах – в мирной Бельгии и индустриальном сердце Франции» [33, с. 16].
По утверждению Е.Б. Рашковского, Первая мировая война привела Тойнби к далеко идущим пессимистическим выводам. Утвердившись в своем отвращении к национализму, расизму и международному разбою, Тойнби стал склоняться к мнению о регрессивном характере нового времени. Это подталкивало его к психологизирующему толкованию истории. Последнее обусловливалось особым мировоззренческим состоянием европейской интеллигенции, которое Тойнби передал такими словами: «Впервые в нашей жизни мы оказались в полной неопределенности относительно будущего. Но в Европе XX в. мы приучились смотреть вперед, тщательно изучать лежащее перед нами, затем выбирать свой путь и следовать ему постепенно до конца.... Мы были насильственно вырваны из плодотворной, созидательной, напряженной работы, требовавшей лучшего от нас и делавшей нас лучше, были втянуты в борьбу за существование с таким же народом, как и мы, с которым мы не имели ссоры» [34, с. 2]. Ужасаясь абсурдности, иррациональности происходящего, несовместимости войны со сложившимися устоями цивилизации, А. Тойнби констатирует в своей работе «Национальность и война»: «Психологическое опустошение, полученное от войны, еще более страшное, чем материальные потери. Война выносит на поверхность дикий субстрат человеческого духа, сметает укоренившиеся привычки, построенные поколениями цивилизации» [35, с. 3]. Считая непосредственным виновником войны Германию, он, однако, пишет об абсурдности, иррациональности духа реванша и мести [36, с. 3].
Во время Первой мировой войны А. Тойнби был абсолютно убежден, что регулирование международных отношений не является всецело прерогативой министерств иностранных дел и Госдепартамента США. Произошла удивительная метаморфоза в умах английских интеллектуалов, которая затронула и самого Тойнби, ранее занимавшегося преподавательской деятельностью: «На карту ставилась наша собственная судьба и судьба наших детей, а также гражданской ответственности. Нам необходимо было после возвращения к нашей частной жизни по-прежнему иметь возможность что-то предпринимать в области международных дел, которые, как теперь казалось, оставались варварской и опасной сферой деятельности современного человека» [37, с. 63].
В 1925 г. Тойнби поступил на службу в Королевский институт международных отношений, где составлял аналитические обзоры политических событий в мире. «Веря всей душой, что интеллектуальная работа есть необходимая основа для действия, я всегда чувствовал, что, занимаясь «Обзорами», я не просто помогаю разоблачать главное зло нашего времени (да, собственно, всех времен и народов), но я помогаю попыткам других людей подавить это жестокое изобретение, прежде чем оно уничтожит нас, его создателей» [38, с. 83]. С 1934 г. помимо множества статей и книг Тойнби опубликовал многотомное «Исследование истории», принесшее ему мировую славу. В 1955 г. Тойнби оставляет службу и посвящает себя полностью историческим исследованиям.
Арнольд Тойнби сопоставлял свою жизнь с основными моментами европейской истории XX в., глобальными изменениями ценностного базиса европейской цивилизации. В своем творчестве он эволюционно пережил радикальные изменения своего мировоззрения, которые наложили значительный отпечаток на формирование его общественно-политических взглядов. Обладая в начале своей жизни взглядами, ограниченными социальными и политическими границами, он постепенно перешел к глобальному мировоззрению. Создавая новую картину всемирно-исторического процесса, опираясь на О. Шпенглера, который предлагает пессимистическую картину развития европейского общества, Тойнби, хотя и находился под влиянием катастрофических последствий Первой мировой войны, пытался преодолеть трагизм поиском новых перспектив. Этой перспективой для Тойнби стала «вселенская Церковь», которая впитала в себя весь духовный пласт цивилизации и стала своего рода «куколкой, из которой некоторое время спустя возникнет новая цивилизация».
Оптимистическое в целом учение Бергсона о творческой эволюции и мрачные эсхатологические предсказания автора «Заката Европы» оригинально слились в мировоззрении Тойнби, который в этом смысле был продолжателем самобытной национальной традиции, берущей начало от Дэвида Юма, автора «Истории Англии», и плеяды историков-моралистов XIX в.: Говарда Гиббона, Томаса Макколея, Генри Бокля. Христианская мораль, воспитанная в Тойнби его матерью, а также штудирование Ветхого и Нового Завета в детские и отроческие годы значительно повлияли на формирование тех концептов, которые будут присутствовать в его «Исследовании истории».
Ссылки и примечания:
-
1. Цит по: Мучник В.М. В поисках утраченного смысла истории : Генезис и эволюция исторических взглядов А.Дж. Тойнби. Томск, 1986.
-
2. Тойнби А.Дж. Пережитое. Мои встречи / пер. с англ. М., 2003.
-
3. Там же.
-
4. Тойнби А.Дж. Постижение истории / пер. с англ. ; сост. А.П. Огурцов. М., 1991.
-
5. Рашковский Е.Б. Востоковедная проблематика в культурно-исторической концепции А.Дж. Тойнби. М., 1976.
-
6. Там же.
-
7. Там же.
-
8. Цит по: Рашковский Е.Б. Указ. соч.
-
9. McNeill W.H. Arnold Toynbee: a life. New York, 1989. VIII.
-
10. Косминский Е.А. Реакционная историософия Арнольда Тойнби // Проблемы англ. феодализма и историографии сред. вв. М., 1963. С. 285–357.
-
11. McNeill W.H. Op. сit.
-
12. Косминский Е.А. Указ. соч.
-
13. Там же.
-
14. Козовой В.М. Поль Валери. Об искусстве. М., 1976.
-
15. История французской литературы. М., 1959. Т. 3.
-
16. Тойнби А.Дж., Икеда Д. Избери жизнь. Диалог Арнольда Тойнби и Дайсаку Икеды / пер. с англ. Ю.М. Канцура. М., 2007.
-
17. Косминский Е.А. Указ. соч.
-
18. Рашковский Е.Б. Указ. соч.
-
19. Там же.
-
20. В XIX в. греки-критяне неоднократно восставали против турецкого господства и эти восстания сурово подавлялись. Во время восстания 1896–1898 гг., приведшего к автономии Крита, повстанцы жестоко обошлись с турками-критянами.
-
21. Toynbee A.J. Experience. London, 1969. Описываемые события происходят в начале 1912 г. В октябре того же года началась 1-я Балканская война между Турцией, с одной стороны, и Балканским союзом (Греция, Болгария, Сербия
и Черногория) – с другой. В результате этой войны, завершившейся в конце мая 1913 г., остров Крит, принадлежавший Турции, но с 1898 г. автономный под покровительством европейских держав, отошел к Греции.
-
22. Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. М., 1996.
-
23. Мучник В.М. Указ. соч.
-
24. Рашковский Е.Б. Указ. соч.
-
25. Там же.
-
26. Михеев М.И. Проблема взаимосвязи культуры и власти в философии истории А.Дж. Тойнби : дис.... канд. филос. наук : 09.00.03. Тверь, 2003.
-
27. Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории.
-
28. Там же.
-
29. Рашковский Е.Б. Указ. соч.
-
30. Косминский Е.А. Указ. соч.
-
31. Там же.
-
32. Рашковский Е.Б. Указ. соч.
-
33. Toynbee A.J. Armenian atrocities. The murder of nation. London ; New York, 1915.
-
34. Toynbee A.J. Nationality and the War. London, 1915.
-
35. Ibid.
-
36. Toynbee A.J. Nationality and the War.
-
37. Toynbee A.J. The New Europe. Some essays in Reconstruction. London, 1915.
-
38. Тойнби А.Дж. Пережитое. Мои встречи.