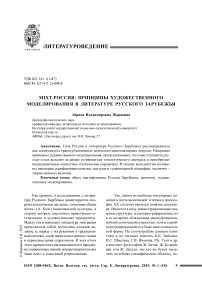Mixt-Россия: принципы художественного моделирования в литературе русского зарубежья
Бесплатный доступ
Тема России в литературе Русского Зарубежья рассматривается как совокупность транссубъективных ментально-имагинативных локусов. Раскрывая принципы художественного моделирования, автор доказывает, что смысл концепта русская земля выходит за рамки устоявшегося топологического дискурса и приобретает нетрадиционные ценностно-эстетические параметры. В основу методологии положены некоторые идеифеноменологизма, постулаты гуманитарной географии, частично - теория мнимых величин.
Образ, квазифеномен, русское зарубежье, хронотоп, художественное моделирование
Короткий адрес: https://sciup.org/149130529
IDR: 149130529 | УДК: 821.161.1(1-87)
Текст научной статьи Mixt-Россия: принципы художественного моделирования в литературе русского зарубежья
Как правило, в исследованиях о литературе Русского Зарубежья акцентируется опора на классическое наследие, «огненные общие места» (А. Блок) национальной культуры, в сторону которых сместились нравственно-эстетические и художественные приоритеты. Между тем изначально литература эмиграции представляла собой достаточно сложное явление, и, наряду с погружением в традиционный контекст, в ней происходил процесс ломки и переосмысления стереотипов. И хотя итоги этого процесса вполне вписываются в парадигму современных знаний, конкретизируются они чаще всего в смысловой ретроспективе.
Так, одним из наиболее популярных понятий в постклассической эстетике и философии XX столетия является понятие симулякра. Имеются в виду деконструированные знаковые структуры, иллюзорно референтные, но в то же время обладающие закамуфлированной онтологической сущностью, хотя и в крайне редуцированной и субъективно осмысленной форме. Не злоупотребляя данным понятием и не пытаясь вписать Б.К. Зайцева, И.С. Шмелева, Г.В. Иванова, Р.Б. Гуля и др. в контекст философии Ж. Батая, Ж. Бодрий-яра или Ж. Делеза, мы все же будем выделять подобные специфические объекты, ис- ходя из феноменологического подхода, присущегосовременной гуманитаристике.
В самом деле, отнюдь не чьей-то злой воле возникли в пореволюционные годы уникальные фантасмагорические феномены: русский Берлин, русский Париж или Харбин, русская Прага … Конечно, они не были ни Берлином, ни Парижем, ни Харбином. Тем более русскими. Вокруг текла веками устоявшаяся жизнь, и погруженные в собственные заботы парижане, берлинцы, пражане, шанхайцы мало думали о «людях русских островков» (Б.К. Зайцев), которые часто воспринимались как непрошенные пришельцы, носители непостижимых духовных устремлений. «А мы поселились в чужой стране целым станом, расползлись по всему миру, да еще пополнились, после войны, новым притоком», – писал Зайцев [9: VII, с. 381].
«Русские кварталы» в Париже, бунинская вилла в Грассе или дом в парижском районе Пасси, многочисленные «гнезда рассеяния» в Балтии, Германии, Чехии, Югославии, Болгарии, харбино-шанхайское сообщество, попытки приобщения к американской культуре – все это предполагало полилингвизм, усвоение иносущных этических кодексов, следование непривычным моделям личного и общественного поведения. В итоге активизировались одновременно две противоположные тенденции: дифференцирующая, направленная на сохранение национальнойсамоидентифика-ции, и интегрирующая, ориентированная на социо-психологическую адаптацию. Так на огромных пространствах Европы, Азии, Америки, Австралии сформировался своеобразный пространственно-временной континуум, некая mixt-действительность, осложненная множеством противоположных значений, большей частью инородных.
Тем не менее, аббревиатура СССР, замаскировавшая «имя» некогда великой империи, не могла уничтожить воспоминаний о родных местах и общем доме, уходящих корнями в вечно живой архетип матери-земли. «Я унес Россию» – так Р.Б. Гуль назвал трехтомные «замогильные записки», полностью опубликованные посмертно в 1989 году.
Они открываются полемикой с высказыванием «какого-то большого якобинца», презрительно отозвавшегося о французах, бежав- ших от ужасов террора. «“Родину нельзя унести на подошвах сапог”. Это было сказано верно. Но только о тех, у кого кроме подошв ничего нет», – считает мемуарист. Вопреки этой сентенции, он утверждает: Шатобриан, герцог Энгиенский, Ришелье и другие, у кого была «память сердца и души, сумели унести Францию» [2: I, с. 8]. Название книги в целом, как и отдельных частей («Россия в Германии», «Россия во Франции», «Россия в Америке»), – еще одно свидетельство специфичности данного феномена, в основу которого положен принцип ментально-образного моделирования во множестве конкретных модификаций.
Как отмечалось, mixt-действительность, обладая спектром заблокированных онтологических параметров, была одновременно феноменом реальным и квазиреальным. П.А. Флоренский, рассматривая подобные двухмерные явления в геометрии (трактат «Мнимости в геометрии»,1922 г.), намечает основные пути в изучении аналогичных явлений. Хотя ученый и предупреждает, что им «делается попытка истолковать мнимые величины, не выходя при этом из первоначальных посылок аналитической геометрии на плоскости», общее направление исследования гораздо шире: «Существует несколько способов подойти к мнимостям» [21, с. 6] и, конечно, не только математического плана. Не случайно опорный материал для своих доказательств П.А. Флоренский, находит, в частности, в сфере поэтического переводове-дения. В самом деле, наличие нескольких переводов одного и того же произведения на один и тот же язык – явление вполне естественное. Выражая творческую индивидуальность переводчика, переведенный текст, конечно, не заменяет подлинника, но вносит в его понимание дополнительные смысловые измерения, которые, говоря словами ученого, «могут и должны быть умножаемы – вовсе не в ущерб истине» [21, с. 7].
Говоря о многообразии принципов художественного моделирования в литературе русской эмиграции, мы – также «не в ущерб истине» – считаем наиболее адекватной формулу поэта Г.В. Иванова – «талант двойного зренья» [10, с. 373]. У поэта эта формула присутствует в сугубо негативном контексте, что, однако, не отменяет ее более многосторонней интерпретации.
Но сначала о позиции самого Георгия Иванова. « Было все – и тюрьма и сума, / В обладании полном ума, / В обладании полном таланта, / В распроклятой судьбой эмигранта / Умираю …» – сказано в одном из последних стихотворений [10, с. 571]. Казалось бы, такие или подобные строки могли писаться человеком, за плечами которого стояли гибель близких или непреходящая угроза собственной жизни. У многих так и было: революция не пощадила единственного сына И.С. Шмелева; за плечами Л. Зурова, Г. Газ-данова, А. Несмелова, В. Смоленского, Ю. Терапиано и др. стояло участие в братоубийственной войне . «Трагедий, смертей, покушений на самоубийство вокруг сколько угодно» – писал Зайцев из Парижа в 1928 году [9: VII, с. 67].
Однако самого Георгия Иванова, некогда петербургского эстета и сноба из окружения М. Кузмина, наиболее гибельные проявления революционного катаклизма по большому счету не коснулись. Конечно, в изгнании он не благоденствовал, но тюрьмы, как и сумы, все же избежал. Поэтому способен породить искреннее недоумение постоянный акцент поэта на образах бездны, пропасти, бездонном колодце, преисподней, могилы, берлоги. Кстати, модель берлоги (если сослаться на западные представления о медвежьем культе в России) наиболее органично включается в русское коннотативное поле: « …Вот вылезаю, как зверь, из берлоги я / В холод Парижа сутулый, сутулый, больной <…> » [10, с. 431]. Или: « Лежу, как зверь больной, в берлоге я <…>» [10, с. 561] и т. п.
И все же говорить о полнейшем отсутствии объективных оснований для столь беспросветно мрачного понятийно-образного комплекса не вполне справедливо. Во-первых, не имея личного опыта ни тюрьмы, ни сумы, поэт общался с теми, кто его имел. Во-вторых, он скептически воспринимал вести об успехах социализма в СССР, видя в них общеевропейскую угрозу тоталитаризма. Для него, как и для остальных зарубежных соотечественников, открытие лагерной темы состоялось еще в 1930-е годы: «Двадцать шесть тюрем и побег из Соловков» Ю. Бессонова (Безсонова) (Париж, 1928 г.), «Россия в концлагере» И. Солоневича (1935 г.) и др. Более того: разрастаясь, «опухоль» ГУЛАГа доставала своими «метастазами» и тех, кто вырвался из большевистского ада, но терзался страхом за оставленных близких. Так, генерал Вишневский, герой зайцевского романа «Дом в Пасси», боится только одного: «<…> если до большевиков дойдет <…> что Машенька cюда едет, к отцу, вот такому, как я – то не только ее не выпустят, а еще в Соловки сошлют» [9: III, с. 214].
Сам же Г.В. Иванов постоянно пишет о соловецких мучениях, будто бы выпавших именно на его долю: « Снега, снега, снега... А ночь долга, / И не растают никогда снега. // Снега, снега, снега... А ночь темна <…> » [10, с. 299]. Нетрудно провести параллель: ледяные равнины Севера и та зона вечной мерзлоты, « стылая земля », где, дорожа своим покоем, спят « нетленные мертвецы » Варлама Шаламова. Получается, что жизненный опыт парижанина, посетителя богемных кафе, и колымского заключенного с «подземным» стажем виртуально совпадает (см.: [6, с. 193–210]). Это была своеобразная психологическая трансгрессия, или, по определению современного философа, – «ГУЛАГ в уме » [18, с. 99–117].
Можно утверждать: «талант двойного зренья» сформировал в сознании поэта-эмигранта модель экстремального выживания.
Разумеется, способностью прозревать за визуальной конкретикой невидимую, гипотетически предполагаемую сокровенную суть вещей обладалне один Георгий Иванов. Этим же качеством, но реализованным в позитивном контексте, можно объяснить совершенно уникальную хронотопологию Бориса Зайцева.
Великая страна, которая для зайцевских героев «кончилась» при подъезде к пограничному Себежу («Путешествие Глеба»), не ушла в небытие. Россия «за шеломенем», за холмом, за горами и лесами – не столько благоденствующая Россия прошлого, сколько идеал будущего, каким он виделся писателю: «Россия Святой Руси». Отсюда твердая убежденность: «Истина все-таки придет из России. Только не под тем обликом. «Святою Русью» – в новых ее формах, в бедности и простоте, тишине, чистоте, незаметно, без «парадов» и завоеваний. Придет новым, более справедливым, человечным, но и выше чело- вечным сознанием жизни, чтобы просветить усталый мир» [9: IX, с. 55].
Для писателя, можно сказать, высветилась обратная перспектива и реализовалась библейская ситуация, в которой некогда оказался Моисей: «<…> Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду; и когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо [тебе]» (Исх.: гл. 33, ст. 22–23). Иначе говоря, увидишь прошлое как будущее; впереди то, что позади. Так можно интерпретировать сказанное пророком. С одной стороны, обратная перспектива срывала покров неизвестности с грядущих дней, но с другой – она отнюдь не ставила предела воспоминаниям, поскольку прошлое, уходящее в глубины рода, семьи, родной земли, было безначальным и бесконечным.
Безусловно, невозможно переоценить предпринятое писателем в 1935 г. паломничество на Валаам, давшее возможность пожить некоторое время в пограничных с СССР Кол-ломяках, подышать воздухом родины. Однако без всякой натяжки можно утверждать: идея России как Святой Руси совершенно естественно могла сформироваться в его сознании помимо паломнических воспоминаний и (как ни парадоксально) без предпринятого путешествия. Писатель шел по пути ментального моделирования образов, и сакральная реальность Валаама предстает как модель надвременнойсверхдействительности, в которой святые мыслеобразы прошлого являются зримыми, чувственно осязаемыми реалиями настоящего: «<…> Взору просторно. И есть что представить себе <…> Возраст всего этого – сотни лет. Корень – Россия. Поле деятельности – огромный край» [9: VII, с. 155]. Пробудившаяся прапамять, которая всегда связана с пред-чувствием и пред-понимани-ем, восполняла пробелы незнания истинным (хотя и на уровне подсознания) знанием-видением .
Зайцев умел находить отзвуки и оттенки святого идеала везде и во всем, что было следствием ценностно-этической установки: «Мы здесь сидим на чужбине, невесело, наша большая задача просто показывать добро настоящее. Наши враги не выносят этого. Им бы хотелось, чтоб здешние русские были как можно мерзей. Чистый облик всегда тяжек» [9: IX, с. 41]. Тяжек, но неуничтожим.
Примером может служить описание одной из православных парижских церквей. Речь владыки Евлогия после Литургии – тихая беседа, «полная живого, внутреннего содержания». Если бы она преподносилась «ораторски», то получилась бы и не русской, и не православной. Своим спокойным убеждением и кротостью «усталый русский иерарх» дискредитировал суету гигантского, «дышащего всеми утонченностями, гастрономиямн Парижа», где в бесконечной борьбе за жизненные блага «кипят, рвутся, грызутся миллионы. Пусть миллионы. У него Истина» [9: IX, с. 45]. Подобное ощущение праведности и смиренномудрия, безусловно, навевалось прапамя-тью о «нищете духа»молитвенников Святой Руси.
Нет ничего необъяснимого и в том, что святорусским смыслом наполнялись для Зайцева образы Италии, тема которой проходит через все его творчество.Свою первую поездку в эту страну он осуществил в 1904 г., и с этих пор итальянские впечатления являлись неисчерпаемым источником вдохновения. «<…> Дивный Божий воздух, изумительная легкость духа, колокольни, монастыри в цветах – вечное опьянение сердца», – писал он позднее [9: III, с. 440]. Не случайны также перифрастические наименования русских и итальянских земель, как бы взаимозаменяемоадекватные. «Место встречи северо-средней Руси с южною», т. е. «щедрые» пространства Тульской, Орловской, Калужской губерний Зайцев называет «Тосканою русской» [9: V, с. 21]; Москва для него – не иначе, как «русская Флоренция», радонежские леса – «великорусская Умбрия», монастырское кладбище на Валааме названо по-итальянски – CampoSanto (Святое поле) [9: VII, с. 174] и т. д. Подобные факты хорошо известны.
В принципе влюбленность в Италию была присуща не одному Зайцеву. Как о прекрасном сказочном сне мечтал о ней И.С. Шмелев, признаваясь И.А. Ильину: «<…> ах! Рим… Слышу твой воздух, детский <…> Италия! …В звуке – сколько! Колыбель там …моя, моя!» [11: с. 156–157]. П.П. Муратов, автор знаменитейших очерков «Образы Италии», посвященных Б.К. Зайцеву (1911–1924), призывал видеть нечто большее: «чисто русский “вопрос” о разрыве интеллигенции с народом», который, по его мнению, стоял в истории этой европейской страны с той же остротой, что и в России. «И здесь, по-видимо-му, заключается объяснение того притяжения между русским и итальянцем, которое объясняли сходством характеров» [12: с. 282–283]. Была и еще одна причина тяги эмигрантов к этим местам: в них протекала суровая жизнь великого флорентийца. «<…> Отец наш, Данте Алигиери Флорентиец, первый эмигрант Европы» [9: IX, с. 240],– выразил Зайцев это общее мнение (см.: [17, с. 442– 451]). «Божественная комедия», по его словам, – «нечто в роде Евангелия» [9: VIII, с. 485]. Напомним: с 1913 г. по 1961 г. писатель периодически работал над переводом «Inferno. “Кольца ада не что иное, как сатурновы круги эмиграции”», – проницательно заметил Мандельштам в преддверии собственного ГУЛАГа [14, с. 242].
Так в процессе моделирования Зайцевым образа России как Святой Руси произошло практически прямое отождествление русского и итальянского локусов в их сакральной ипостаси: «Киев, Валаам, на высоком холме Перуджии, у подножия которого этрусский некрополь, а дальше святая гора и городок Ассизи, разные Беттоны, Порциункулы, св. Мария Ангельская <…> И наше родное – в воздухе Умбрии». Поэтому сокровенные движения «русской религиозной души» и итальянской понимание святости оказались созвучны. «Да, радостно узнать, что край святого (речь идет о св. Франциске. – Л. Ж. ) все такой же, как и надо, и душа его отзывается голосу Руси вечной» [9: IX, с. 242].
Показательно, что одним из первых произведений, написанных Зайцевым вне родины, стала повесть «Преподобный Сергий Радонежский», опубликованная в парижском издании в 1924 году. Впрочем, праведник, благословивший Дмитрия Донского на Куликовскую битву, особо почитался всеми эмигрантами. Но своеобразие зайцевского повествования заключается в том, что через его повествование красной нитьюпроходитсопоставление Сергия Ра-донежскогос Франциском Ассизским, который из всего сонма католических святых был наиболее известен и любим в России.
При этом писатель не просто отдает должное двум подвижникам христианской церкви. Он выявляет оппозиционность их психоповеденческих моделей: эмоциональность святого Франциска, переходящую в экзальтацию, и преобладание разумной сдержанности в характере преподобного Сергия. Говоря о последнем, автор пишет: «В нем не было экстаза, как во Франциске Ассизском. Если бы он был блаженным, то на русской почве это значило б: юродивый. Но именно юродство ему чуждо» [9: VII, с. 27]. Но точно такжеие-ромонаху Сергию была чужда и миссионерская деятельность: «<…> ни он и ни ученики его не странствовали по великорусской Умбрии с пламенною речью и с кружкою для подаяний <…> Св. Сергий, православный глубочайшим образом, насаждал в некотором смысле западную культуру (труд, порядок, дисциплину) в радонежских лесах, а св. Франциск, родившись в стране преизбыточной культуры, как бы на нее восстал» [9: VII с. 37].
Однако антитеза Восток – Запад, о которой часто пишут на основе сопоставления двух образов, у Б.К. Зайцева не выходит на первый план. Ему важнее метафизические параметры святости:апология евангельской бедности и стремление к обожению. Опираясь на П.А. Флоренского, можно сказать, что в общем христианском контексте русский и итальянский святые выступают как евангельская «двоица», которой Христос дал власть побеждать зло и силу исцелять страждущих [22: с. 419–420].
Реализовался ли в творчестве Зайцева принцип «двойного зренья», о котором писал Г. Иванов? Безусловно. Но все-таки эти авторы олицетворяют своим творчеством «минус» и «плюс», contra и pro как крайности, между которыми располагались иные модели художественного хронотопа.
В этой связи, помимо опоры на трактат П.А. Флоренского «Мнимости в геометрии», весьма перспективным представляется ориентация на постулаты так называемой гуманитарной географии, или метагеографии. Д.Н. Замятин, введший данное понятие в российскую науку с опорой на труды Г. Башля-ра, Г. Гачева, Р. Генона, В. Подороги, М. Элиаде и др., пишет: «Гуманитарная география – междисциплинарное научное направление, изучающее различные способы представления и интерпретации земных пространств в человеческой деятельности, включая мысленную (ментальную) деятельность». К ее базовым категориям относятся география человека (антропогеография), культурный ландшафт, пространственный миф и др. [8, с. 26–27]. В аспекте нашей темы основной акцент целесообразно делать на когнитивном ответвлении: географии имажинальной, или образно-воображаемой. Если говорить об имажинальной географии применительно к художественной литературе в целом, то следует иметь в виду не только абстрактно понятую ментальную активность, но наличие конкретного творческого воображения, использование различных средствобразно-ре-чевой выразительности.
В этом отношении художественное моделирование в Русском Зарубежье многовариантно. Иногда образ России «сжимался» до однозначной эмблемы, локального конструк-та,символа (культ русской березки). Описание же «русской чужбины» большей частью под-разумевало«минусовую» основу:упор на знаковых деталях, которые безвозвратноушли в прошлое. Так, « из всей – давно оставленной – России» поэту Ивану Елагину не хва-талодеревенского окна: « Оно мне вспоминается доныне, / Когда в душе становится темно – / Окно с большим крестом посередине, / Вечернее горящее окно » [5, с. 11]. У Ф.А. Степуна окно сжалось до «родного подоконника»: «Любя Европу, мы, “русские европейцы”, очевидно, любили ее только как прекрасный пейзаж в своем “Петровом окне”: ушел родной подоконник из-под локтей – ушло очарование пейзажа » [12: с. 293]. Для Бунина пряный воздух французского Грасса ассоциировался с запахом степного разнотравья и незабвенным ароматом антоновских яблок. Зайцеву во время поездки на Валаам Колло-мяки напомнили родное Притыкино, и он также передавал ощущение родины через «совсем русские» запахи: пахло покосом, лошадью, ржами, болотцем, сосной, березой [9: XI, с. 93] и т. п.
Обратим внимание: в перечислении символов родного «гнезда» присутствует как материально визуальное, так и дематериализованное авизуальное начало. Причем последнее постепенно занимало доминирующие позиции, что, на наш взгляд, адекватно иллюстрируется судьбой лексемы дым, вырвавшейся из-сакраментального для каждого русского сочетания дым Отечества. Но это была поистине макиавеллевская «эмансипация».
Напомним: во французской живописи с конца XIX века активно заявило о себе направление фумизма (по-французски – дымизма ), положившее начало художественной «дымис-тике» как системе манипулятивных симуляк-ров(в современном значении термина). Кредо фумистов – «пускать дым в глаза», т. е. выдавать ничто за нечто. И за такой «дымовой завесой» часто скрывались цинизм и фиглярство, непристойные мистификации, беспринципное пародирование общепризнанных шедевров (общеизвестна «Джоконда с трубкой», или «дымящаяся Джоконда» А. Сапека).
Впрочем, деструктивная роль квази феноменов была предугадана уже И.С. Тургеневым в романе «Дым» (1867). Именно так писатель характеризует депрессивное душевное состояние героя, ставшего пленником ложных чувств и понятий: «Дым, шептал он, дым <…> дым, дым, и больше ничего. А собственные стремления, и чувства, и попытки, и мечтания? Он только рукой махнул». Тем не менее«бело-ватые клубы» паровозного дыма, смешанные с более темными, бесконечною вереницей мчались вдоль поезда, провожая Литвинова из Германии в Россию, где ждали истинная любовь и теплота родного дома [20, с. 397 – 398]. Сравним: Надежда Тэффи, покидавшая страну, видела только «черный дым», который стлался за пароходом: «<…> тихо, тихоуходит от меня родная земля» (цит. по: [12, с. 6]).
В итоге некогда прочно спаянный понятийный комплекс дым Отечества подвергся тоталитарному разрушению на всех уровнях бытия и сознания: историческом, социально-бытовом, психо-эмоциональном. Так, А.П. Шполян-ский (Дон-Аминадо), сетуя на то, что « и скрип зеленой ставни / И блеск оконного окна» он «сложил у парапета / Резного Сенскаго моста », назвал книгу стихов, выпущенную парижским издательством в 1921 г. «Дым без отечества». « Ты легким дымом голубеешь, / И ты живешь, и не живешь ...», – сказано им о «бескрылой» столице мира [3, с. 52].
Более того, дым стал атрибутом гибели, пополнив семантический ряд танатологическими синонимами: зола , пепел , персть , прах, тлен и т. п. У Арсения Несмелова (И.А. Митропольского) «дымы, дымы, дымы» поднима-ютсянад «Везувиями крыш», превращая человеческое жилище в грозный вулкан: «Знаю, черная лопата, / Волосатая рука / Грозного Истопника / В печь меня швырнет когда-то. / И как белый дым – в зарю / Легко-вейно воспарю! » ([16, с. 255]. Стихотворение называется «Дымы». О «дымнологии» в русской литературе XX века см.: [7]). Так сформировался широкий спектр трагических экзистенций. «Дом превратился в дым…» – обобщила Анна Ахматова [1, с. 371].
Но даже и подобный ненадежно-призрач-ный(«дымный»)дом для многих оставалсяне-досягаем. З.А. Шаховская отмечает, что Леонид Зуров практически был прикован к семейному гнезду Буниных, так как «уйти ему, и в переносном и в прямом смысле слова было некуда» [23, с. 274]. Достойное прибежище писатель нашел лишь в некрополе Сент-Же-невьев-де-Буа, где над его могилой, по воспоминаниям мемуаристки, растет березка. «Может быть, в Псковско-Печерской обители живет какой-нибудь инок, его знавший, и молится об упокоеньи автора “Отчины”» [23, с. 276].
Тем не менее литераторы-эмигранты все же составляли ограниченный контингент ипо возможности взаимовыручали друг друга. Но что тогда говорить о сотнях тысяч безвестных русских людей, уезжавших буквально в никуда? Парижский журнал «Часовой» с 1928 г. регулярно публиковал в разделе «Незабытые могилы» сведения об умерших во Франции россиянах. Аналогичная информация появлялась в изданиях Нью-Йорка («Новое русское слово»), Торонто («Вестник»), Харбина («Русское слово»), Белграда («Новое время»), других эмигрантских центрах. Воспроизведем некоторые записи: «Бондаренко Владимир (1901 – 19 янв. 1931, Словения, Югославия). Торговец птицей. Убит в окрестностях г. Вировитица» [15: I, с. 371]. Или: «Вьюхин Петр Борисович (1899 – 6 сент. 1927, Харбин). Подрядчик лесных работ Казанцева. Погиб в возрасте 28 лет: бросился под поезд» [15: I, с. 655]. О некоем Иване Жуланове по- ведано скудно, но пронзительно: «молодой человек», умер на улицах Харбина 17 мая 1928 года [15: II, с. 544]. А на могильном камне генерала, бывшего атамана Енисейского казачьего войска Потанина, скончавшегося в Шанхае, не выбиты даже инициалы [15: VI, кн. 1, с. 19]. Независимо от того, было них пристанище (дом) или нет, все они умерли на «железном сквозняке» (В.В. Набоков) истории, лишенные тех самых «мелочей» (русской березки, деревенского окна, скрипучих ставней и половиц), которые не вписывались в жизнестроительные модели на чужбине.
Прямое отношение к квазифеноменам и симулякрам имеет парадоксальная ситуация, описанная в очерке Ф. Букетова «Американская Русь». В чреде неприятностей, постигших пассажиров во время многодневного пути на русском океанском судне, была внезапная кончина от «разрыва сердца» искусного повара, бывшего участника русско-японской войны, героически выстоявшего осаду Порт-Артура. Однако публику интересовали не подробности земной жизни покойника, а способ его захоронения в столь экстремальных условиях.
«– Как же вы с ним поступите? Неужели выбросите за борт? Это было бы ужасно, – заволновались дамы». «Таков корабельный закон», – отвечает помощник капитана. А на опасения, что кока попросту растерзают «морские хищники», он прибегает к приемам трагикомического вымысла. Подробно рассказав, как надежно будет защищен труп, поясняет: он будет носиться по океану до тех пор, пока «не станет на своем якоре. А там – со всех сторон начнут приставать к нему кораллы и ракушки. И, кто знает, быть может, со временем лет этак через тысячу, среди океана появится новый остров, какая-нибудь новая Англия. И никому не придет в голову, что в недрах этого острова замурован наш повар. Завидная участь!». К огорчению рассказчика, вместо удивления на лицах слушателей было уныние [12, с. 180].
Остается только порадоваться, чтоква-зиостровиз трупа национального героя не назван Россией. Тем не менее, независимо от географии, перед нами не безумная фантастическая химера, но циничный человеконенавистнический симулякр. Стремление очерки- стабуквально воспроизвести эпизод (если он действительно имел место), обусловлено скорее всего наблюдениями над ментальной патологией, инспирированной эмиграцией.
Впрочем, об измененных состояния сознания некоторых достаточно известных людей пишут многие мемуаристы. Это склонность к театрализации, эпатажное поведение, тяга к психологическим эксцессам, создававшим искаженное впечатление о русских. Так, чудачества в поведении А.М. Ремизова, ставшие его «второй натурой», часто мешали французским собратьям по перу воздать должное творческой уникальности автора и воспринимались как вызывающее юродство. Впрочем, «ходким товаром» книги Ремизоване были даже среди отечественных писателей-эмигрантов, как замечает З.Н. Шаховская. Но при чтении их (особенно в авторском исполнении), восторженно пишет мемуарист, вставали «не только Замоскворечье, но и вся Россия <…> не Россия даже, а Русь» [23, с. 125].
Безусловно, в творчестве А.М. Ремизова, параллельно с конструированием ограниченного этнографической спецификой фольклорно-образного мира, активно шел процесс расширенияхронотопа родной земли. Аналогичными настроениями жили и другие авторы. Р.Б. Гуль был убежден: «<…> вся земля – наша, вся Божья <…> я радостно встречаю и благодарювесь мир, за косьбой вспоминая изумительную молитву сеятеля: “Боже, устрой и умножь, и возрасти на долю всякого человека, трудящегося и гладного, мимоидущего и посягающего...”» [2: II, с. 332]. Конечно, в таком контексте «русское чувство» отражает общехристианскую позицию.
У других авторов на первый план выходил большей частью автореферентный ментально-сконструированный образ России. Так, в романе И.С. Шмелева «Пути небесные» воспроизведен многоуровневый хронотоп, не только вобравший в свое пространство память о деталях-символах прошлого, но освятивший прошлое – настоящее – будущее сакральной символикой путей небесных . Идея космической духовной родины зародилась у религиозно индифферентного героя романа в процессе увлечения астрономией, благодаря чему открылась величественная картина Вселенной. «Он читал дни и ночи, выписывал книги из
Германии, и на стенах его кабинета появились огромные синие полотна, на которых крутились белые линии, орбиты, эллипсы <…> – таинственные пути сил и движений в небе » [24: V, с. 20]. В итоге концепт пути небесные выступает как духовно-религиозный вектор, означающий непреложный закон восхождения души от низшего к высшему, от предельной ограниченности земного бытия к красоте бесконечного и безграничного инобытия. Этот вектор определил смысл жизнестроительной модели самого писателя. «Великий Крест стоит на равнине русской. Наша Душа на нем распята. Дух пригвожден народа. И не разумеет с е г о Европа » [24: II, с. 267], с горечью признавал автор.
Но вернемся к книге П.А. Флоренского «Мнимости в геометрии». Литературоведов давно привлекало пояснение философа к гравюре В.А. Фаворского, выполненной для обложки издания 1922 года. По мнению Ю.М. Лотмана, здесь содержится «исключительно глубокий анализ сочетания в нашем пространственном воображении конкретного, перцептивно данного, и абстрактного переживания пространства. Исключительно важно, что Флоренский анализирует гравюру, т. е. зрительно-реальный текст, и показывает возможность изображения мнимого пространства» [13, с. 443–444].
В самом деле, в трактате один из акцен-товсделан на логическом парадоксе: несмотря на то, что мнимые образы лишены наглядности и потому не дают «конкретно-воззри-тельного содержания», их «геометрический смысл» очевиден [21, с. 10]. Это означает, что авизуальность и зримая предметность не исключают друг друга. И не только в геометрии, что подтверждает исследуемый феномен mixt-действительность, основанный именно на визуализации параметров «мнимой» локализации объекта.
Широкое поле для размышлений предлагает и неоднократно цитировавшийся трехтомник Р.Б. Гуля. Это своеобразная энцикло-педиявсех «волн» эмигрантской жизни, содержащая, по словам мемуариста, «сухой» перечень культурных организаций, православных церквей, русских газет, журналов, театров и пр. «Этих “декораций” требует моя главная тема – “унесенной России”» [2: II, с. 72].
Но все же квинтэссенция «унесенной России» – люди, которые смогли сохранить родину на «подошвах сапог», и эта мысль определила подзаголовок: «Апология эмиграции». Поэтому основная цель писателя заключается в характеристиках русских людей, «знатных лиц» – государственных деятелей от А.И. Гучкова, А.Ф. Керенского, П.Н. Милюкова до парижского таксиста или официанта, бывших белых офицеров.
Но, разумеется, даже«сухо перечисленный» каждый из героев повествования принес на чужбину свое «я», свои политические идеалы и представления. И только чувство ностальгии было всеохватывающим, поскольку Россия прошлого как пространственно-духовный континуум в сознании большинства сохраняла незыблемость нравственно мировоззренческих констант. Автор, конечно, – не исключение: «Я гляжу на весь этот движущийся вокруг меня Париж и думаю: “да, какая это тягость, жить без своего неба, своего дома, своего крыльца”. Это, конечно, слабая минута, это пройдет». Тем не менее мемуарист признается, что завидует старомодному старичку-французу «с седой бородкой Наполеона III-го», как и «всем им, французам, только потому, что они у себя дома и у них дома, в Париже, очень хорошо» [2: II, с. 24].
Показателен и такой факт. Не обнаруживая особой религиозности, Гуль тем не менее отмечает: если до «всероссийского потопа» в Париже был единственный русский православный храм, построенный в царствование императора Александра II, то за несколько лет русского присутствия их стало больше тридцати. «Так что эмиграция, унесшая Россию, унесла с собой и свою православную церковь» [2: II, с. 73].
Когда же судьбе было угодно, чтобы Гуль с семьей испытал участь крестьянина, вынужденного жить плодами собственного труда, в пространство Гасконии были перенесены атрибуты крестьянской жизни, также связанные с мыслью о родине. «<…> Я вспомнил, как подростком в своем пензенском имении тосковал по трудовой жизни. “Ну, вот она и есть. Правда, с запозданием на двадцать пять лет <…>”» [2: II, с. 310]. Но самое удивительное, пожалуй, в том, что именно в таких условиях стала более понятной и близкой позиция по- зднего Льва Толстого. По словам автора, «кающийся нерв русской интеллигенции», вырванный «с кровью» из России, нашел благодатную почву в Европе: «За работой я часто мысленно разговариваю с Львом Толстым» [2: II, с. 310]. Так, французский локус приобрел имиджнародной Руси.
Однако высшей ценностью для Гуля, наряду с чувством родины, всегда было чувство личной свободы. Поэтому он не мог жить только воспоминаниями и аналогиями. «Конечно, пословица верна, что мила та сторона, где пупок резан, и я, конечно, хотел бы сменить разлапые фиговые деревья на играющую под ветром березу, а южное опаловое небо на наши тяжелые ветхозаветные облака <…> Так я и живу в Гаскони и только иногда, во сне, хожу в Россию» [2: II, 331–332]. Многое стоит за таким признанием.
Но тот же Р. Гуль, расшифровывавший «инициалы» СССР как «СОЮЗ СУКИНЫХ СЫНОВ РЕВОЛЮЦИИ» и полагавший, что это «не ругань», а «суть дела» [1: II, с. 72], с острой проницательностью предугадал негативные последствия европеизации России, о которой в первые десятилетия пребывания на чужбине мало кто думал. В частности, дома-казармы, выстроенные советской властью в родной Пензе для рабочих, он называет «пензенскими Корбюзье», изуродовавшими некогда благоденствующий купеческий город. Но и в Европе, как подчеркнул Гуль, можно столкнуться с неутешительными аналогиями. С той же запущенной «новой» Пензой ассоциируются у него мусор и нечистоты на окраине Парижа. «Но, Боже мой, как заброшены эти седые улички, как грязны тупички, как нечистоплотен, сален великий город, какими дряхлыми проулками везет меня неизвестный француз, зарабатывающий на жизнь искусством шофера <…> О, Париж!» [2: II, с. 9].
И не только Гулю была понятна саморазрушительная подоплекаперемен, угрожающих европейской стабильности. Тот же Зайцев, казалось бы, целиком погруженный в свой светлый и святой идеал, угадал опасность бесовщины в самодовольстве «среднего» парижанина, вполне способного подать руку коммунисту. «Разделяет их ведь только то, что этот “упорядочен”, а тот пахнет еще “кровушкой”. Но запахи выветриваются. Дед нынешнего лавочника тоже был с душком. А внуки, даже дети Менжино-Дзержинских чудно отстирают уж палачество. Во дворе церкви St. JulienlePau» [9: IX, с. 59]. Относясь в целом прохладно к Берлину (нет красоты ни внешней, ни внутренней, даже «языческой прелести»), он ощущал его как «полусоветский» город, где «сразу чувствуешь себя каким-то концом в России». И это, конечно, не Россия рек, лесов, полей, «не духовная Россия – святая Русь», но город, где есть и «советская пшенка, примус, жилотделы и прочее», где «пахнет неизбывной скукой, как в Совдепии» [9: IX, с. 78].
Мысль о возможности такого западновосточного симбиоза как реальной модели грядущего жизнеустройства угнетала эмигрантов не меньше, чем предчувствие фашистской диктатуры. И уже совсем невыносимыми были слухи о некогда близких людях, ставших (хотя бы частично) на позиции новой идеологии. «<…> Я, к крайнему недоумению и смятению своему, увидел, что и здесь уже, в мирной и благодушной среде моих богоспасаемых земляков, тоже завелась небольшая, но шумливая и не разбирающаяся в средствах кучка несмышленых или злоумышленных поклонников красного дьявола, доморощенных каменщиков и строителей того же проклятого “нового мира” <…>», – возмущался Ю.А. Яворский [12, с. 405]. Т. е. на глазах формировался более устрашающий варианте mixt-действительности.
Что же, бесовское наваждение видимо и невидимо всегда окутывало эмигрантское бытие. «<…> Ни в какой особый мрак не впадаю, но ощущение Дьяволова дыхания над миром у меня довольно сильно», – признавался Б. Зайцев И. Бунину в 1923 году [9: XI, с. 10]. Способность «двойного зренья» позволила героине его романа «Дом в Пасси» разглядеть на Эйфелевой башне «таинственные нервные сигналы: голубовато-зеленое струение», над которым «грозно мигал красный глаз» дьявола [9: III, с. 219]. Все вышло по «Бесам» Достоевского – таково было общее убеждение. Впрочем, по поводу бесовщины как в русской, так и в европейской жизни можно писать бесконечно.
Но нельзя обойти вниманием и тот факт, что эмигрантами была сделана серьезная попытка уничтожить «харю дьявола» (Зайцев), перенося на инородную почву национальную модель «смеховой» культуры. Причин для ее возрождения было немало. В.С. Яновский писал о «трамвайных нравах», бесконечных «смутах», дрязгах, интригах, рождавшихся в «безвоздушной, беспочвенной среде, лишенной реальности казенного мира» [25, с. 419]. Мемуарист вспоминает слова Б. Поплавского: «Да, все мы варимся в одном соку и становимся похожими» [25, с. 195]. Причем, далеко не в лучших своих ипостасях.
Тем не менее Андрей Седых, известный литератор, журналист, одно время личный секретарь И.А. Бунина, соглашавшийся с тем, что эмигрантская жизнь заключала «немало сторон, фантастических по своей нелепости и карикатурности», констатировал: «Трудно быть юмористом в эмиграции [19, с. 75].
Действительно, пошлость, карикатурность, «трамвайные нравы»и пр. в обстоятельствах «безродинности» (Зайцев) вряд ли могли инспирироватькатарсический юмор Гоголя или Козьмы Пруткова. Шоферы такси и официанты из штабс-капитанов прославленной русской армии или седовласые мужи, превратившиеся в «мальчиков» бакалейных лавок и заслужившие прозвища «ванечек» и «вовочек», – жертвы исторического цинизма и отнюдь не комические фигуры. Андрей Седых передает меткое высказывание Н.А. Тэффи. «Анекдоты, – говорила она, – смешны, когда их рассказывают. А когда их переживают, это трагедия. И моя жизнь, это сплошной анекдот, т. е. трагедия» [19, с. 86].
Тем не менее, недостатка в сатирикоюмористической продукции не ощущалось. В лагерях для беженцев, казачьих организациях, даже учебных заведениях постоянно выпускались на злобу дня (adhoc) сатирические брошюры, листки, рукописные газеты и пр. Известно множество и более авторитетных изданий с характерными названиями: «Бич», «Бух!!!», «Веретёныш», «Веселый обыватель», «Еженедельник для тех, кому еще смешно», «Звонарь», «Орган казачьей непосредственности», «Независимый и непугливый журнал», «Хлыст» и др. Существование некоторых ограничивалось 2–3 номерами, другим была суждена более долгая жизнь. Но поистине беспрецедентна судьба «Сатирикона», традиции которого, уходящие в предреволюционные годы, давали о себе знать в разное время и в различных регионах русского рассеяния: Праге, Риге, Харбине (Дальневосточный Сатирикон») и др. Но, конечно, наиболее отвечал дореволюционному уровню «Сатирикон», возобновленный в Париже начала 1930-х гг. при участии Дона-Аминадо, Саши Черного, В. Ходасевича.
И речь идет не только о журналистике. Дон-Аминадо (А.П. Шполянский) открыл отдел прозы в своей книге «Наша маленькая жизнь» пародийными строками: «Се – повести временных лет, откуда русская зарубежная жизнь пошла и как российская зарубежная земля стала есть». Усилиями племен ря-пушане, треповичи, носовичи и пр. – «с 1926 г. после Р.Х. начинается история Зарубежного Русского Государства» [4, с. 339]. Вряд ли карикатурное использование «знаковых» онимов было направлено на политическую или моральную дискредитацию их носителей. За подобной карикатурностью стояли отчаяние и боль, о чем свидетельствуют поэтические строки того же автора: « Ну, итак, господа отрицатели, / Элегантные циники, скептики, / Извергатели слов, прорицатели, / Радикалы с прохвостинкой, критики, / Псалмопевцы грядущей республики, / Забияки, танцоры на кладбище / И любимцы почтеннейшей публики, / Что ж, теперь вы довольны, не правда ли?! / <…> / Только тише ходите по улицам, / Не болтайте в трамваях, в кондитерских, / Притворяйтесь бразильцами, чехами, / Но – ни слова о том, что вы русские!. .» [3, с. 37–38].
Скорбная горечь иссушила смех, лишила слез, омывающих душу влагой раскаяния и любви. В частности, пользуясь материалами, доставленными нелегально «оттуда», очень уважаемый журнал «Иллюстрированная Россия» (Париж, 1924–1939), поместил сопровождаемую фотоснимками «довольно смешную историю» из советской жизни. Б.К. Зайцев заметил, в частности, по поводу снимка «ливадийского исполкома»: «В средине выродок с идиотически-свирепым лицом наяривает на гармонии. Он одет в белом, по-летнему, так же изящны и соседи. Среди них кокаинисты, один молодой педераст, и т. д. Действительно вид картины ужасен». Но далее идет резюме: «Дело российское. И дело печальнейшее. Можно посмеяться над нелов- костью “защитников”, а над Россией, ведь, не посмеешься – тут иное» [9: IX, с. 41–42].
Над Россией, в каких бы лицах и ситуациях она ни представала, действительно не посмеешься. Можно только с горечью иронизировать над собственным вынужденным приспособлением к установившимся порядкам. Показателен в этом отношении эпизод, описанный Андреем Седых. Воспроизведена беседа двух соотечественников – блестящего режиссера, театроведа, музыковеда Н.Н. Ев-реинова и выдающегося композитора А.К. Глазунова (в то время официально не эмигрировавшего). Случайно встретившись и отмечая эту встречу в одном из кафе на Монмарте, собеседники не могли не окунуться в воспоминания о прошлом. «– Николай Николаевич, объясните мне, почему мы с вами здесь? Зачем? Вы русский деятель театра, я – русский композитор. Зачем мы здесь? В чем дело?» – с тоской во взгляде и голосе вопрошал Глазунов. На что Евреинов ответил вопросом: «– А вам разве ТУДА хочется, Александр Константинович?». И получив отрицательный ответ, согласился с единомышленником, признав настоящее «злостным», «нелепым», «скверным» анекдотом [20, с. 188– 189]. Поистине – анекдот, но к национальной смеховой культурене имеющий никакого отношения.
Однако были моменты, поистине благодатные. И вновь пойдет речь о модели «Россия Святой Руси» Бориса Зайцева. Лицам своих современников, огорченным, озабоченны-м,раздраженным, он противопоставил светлые веселые лики: «Светел, весел был св. Франциск, св. Серафим <…> без самоограничения нет силы и здоровья духа, следовательно, и веселости». И далее: «Веселость! Какое прелестное свойство <…> всему добро, всему свет» [9: IX, с. 57]. В комментариях этот тезис не нуждается; его можно лишь подкрепить апостольским призывом: «Всегда радуйтесь» (1Фес.: гл. 5, ст. 16).
Призыв действительно актуален. Если «насмешник» Дон-Аминадо со скорбью признавал, что «Большая медведица» русских писателей, композиторов, художников, философов «расточала свой звездный блеск» не на русские, а на «иностранные горизонты» [4, с. 708], то в настоящее время мысль об оте- чественной культуре ушедшего столетия, политизированной, противоречивой, безжалостно раздробленной и разобщенной и, тем не менее, неделимой, получила статус безусловной истины. А истина, как известно, никакого отношения к квазиявлениям, искусственным фантомам, химерам, симулякрам не имеет. Осознавая, что идеал «Россия святой Руси» недостижим даже в отдаленной перспективе, мы не можем отрицать: уникальнейший феномен Русского Зарубежья органично вписался в ментально-имажинальную модель XXI столетия.
Список литературы Mixt-Россия: принципы художественного моделирования в литературе русского зарубежья
- Ахматова, А. А. Сочинения. В 2 т. Т. 1 / А. А. Ахматова. - М.: Худож. лит., 1990. - 526 с.
- Гуль, Р. Б. Я унес Россию: Апология эмиграции: в 3 т. / Р. Б. Гуль. - Нью-Йорк: Мост, 1984-1989. - Т. I. - 382 с.; Т. 2. - 354 с.
- Дон-Аминадо. Дым без огня: Стихи / Дон-Аминадо. - Париж: Север, 1921. - 103 с.
- Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь: Стихотворения. Политический памфлет. Проза. Воспоминания / Дон-Аминадо. - М.: TEPPA, 1994. -768 с.
- Елагин, И. Отсветы ночные. Стихи / И. Елагин. - Нью-Йорк: Изд-во "Нового журнала", 1963. - 114 с.
- Жаравина, Л. В. Поэзия как судьба: мирообразы Варлама Шаламова / Л. В. Жаравина. - М.: Флинта: Наука, 2013. - 248 с.
- Жаравина, Л. В. Поливалентность культурологического концепта "дым без огня" и его художественные модификации / Л. В. Жаравина // Горизонты цивилизации. - Челябинск: Энциклопедия, 2019. - № 10. - С. 111-127.
- Замятин, Д. Н. Гуманитарная география: пространство, воображение и взаимодействие современных гуманитарных наук / Д. Н. Замятин // Социологическое обозрение. - Т. 9. - № 3. - 2010. - С. 26 -50.
- Зайцев, Б. К. Собрание сочинений: в 11 т. / Б. К. Зайцев. - М.: Русская книга, 1999 - 2001. - Т. III. - 576 с.; Т. V. - 544 с.; Т. VII. - 528 с.; Т. IX. - 560 с.; Т. XI. - 512 с.
- Иванов, Г. В. Собрание сочинений. В 3 т. Т. 1 / Г. В. Иванов. - М.: Согласие, 1994. - 656 с.
- Ильин, И. А. Собрание сочинений: Переписка двух Иванов (1927-1934) / И. А. Ильин. - М.: Русская книга, 2000. - 560 с.
- Литература русского Зарубежья: Антология. В 6 т. Т. 1. Кн. 1 (1920-1925). - М.: Книга, 1990. - 432 с.
- Лотман, Ю. М. Об искусстве / Ю. М. Лотман. - СПб.: Искусство, 2000. - 704 с.
- Мандельштам, О. Э. Сочинения. В 2 т. Т. 2 / О. Э. Мандельштам. - М.: Худож. лит., 1999. - 464 с.
- Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917- 1997: в 6 т. / сост. В. Н.Чуваков. - М.: РГБ: Пашков дом, 1999-2005. - Т. I. - 660 с.; Т. II. - 648 с.; Т. VI, кн. 1. - 602 с.
- Несмелов, А. Собрание сочинений: в 2 т. Т. 1 / А. Несмелов. - Владивосток: Рубеж, 2006. - 353 с.
- Николюкин, А. Н. Данте и русская эмиграция / А. Н. Николюкин //Данте Алигьери: proetcontra: Антология. В 2 т. Т. 2. - СПб.: РХГА, 2019. - С. 442-445.
- Подорога, В. А. ГУЛАГ в уме / В. А. Подорога // Index. Досье на цензуру. - 1999. - № 7-8. - С. 99-117.
- Седых, А. Далекие, близкие / А. Седых. - N. Y.: Новое Русское Слово, 1979. - 286 с.
- Тургенев, И. С. Полное собрание сочинений и писем. В 30 т. Т. 7 / И. С. Тургенев. - М.: Наука, 1981. - 560 с.
- Флоренский, П. А. Мнимости в геометрии: расширение области двухмерных образов геометрии (опыт нового истолкования мнимостей) / П. А. Флоренский. - М.: Поморье, 1922. - 59 с.
- Флоренский, П. А. Столп и утверждение Истиныю. В 2 т. Т. 1 (1) / П. А. Флоренский. - М.: Правда, 1990. - 492 с.
- Шаховская, З. А. В поисках Набокова. Отражения / З. А. Шаховская. - М.: Книга, 1991. - 319 с.
- Шмелев, И.С. Собрание сочинений. В 5 т. / И. С. Шмелев - М.: Русская книга, 1999-2001. - Т. II. - 512 с.; Т. V. - 480 с.
- Яновский, В. С. Собрание сочинений. В 2 т. Т. 2 / В. С. Яновский. - М.: Гудьял-Пресс, 2000. - 496 с.