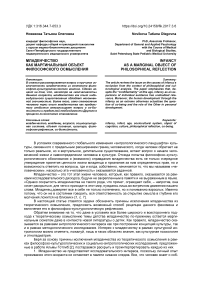Младенчество как маргинальный объект философского осмысления
Автор: Новикова Татьяна Олеговна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Статья в выпуске: 3, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос о причинах исключенности младенчества из контекста философско-культурологического анализа. Сделан акцент на том, что, несмотря на «молчаливость» данного возраста, младенчество как опыт индивидуального существования обладает несомненной значимостью. Более того, само становление человека через опыт младенчества как предельного инобытия актуализирует вопрос о со-бытийности и предельной необходимости Другого в процессе личностного становления.
Младенчество, младенец, возраст, социокультурная система, объект познания, культура, философская рефлексия, со-бытийность
Короткий адрес: https://sciup.org/14941215
IDR: 14941215 | УДК: 1:316.344.7-053.3 | DOI: 10.24158/fik.2017.3.6
Текст научной статьи Младенчество как маргинальный объект философского осмысления
ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ
В условиях современного глобального изменения «антропологического ландшафта» культуры, связанного с предельным расширением границ человеческого, когда человек обретает не только реальное, но и виртуальное, дигитальное существование, встает вопрос о начале человеческой жизни и самоопределении человека в культуре. Отсюда попытка философско-культурологического обоснования и (возможно) оправдания младенчества есть не только очередное утверждение принятия ценности жизни младенца и признания за ним определенных прав, но и возможность ответить на вопросы, где и когда, собственно, начинается то, что мы называем «человеческим», насколько эта «человечность» оказывается заданной.
Младенчество – это тот этап жизни человека, который, как правило, оказывается за рамками исследовательского дискурса, будучи не закрепленным в памяти и не выраженным в языке. «Однако сокрытость младенчества не такого рода, что прячет, ограждает себя, – напротив, она хочет раскрыться, для чего и приходит в этот мир, нуждаясь лишь во встречном движении нашего слова. Младенец доверяет все в себе не только попечению, но и пониманию взрослых. Именно потому, что он не в состоянии говорить, вся ответственность за открытие смысла в глубине его молчания ложится на близких» [1, с. 7].
В настоящей статье ставятся задачи обозначить причины исключения младенчества из теоретического осмысления, предложить возможный способ рецепции данного феномена и включения его в философско-культурологическую рефлексию.
Обратим внимание на то, что даже в условиях все более широкого и всестороннего подхода к теоретическому осмыслению темы детства младенчество по-прежнему остается маргинальным сюжетом даже в контексте новой литературы о детях. Как правило, младенчество оказывается за рамками антропологического интереса как при построении концепций культуры, так и в рамках методологического исследования. Интерес к младенчеству в рамках культурной антропологии можно отметить, пожалуй, лишь в таких областях знания, как культурная психология и этнопедиатрия.
Беря за основу причины исключения младенчества из теоретического осмысления в рамках философско-культурологических и социально-антропологических исследований, предложенные в работе Альмы Готлиб [2], постараемся раскрыть и проинтерпретировать каждую из них.
-
1. Младенчество не представляет исследовательского интереса, поскольку личный опыт проживания этого возраста не оставляет в памяти никаких следов. Все, что человек знает о соб-
- ственном младенчестве, есть свидетельства других. Не будучи отрефлексированным и закрепленным в памяти, этот этап человеческой жизни оказывается слишком далек от личностных перспектив исследователя.
-
2. Младенцы не могут рассматриваться как субъекты действия. Сложно объективно подходить к изучению младенчества, поскольку в своем бытии младенцы оказываются крайне зависимы от воли других, а именно тех, кто осуществляет о них заботу. Действительно, в большинстве культур младенцы представляют собой меньшинство, лишенное определенных прав и свобод. Так, они не могут отстаивать свои интересы в суде или оказывать законного воздействия на других. Однако это отнюдь не означает пассивности младенцев. С самого первого дня младенец заставляет считаться с собой, хотя окружающие его взрослые на сознательном уровне могут и не воспринимать его поведение как требование принимать в расчет личность младенца. Вместе с тем существуют культуры, в которых пассивность и зависимость младенчества осмысливается иначе, чем в западноевропейской культуре. А. Готлиб в качестве примера приводит культуру жителей Кот-д’Ивуара, в которой заботы о младенцах превалируют над остальными каждодневными обязанностями. Это обусловлено тем, что младенчество здесь понимается иначе, чем на Западе. Бенги верят, что младенцы – это новая реинкарнация предков и в первые годы жизни младенцы помнят о своем прошлом существовании. В такой культурной модели младенцы весьма далеки от беспомощных созданий, зависимых от воли других. Напротив, существование общества в целом зависит от воли младенцев [3, p. 124].
-
3. Еще одна причина исключения младенчества из теоретического дискурса кроется, по мнению А. Готлиб, в том, что большую часть жизни младенец связан с женщинами, которые также длительное время не представляли интереса для культурно-антропологического анализа [4]. С развитием и распространением феминистских исследований тема младенчества постепенно начинает осмысливаться и анализироваться, хотя бы в рамках сюжетов, связанных с материнством и беременностью.
-
4. В качестве причины исключения младенцев из предметного поля исследования культурологов и антропологов выделяется отсутствие у младенцев речи. Выстраивание культуры начинается с лингвистического упорядочивания непосредственного пространственного опыта и далее распространяется на весь мир. Отсутствие возможности выразить себя вербально приравнивается к неспособности понимать, признанию коммуникативной малоценности младенца. Однако невозможность словесного самовыражения отнюдь не означает неспособность младенца к диалогу. Более того, младенец, являя принципиальную инаковость взрослому, способен расширить представления о коммуникации. Одним из предубеждений западноевропейской культуры представляется сведение коммуникации лишь к вербальной. Разумеется, вербальная коммуникация играет подавляющую роль, однако она не единственная. Попытки интерпретации младенческого взаимодействия способны изменить представления о коммуникации как таковой, высвечивая такие ее аспекты, как сенсорный или соматический.
-
5. Современные западноевропейские культурологические исследования не только акцентируют внимание на специфике вербальной коммуникации, но в целом апеллируют к рациональным способам овладения миром. Естественно, при таком подходе для младенца, погруженного в биологические телесные процессы, не остается никакого шанса быть признанным как разумным. Однако младенчество может быть исследовано в рамках семиотического подхода, когда жизнь младенца понимается как текст, который необходимо «прочесть».
-
6. Парадоксальность современной культуры заключается в том, что при всей чувствительности к визуальным образам, выстраиванию телесных идеалов, при всей «обеспокоенности телом» реальная телесность, «жизнь плоти» оказывается за рамками внимания [5]. Тело с точки зрения современной культуры не может, а вернее, не должно быть неприглядным, оно должно эстетически радовать, быть привлекательным [6]. В этом смысле младенчество – «грязная пора», и чем более раннее, тем более «грязное»: многое в жизни младенца сконцентрировано вокруг естественных телесных отправлений, поэтому младенчество оказывается маргинальным для теоретического осмысления.
В рассматриваемых А. Готлиб причинах наиболее важной представляется идея о специфике восприятия младенца как возможного субъекта взаимодействия. Полагаем, что актуализация данного вопроса в рамках философско-культурологического дискурса одновременно вскрывает и те проблемы, которые встают на пути исследования принципиально Другого. Младенчество оказывается принципиально противоположно взрослому бытию. Присутствие младенца в мире всегда есть со-бытие. «Ребенок здесь с рождения, даже с зачатия и до него “вброшен” в это “понимание-непонимание”, в этот диалог, шире – в синергию – с другим человеком, с другими, со всем миром до всякого дифференцированного сознавания “я” и “другого человека”. Человеческое становление (генеалогия) происходит как встреча и ответ, ответы другому, другим. Игра ответов, ответственности – топос детства. И только в спонтанной, непредсказуемой и неподавленной целью, суверенной по отношению к цели свободной игре слышны вопросы и ответы» [7, с. 40].
Однако не только указанные причины мешают изучению младенчества. При близком рассмотрении встает вопрос о том, что необходимо понимать под младенчеством. Несмотря на кажущуюся очевидность, смысл, вкладываемый в понятия «младенец/младенчество», может быть различен и зависеть от многих факторов, обусловливающих ту или иную культуру. А.Е. Сериков еще более сужает эту проблему, задаваясь вопросом о том, кто такой новорожденный в современной российской культуре [8]. Он обосновывает важность подобного вопрошания тем, что «наиболее фундаментальные представления о возможных ситуациях, основы многих типичных состояний и форм поведения складываются в раннем детстве. Строго говоря, формы поведения маленького ребенка - это не столько формы его собственного поведения, сколько формы взаимодействия с ним взрослых и других детей. Но они лежат в основе усваиваемых ребенком культурных и социальных форм поведения» [9, с. 45].
Традиционно гуманитарное изучение детства возможно в рамках одного (или синтеза нескольких) из нижеобозначенных аспектов [10, с. 151]:
-
- Положение детей в обществе. Этот аспект предусматривает изучение того, каким образом определяется социальный статус ребенка, каковы специфика и структура взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, что составляет основные аспекты жизнедеятельности ребенка, каковы воспитательные практики и как они реализуются в пространстве культуры.
-
- Символические образы ребенка в культуре и массовом сознании. С одной стороны, данный аспект рассматривает «соционормативные представления о возрастных свойствах, критериях зрелости» [11]. С другой, он также включает то, что можно обозначить как социокультурную рефлексию детства, т. е. такие символические образы, которые отражают не только то, каким детство видится в пространстве конкретной культуры, но и каким бы эта культура хотела видеть ребенка, детство.
-
- Культура детства. Данный аспект изучения детства касается анализа содержания внутреннего мира ребенка, который может быть выражен и проявлен в деятельности ребенка (например, специфика и содержание игровой деятельности), отражен в детском фольклоре.
Полагаем, что, поскольку младенчество является самым « молчаливым » из всех возрастов человеческой жизни, анализ его возможен на основании того, какое место занимает младенец в социокультурной реальности и какова социокультурная рефлексия младенчества. Таким образом, речь идет скорее об образе младенчества, нежели о реальном бытии младенца в культуре. Однако это самое реальное бытие оказывается сильно детерминировано существующими социокультурными представлениями, поскольку реализация младенчества всегда осуществляется в пространстве Другого - того, кто, собственно, и задает младенцу некую перспективу реализации себя.
Здесь необходимо оговориться и обозначить, что младенчество может быть понято и осмыслено исходя из нескольких перспектив, которые могут пересекаться в исследовательском плане, но могут представлять и отдельные векторы для научного анализа. Предлагаем рассматривать младенчество как некую социокультурную реальность, представляющую определенную систему взаимоотношений и реализуемую на разных уровнях. К основным из них можно отнести следующие:
-
- Уровень, выражающий наиболее абстрактные представления о младенчестве, закрепленные в рамках существующих культурных представлений, установок, стереотипов. Это уровень не только культурной рецепции младенчества, но и отражения того, каким культура хотела и/или, напротив, не хотела бы его видеть.
-
- Уровень, отражающий систему межличностных взаимоотношений с младенцем и чаще всего фиксированный в системе детско-родительских отношений. Это то, что представляет собой перинатальная культура и что раскрывается через со-бытийность младенчества и протодиалог.
-
- Уровень рефлексии собственного младенчества как необходимого этапа в жизни каждого человека.
Таким образом, выделение младенчества как особой социокультурной реальности подразумевает, с одной стороны, определение самого понятия, а с другой, анализ того, каким образом это понятие оказывается отрефлексировано в культуре и каково его социокультурное значение. Предлагаемые уровни философско-культурологического рассмотрения отражают отдельные аспекты культурной встречи с младенчеством, но каждый их них фиксирует предельное инобытие младенца по отношению к взрослой жизни.
Не обладая четкими границами начала и собственного преодоления, младенчество тем самым обращается к важнейшим антропологическим вопросам, таким как проблема соотношения души и тела, индивидуального и общественного, языка и понимания. Решаемые на разных исторических этапах по-разному, данные вопросы в конечном счете создают особое культурноисторическое представление о человеке и мире, в котором этому человеку случилось быть.
Ссылки:
-
1. Эпштейн М.Н. Отцовство: метафизический дневник. СПб., 2003.
-
2. Gottlieb A. Where have all the babies gone? Toward an anthropology of infants (and their caretakers) // Anthropological Quarterly. 2000. Vol. 73, no. 3. Youth and the Social Imagination in Africa. P. 1. Р. 121–132.
-
3. Ibid. Р. 124.
-
4. Ibid.
-
5. Lupton D. Infant embodiment and interembodiment: a review of sociocultural perspectives // Childhood. 2013. Vol. 20, iss. 1. Р. 37–50.
-
6. См.: Engeln-Maddox R. Buying a beauty standard or dreaming of a new? Expectations associated with media ideals // Psychology of Women Quarterly. 2006. Vol. 30, iss. 3. P. 258–266 ; Vartanian L. When the body defines the self: self-concept clarity, internalization, and body image // Journal of Social and Clinical Psychology. 2009. Vol. 28, iss. 1. P. 94–126.
-
7. Кислов А.Г. Оправдание детства как феномен культуры: философский анализ : автореф. дис. … д-ра филос. наук. Екатеринбург, 2002. 46 с.
-
8. Сериков А.Е. Кто такой новорожденный в современной русской культуре? // Mixtura verborum’ 2015: образы настоящего : филос. ежегод. / ред. С.А. Лишаев. Самара, 2016. С. 45–63.
-
9. Там же. С. 45.
-
10. Кон И.С. Детство как социальный феномен // Журнал исследований социальной политики. 2004. Т. 2, № 2. С. 151–174.
-
11. Там же. С. 151.
Список литературы Младенчество как маргинальный объект философского осмысления
- Эпштейн М.Н. Отцовство: метафизический дневник. СПб., 2003.
- Gottlib A. Where have all the babies gone? Toward an anthropology of infants (and their caretakers)//Anthropological Quarterly. 2000. Vol. 73, no. 3. Youth and the Social Imagination in Africa. P. 1. Р. 121-132.
- Lupton D. Infant embodiment and interembodiment: a review of sociocultural perspectives//Childhood. 2013. Vol. 20, iss. 1. Р. 37-50.
- Engeln-Maddox R. Buying a beauty standard or dreaming of a new? Expectations associated with media ideals//Psychology of Women Quarterly. 2006. Vol. 30, iss. 3. P. 258-266.
- Vartanian L. When the body defines the self: self-concept clarity, internalization, and body image//Journal of Social and Clinical Psychology. 2009. Vol. 28, iss. 1. P. 94-126.
- Кислов А.Г. Оправдание детства как феномен культуры: философский анализ: автореф. дис. … д-ра филос. наук. Екатеринбург, 2002. 46 с.
- Сериков А.Е. Кто такой новорожденный в современной русской культуре?//Mixtura verborum’ 2015: образы настоящего: филос. ежегод./ред. С.А. Лишаев. Самара, 2016. С. 45-63.
- Кон И.С. Детство как социальный феномен//Журнал исследований социальной политики. 2004. Т. 2, № 2. С. 151-174.