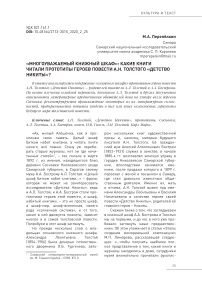"Многоуважаемый книжный шкаф": какие книги читали прототипы героев повести А.Н. Толстого "Детство Никиты"?
Автор: Перепелкин М.А.
Журнал: Сфера культуры @journal-smrgaki
Рубрика: Культура и текст
Статья в выпуске: 2 (2), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется содержание «книжного шкафа» прототипов героев повести А.Н. Толстого «Детство Никиты» - родителей писателя А.Л. Толстой и А.А. Бострома. На основе изучения семейной переписки, дневников А.Л. Толстой и других документов описываются литературные предпочтения обитателей дома на хуторе возле деревни Сосновка, реконструируется происхождение некоторых из их литературных склонностей, предпринимается попытка увидеть в тех или иных склонностях горизонты будущего мира толстовской повести.
А.Н. Толстой, «Детство Никиты», прототипы, Сосновка, А.Л. Толстая, А.А. Бостром, книги, Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, Карл Маркс
Короткий адрес: https://sciup.org/170178610
IDR: 170178610 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.48164/2713-301X_2020_2_25
Текст научной статьи "Многоуважаемый книжный шкаф": какие книги читали прототипы героев повести А.Н. Толстого "Детство Никиты"?
«Ах, милый Алёшечка, как я проклинаю свою память. Целый шкаф битком набит книгами, а читать почти нечего, всё помню. Стану уж перебирать старые журналы, нет ли где нечитанных статей»1, – так писала в марте 1892 г. из имения, находящегося близ деревни Сосновки Николаевского уезда Самарской губернии, в Саратов своему мужу А.А. Бострому А.Л. Толстая. «Целый шкаф битком набит книгами…» – фраза, которая не может не заинтересовать исследователя «Детства Никиты», ведь и А.Л. Толстая, и А.А. Бостром стали прототипами героев этой повести, а шкаф, набитый книгами, – это не просто шкаф, а шкаф-мир, шкаф-вселенная, своего рода «солнечная система», и от того, какие в ней движутся планеты, зависит многое и в самой толстовской повести. Попробуем в этот шкаф заглянуть.
Но прежде несколько слов о владельцах сосновского книжного шкафа. Александра Леонтьевна Толстая (1854–1906) была дочерью потомственного дворянина Л.Б. Тургенева, авто- ром нескольких книг художественной прозы и, наконец, матерью будущего писателя А.Н. Толстого. Её гражданский муж Алексей Аполлонович Бостром (1852–1921) служил в земстве, в начале 1880-х гг. возглавлял земскую управу в городке Николаевске Самарской губернии, впоследствии занимался имением, после продажи которого в 1899 г. переехал с женой и пасынком в Самару, где стал довольно известным общественным деятелем. Именно их, мать и отчима, А.Н. Толстой вывел под именами Александры Леонтьевны и Василия Никитьевича в качестве героев своей повести «Детство Никиты», родителей её главного героя – Никиты.
Скажем также о том, что заглядываем в книжный шкаф А.А. Бострома и Толстых мы не первыми, и до нас в него уже пробовали заглянуть наши предшественники. Об этом упоминает в статье «Этапы создания мемориальной композиции» М.П. Лимарова, рассказавшая следующее: «…чтобы получить наиболее полное представление о том, какие книги и журналы находились в доме, сотрудники музея внимательно прочитали рукопис- ные варианты автобиографии писателя, воспоминания родных и близких, записи матери, письма родителей, детские и юношеские письма А.Н. Толстого. <…> Так образовался довольно внушительный список книг семейной библиотеки» [2, с. 229]. К сожалению, «список», о котором говорит М.П. Лимарова, до нас не дошёл1, а возможно – списка как такового и не было, а было лишь общее представление о круге семейного чтения. Поэтому попробуем и мы, пользуясь перечисленными Лимаровой источниками, восстановить примерное наполнение того самого шкафа, битком набитого книгами.
Как уже было замечено, упоминания о читаемых или прочитанных книгах присутствуют во многих письмах А.Л. Толстой и А.А. Бострома, а иногда это и не просто упоминания, а развёрнутые рецензии, попытки анализа и т. п. В этом нет ничего удивительного: и А.Л. Толстая, и А.А. Бостром были «книжными» людьми, которые не от случая к случаю, а на протяжении всей своей жизни занимались самообразованием, интересовались новинками литературы, делясь своими впечатлениями и наблюдениями друг с другом и со своими знакомыми. Именно это делает А.Л. Толстая в письме к Н.И. Кирбут-Дашкевич от 14 июня 1888 г., рассказывая ей об этапах своего интеллектуального и духовного формирования: «Я развивалась в детстве под нравственным влиянием отца. Строгий христианин, почти аскет, унаследовавший гуманитарные идеи деда-масона, энергический общественный деятель, ему я обязана всеми семенами лучших альтруистических чувств, которые потом выросли в моей душе. Нужно знать, что жизнь впоследствии разделила нас, что он замкнулся в своём строгом аскетизме, а я примкнула к свободным мыслителям, вечное спасибо ему за то, что он посеял, и прежний величавый образ моего отца, честного деятеля общественного блага, живёт в моей душе. Отец развил во мне способность мышления и любовь к серьёзному чтению, но по выходе замуж всё серьёзное на время заглохло во мне. Семья мужа ненавидела отцовское влияние и старалась истребить его семена. Мировоззрение отца, строго христианское, заставляло меня подчиниться режиму мужа. Клятва перед алтарём, долг перед мужем, перед детьми – я чувствовала себя связанной. Я старалась подделаться к своей новой семье – и не смогла. Началась реакция. Я стала читать сначала потихоньку, потом открыто. Я искала общества людей одного со мной образа мыслей. Читала я больше англичан (Д.С. Милль, Бокль, Спенсер). Их логичный, ясный, положительный ум неотразимо привлекал меня к себе. Их идеи всасывались в мою плоть и кровь. Ими я жила умственно. Но во мне ещё не было полного и стройного миросозерцания. На основе идей моих милых англичан я ещё не успела построить своего собственного прочного здания. Явилась потребность в этой постройке. Неясность, туманность мучили меня, разлад между идеями и жизнью делали <меня> несчастной. Неясно передо мной мелькало будущее – необходимость отказаться от всего прежнего строя жизни, от семьи, пожалуй. Это испугало. Инстинктивно я ухватывалась за семью, стала сомневаться во всех своих самых дорогих идеалах из боязни страшных выводов. А ум продолжал свою работу и подсовывал сознанию эти ужасные выводы»2.
Англичане, ставшие её «плотью и кровью», не отпускали А.Л. Толстую и позже, привлекая своей логичностью и ясностью и заставляя думать и делиться раздумьями с другими.
Вот уже другое её письмо к той же Н.И. Кирбут-Дашкевич и – новый рассказ о читаемых ею книгах: «Теперь я читаю
Берне, его парижские письма. Они разбудили опять наболевшее сердце. Какая глубина негодования в этом человеке и какая смелость в то, реакционное, время. Тогдашняя Германия очень напоминает мне нашу теперешнюю Россию: то же лакейство, как и то, на которое с таким негодованием ополчился Берне. И опять во мне поднимается старый нерешённый вопрос: кто виноват? правительство или общество? и опять сердце кричит: мы, мы виноваты»1. 21 мая 1891 г. находящаяся в Сосновке А.Л. Толстая писала мужу следующее: «В посылаемой книжке есть небольшая статья Спенсера “О справедливости”, советую тебе непременно прочесть, прекрасная статья, так освежительно действует после всей дохлятины, которой дышишь в современной жизни. Самое интересное место статьи заключается в главе V “Идея справедливости”, очень новая и яркая идея, освежающая хаос существующих понятий. Пожалуйста, прочти, даже если бы для этого нужно было продержать книгу и не отсылать мне»2. Осенью 1891 г. она же сообщала: «Читаю очень хорошую книгу – “Историю новейшей литературы” Скабичевского»3.
Нет ничего удивительного и в том, что, будучи людьми книжного мира, А.Л. Толстая и А.А. Бостром достаточно рано начали приобщать к этому миру и своего сына – А.Н. Толстого. В октябре того же 1891 г. А.Л. Толстая писала Бострому следующее: «У нас с ним (сыном. – М.П. ) сейчас был философский разговор. Он спрашивал, есть ли конец вселенной, и говорит, что у него голова кружится, и он боится с ума сойти, когда думает, что такое вселенная и что конца нет. (Я рассказала кое-что из “Урании”
Фламмариона). Потом спрашивал, отчего нет на земле страшного ветра от движения и почему бывает зима, зима не должна быть, т<ак> к<ак> от вращения земли и трения должна развиваться теплота»4. Камиль Фламмарион (1842–1925) – французский астроном и писатель, популяризатор астрономии, чьи книги были переведены на многие языки. Известно, что книга «Урания, или Путешествие в небесные пространства» была написана в 1889 г., выпущена в России отдельным изданием в 1892 г. в типографии А.С. Суворина. Но А.Л. Толстая пересказывает сыну «кое-что из “Урании” Фламмариона» примерно на полгода раньше выхода суворинского издания – осенью 1891-го, из чего мы можем заключить, что эта книга была известна ей и раньше – возможно, она читала её на языке подлинника, по-французски, и теперь, отвечая на вопрос сына, решила убить двух зайцев – хотя бы частично избавить его от головокружения и заинтересовать хорошей книгой, расширяющей кругозор и заставляющей думать о мире и месте в нём человека.
«Спасибо тебе, Сашурочка, за книжицу Мачтета. Очень рад был почитать. Особенно понравилось мне “Его час настал”. Видимо, Мачтет – совсем наш»5, – писал А.А. Бостром в октябре 1891 г. из Царицына в Сосновку. А это – ещё примерно месяц спустя, он же: «Попалась уж мне книжоночка, кажется, больно будет хорошая. “Серебряные коньки” называется»6. Прежде всего, обращает на себя внимание разнообразие читательских вкусов и предпочтений как автора этих писем, так и их адресата. Если русский писатель и поэт народнического направления Г.А. Мачтет (1852–1901) был близок сочувствующим народническим идеям сосновским читателям именно этой своей близостью к народничеству, то «Серебряные коньки» М.-М. Додж должны были привлечь их совсем иным – вдохновляющей историей о юношеских мечтах и стремлениях и о победе добра над злом.
О том, что искали и находили в книгах русских и европейских писателей А.А. Бостром и А.Л. Толстая так же много говорят их письма друг к другу, в которых, как уже было сказано, называются не только книги, а также журнальные и газетные публикации различных авторов, привлекших внимание, но и предпринимаются попытки их анализа и обсуждения.
Вот, например, фрагмент из письма А.Л. Толстой от 11 ноября 1891 г.: «В “Р<усских> вед<омостях>” есть хорошая статья Л.Н. Толстого о голоде, “Страшный вопрос”, я для тебя этот номер спрятала. Нищих в Самаре всё прибывает, т<ак> что становится почти невыносимым ходить днём по улицам, я стараюсь не ходить по Дворянской, подашь одному, другому, а за тобой ещё десяток привяжется. Что будет к весне? Толстой спрашивает, хватит ли в России хлеба для прокормления народа, да, хватит ли? Что будет весной? Народ отупел теперь, но голод разбудит отчаяние, что будет тогда? Страшно подумать»1.
А это – письмо А.А. Бострома к А.Л. Толстой от 20 апреля 1892 г.: «Стал, значит, читать то, другое, да и зачитался. Прочел новый роман Потапенки в трёх частях, “Любовь”. Можно бы написать, да роман-то не кончен. Наткнулся на последнее произведение Михайловского, где он ругает статью Мечникова. Ты, представь, Мечников-то мою, всегдашнюю мою идею развивает: сила изменяемости и т<ак> д<алее>, да её же ещё ругает. Стой, давай доставать Мечникова! <…> Вот был у меня с визитом Поляк, пригласил обедать. Конечно, видит, я книгами завален, догадался, что хочу писать, а может уже от Кальманович услыхал. Спрашивает, на какую тему? Не решил, говорю. Да ведь два дня осталось? Я тут только хватился, что, в самом деле, осталось немного (три дня). Говорю, решимте вместе. Он шутя говорит: “Вот вам тема: когда люди будут счастливы?”. Я – хлоп его по рукам.
Он смеётся. Говорю, напишу. Это уже было у них за обедом. Забрал я у него ещё книг, да они не пригодились. Решил я Мечникова. Представь моё разочарование. Михайловский, ругая-то его, цитирует его ранние сочинения, которые иначе, как в библиотеке, достать нельзя. И только на четвёртый день открыли эту ужасную библиотеку, и я заполучил моего дорогого Мечникова. Это была среда, а <в> четверг читать. Понимаешь моё положение? Голова полна мыслей, да ведь надо их оттуда повыковырять…»2.
Из процитированного видно, что Л.Н. Толстой, Н.К. Михайловский, А.С. Суворин, И.Н. Потапенко и многие другие авторы были не просто любопытны А.Л. Толстой и А.А. Бострому, – они входили в нюансы и тонкости их рассуждений, соглашались и спорили с ними, искали и находили точки сближения и отталкивания. В последнем убеждает и такое, например, письмо А.А. Бострома в Сосновку от 12 мая 1892 г.: «…утомившись считать <…>, я взял Тургенева. Прочел “Довольно”, и знаешь, ведь как художественное произведение оно совсем слабо! Как поэзия – удивительно, увлекательно. Но мотивы вдохновения всё-таки не высоки, и вторая половина побивает первую, в итоге – ноль. Прочти, правду ли я говорю. Вначале отдаётся полная дань наслаждениям, полученным от самой высокой и глубокой любви. Во второй половине – проповедь ничтожества всего, мизерности всего, чем увлекается человек, даже ничтожества любви. Ценна эта вещь, по моему мнению, совсем не тем, чем (как надо полагать) считает её ценной автор. Она ценна как лирика, как мастерское выражение состояния души стареющего великана-поэта. Это – деградация жизни. Но сам поэт не вполне понимает, что это его деградация. Отчасти он это понимает, но невольно приписывает результат и объек тивному миру.
В рассуждениях много натяжек, неверностей – всё это последовательный результат того состояния мышления, которым он владел. Опоэтизировать всё, являющееся на мысль, сделалось потребностью Тургенева. Он поэтизировал и свою деградацию. Но если разобраться, тут есть фальшь, и если произведение это увлекает нас, то это его фокус, это уменье. В сущности, существо поэзии заключается в нахождении жизни, красоты её, нет, – просто жизни, движения, там, где непосвящённый взор ничего без помощи поэта не видит. Итак, жизнь – движение во всех его проявлениях и в эволюционном по преимуществу, – вот сфера поэзии. Понижение жизни – понижение поэзии. Опоэтизирование самого понижения жизни является поэтому какой-то аномалией. Я брался за перо, думая написать тебе несколько слов о том, где я нахожусь. И невольно увлёкся критикой Тургенева. Оказывается, Сашурочка, если бы у нас с тобой да нашлось времени перечитать старое, мы бы вдосталь наговорились»1.
Начиная примерно с января-февраля 1894 г. постоянным героем и участником «книжного сюжета» в семейной переписке между Сосновкой и городами, куда на более или менее длительное время уезжали по делам то А.Л. Толстая, то А.А. Бостром, стал и юный А.Н. Толстой, достигший к этому времени одиннадцатилетнего возраста и вплотную приступивший к изучению того самого шкафа, «битком набитого книгами», о котором совсем недавно писала мужу А.Л. Толстая, сетуя на то, что ей нечего читать.
В феврале 1894 г. находящаяся в Сосновке А.Л. Толстая сообщила мужу о том, что ею была организована своеобразная библиотека, услугами которой пользуются сосновские жители, преимущественно – дети: «У нас теперь идёт правильная выдача книг ребятишкам сосновским: они просто поглощают книги и скоро нечего будет им давать. Но дешёвых 2-х коп<еечных> изданий не любят, давай им книгу получше и главное <–> потолще. Понравился очень “Дон Кихот”
и “Нелли” Диккенса»2. Представляет интерес и приписка, которой завершается это письмо: «Лёля хотел тебя попросить привезти книжек»3.
Летом этого же года уже А.А. Бостром, оставшийся с сыном в Сосновке, писал жене в Самару: «Лешуня очень мил. Два дня с лишком подолгу купался, а теперь увлёкся чтением (“Во время оно”)»4.
В январе следующего, 1895-го, года находящаяся в Петербурге А.Л. Толстая сообщала в одном из своих писем в Сосновку: «Скажи Лёле, что я искала и в Москве, и здесь “Историю одного крестьянина”, но эта книга составляет теперь библиотечную редкость и ценится у букинистов в 15 рублей. Зато я купила другие сочинения Эркмана-Шатриана, думаю, что будет очень интересно»5. И это – она же: «Вчера выписала “Русское богатство” и взяла две книжки “Земля” Элизе Реклю. Это капитальное сочинение по географии и будет служить руководством для Аркадия Ивановича»6.
В эти же дни сам А.Н. Толстой так описывал своё времяпрепровождение на сосновском хуторе: «Сейчас после чая побегу на крепость, там на Чагре буду читать “Измаил” и кататься на салазках
<…> Мамуня, у нас есть ли второй том “Фрегата Паллады”, скажи, пожалуйста, в письме» [17, с. 88]. В двух других письмах, написанных в Петербург же, юный Толстой рассказывал о том, что «третьего дня папа читал мужикам “Песню про купца Калашникова” и “Телепня”. “Телепень” им страсть понравился» [17, с. 91], а он сам – «выучил “Анчар” Пушкина» [17, с. 94]. Увлечённость Алёши чтением не могла не радовать его родителей, и следы этой радости тоже присутствуют в письмах, как, например, вот в таком письме матери от 7 февраля 1895 г.: «Очень мило ты рассказал, дружочек мой, о статье Гарина-Бурлака, я порадовалась, что ты можешь так хорошо изложить содержание прочитанного»1.
Летом и осенью следующего, 1896-го, года А.Л. Толстая находилась в Киеве, куда уехала по делам, связанным с наследством. И снова в письмах в Сосновку и обратно замелькали имена писателей и названия прочитанных книг. «Читаю я дневник Башкирцевой, и невольно приходится оглядываться на себя и проводить параллель»2, – сообщала в одном из писем А.Л. Толстая. А в другом письме она же рассказывала о том, что «читала Макса Нордау, “Вырождение”»3.
Не сидел, сложа руки, и А.А. Бостром, а точнее – исхитрялся найти время для чтения книг и журналов среди прочих забот и хлопот хозяйственного характера. «Сел я в кузнице на порожек, – писал он жене из Марьевки 11 августа, – перечёл ещё раз твои письма, потом прочёл в полученной книжке “Русс<кого> богатства” о Грановском, беспрестанно отрываясь для указания кузнецу, как нужно делать. Статья Мякотина – некролог, – прелесть как написана! Величественный образ Грановского так и встаёт перед читателем. И вдруг я забыл и кузницу, и бывших в ней говорливых мужиков, и Марьевку: и всё прочитанное перемешалось в моей голове. Твои письма и Грановский слились в одно…. И так хорошо мне было. И это повторялось несколько раз, и когда кончилось, и я поехал домой, я жалел о том, что эти минуты отрадного кошмара не повторяются более»4. И в этом же письме он интересовался: «Что-то почитываешь ты? Ходишь ли в общ<ествен-ную> библиотеку, ведь там хорошая. Или жара не позволяет?»5.
Ходила ли А.Л. Толстая в общественную библиотеку в Киеве – неизвестно, а вот в Сызрани – ходила, и рассказала об этом в первом же письме из Сызрани в Сосновку в августе следующего, 1897-го, года: «Вчера ходила в библиотеку, подписалась. Библиотека жалостная, только что журналы есть, а остального очень жидко. Хотела взять “Социологию” Спенсера – нет. Читают всё больше журналы» [2, с. 127]. В этом же письме кроме рассказа о визите в сызранскую библиотеку упоминаются и несколько книг из домашней, сосновской, библиотеки: «Также с Лёлиной библиотеки (правый шкаф, внизу) найди книгу <–> “Рассказы для детей, по Плутарху” <–> или что-то вроде этого, там про разных древних римлян. И ещё “Диксионеры” <–> русский и немецкий <…> “Диксионеры” в правом же шкафу на самой верхней полке» [2, с. 128].
Переезд А.Л. Толстой с сыном в Сызрань и новая разлука с А.А. Бостромом вновь активизировали развитие в семейном эпистолярии «книжного сюжета»: и А.А. Бостром, и А.Л. Толстая рассказывали друг другу о прочитанных и перечитанных книгах, интересовались мнением друг друга, соглашались и спорили; принимал участие в этих разговорах и обмене мнениями и А.Н. Толстой, посещавший в это время четвёртый класс Сызранского реального училища.
«Я ходила к Наст<асье> Степ<ановне>. Было очень мало народу, всего трое учителей кроме меня, читали из Короленко “Лес шумит”»1, – сообщила мужу А.Л. Толстая 4 декабря 1897 года. «Я, Сашуня, перечёл “Смерть Ивана Ильича”, и вот как это произведение на меня подействовало. Конечно, это оно навеяло на меня холодок. Представь, я начал его ещё раз перечитывать. Теперь читаю критически. Эх, кабы да не его тяжёлый докторальный слог, – хорошая вещь это была бы. Кабы моя Сашурочка это написала! А замечательно сильная критика существующего лицемерия. Во всяком случае, это вещь выделяющаяся. Она мне пригодится для моих писем к Лёле»2, – отвечал жене А.А. Бостром 7 декабря 1897 года.
А это уже начало следующего, 1898-го, года – письмо из Сызрани в Сосновку: «Вчера у нас вышел разговор (с А.Н. Толстым. – М. П.) Лёля говорит: “Не могу переносить такой христианской религии, как у Александровых. Они молятся, а делают совсем противоположное. Отчего в первые времена христианство было иначе? Как хорошо это изображено в “Quo Vadis”: когда я читал эту книгу, я чувствовал в себе способность так же умереть, как первые христиане. Отчего христианство потеряло свою силу, или оно перестало удовлетворять потребностям?”»3. И это примерно тогда же, но уже – из Сосновки в Сызрань: «Сашуничка, ты, верно, читала “Среди ночи и льда” Нансена. Очень интересно узнать о его поездке, но как плохо написано. Ни записки во время путешествия, ни рассказ. А что-то среднее, соединяющее лишь недостатки той и другой формы. Если бы это был дневник, то простительно было бы повторение одного и того же, потому что, действительно, та природа не может быть разнообразна, но в подлинном дневнике зато мы увидали бы действительную жизнь, а не описание жизни, мы встретили бы множество кажущихся нелогичностей, слабость духа, словом много того, что сам автор не сообщил бы потом большой публике. Но, видимо, это не дневник, а рассказ, составленный Нансеном после, лишь с<о> ссылками на дневник. Тогда можно удивляться неумелости рассказа. К чему это повторение из-за дня в день: “Лёд ровный, с гребнями, с канавами, которые мы насилу обошли”. И что это за канавы? Право, Ледовитый океан, по описанию Нансена, рисуется в виде опытного поля с дренажными канавами»4.
И еще из Сызрани в Сосновку: «Знаешь, я читала эти дни книгу “Наследственность таланта” <Гальтона>. Он придаёт громадное значение наследственности, даже больше, мне кажется, чем нужно, но многое, что он говорит, кажется мне очень верным и заставляет меня задумываться о Лёле»5. И это – тоже из Сызрани, но уже – от Лёли: «Эрк<мана> я не читаю, потому что связался с “Анной Карениной”, надо кончить. Вчера прочёл Эрк<мана> страницу, описание жителей и нравов до революции, исторические факты, а рассказаны интересно» [2, с. 164]6.
Окончив весной 1898 г. четвёртый класс реального училища в Сызрани, А.Н. Толстой перевёлся в Самару и уже с августа этого же года стал учеником пятого класса Самарского реального. На этот раз разлука с А.А. Бостромом длилась до конца 1899 г., когда, продав имение в Сосновке, он тоже перебрался в город. К этому времени относится и завершение сосновской части «книжного сюжета» в семейной переписке1, по-прежнему касающейся самых разных предметов, среди которых книги, как и раньше, занимали весьма заметное место.
«Привези с собой Добролюбова (сочинения, 4 тома)»2, – просила мужа А.Л. Толстая в письме от 22 сентября 1899 года. «Шляется Лёля вовсе мало. В свободную минутку читает Терра»3, – сообщала она же в письме от 15 октября этого же года. «Знаешь, Сашуничка, чем я зачитываюсь? – писал в одном из ответных писем А.А. Бостром. – Даже полученные с почты новые книги “Мира Божьего” и “Жизни” лежат неразрезанные. Это – очень невзрачною с виду, лежавшей у меня неразрезанной серенькой книжицей “О математическом, метафизическом и индуктивном методах” Зеленогорского. Очень интересная вещь. Жаль, совсем читать некогда, всё отрываюсь. Так что спроси меня, что я прочёл – не знаю. А вот как тянет читать. Видно, что писал не настоящий философ, а так, дилетант, немного выше аза грешного. А интересно, в моём роде»4.
Скажем теперь несколько слов о книгах, занимающих в сосновском книжном шкафу А.А. Бострома и А.Л. Толстой особое место. Упоминание о некоторых из этих книг можно найти на страницах рабочих тетрадей А.Л. Толстой разных лет.
Прежде всего – это русская классика, Н.В. Гоголь и Л.Н. Толстой.
Приведём запись от 7 февраля 1886 г.: «Не раз уже я замечала, что Гоголь осо- бенно действует на меня. Нельзя сказать, чтобы я его любила больше всех остальных русских писателей, нет, но он завинчивает мне нервы. После моей нервной болезни мои нервы сделались очень нестойки: один день я нахожусь в возбуждённом состоянии и успешно работаю, в другой нахожусь в состоянии угнетения, иногда – тоски, и ничего делать не могу. Вот тут-то Гоголь действует вроде лекарства. Почитаю его и тотчас же настроюсь на иной лад, внутренний тон поднимается, и я могу писать. Это уже было несколько раз. На днях я прочла “Вия”, а на другой день написала вторую часть той главы, где Паша едет в деревню с братом и Благовещенским и первую половину главы, где сцена уженья рыбы Антона и Благовещенского (“Семья Обратновых”). И как легко работалось! Это был какой-то необычайный подъём духа. Главу о Паше я кончила в каком-то экстазе. Это была вполне работа своей кровью, своими нервами. Но на другой день – усталость, нервность, сонливость, головная боль, и вот уже четыре или пять дней, как я не только не могу ничего работать, но мои Обратновы чуть ли не опротивели мне. Это очень тяжело. Желала бы я знать, пропадёт ли даром это время угнетения, или под кажущимся бездействием совершается какой-нибудь бессознательный процесс, который разом окончится, угнетение духа пройдёт, и я в один прекрасный день буду работать деятельно и плодотворно, точно по наитию. Это со мной случалось»5.
А это – запись от 7 марта 1887 г.: «Процесс, подобный пережитому с философскими мыслями Дюринга, произошёл недавно. В декабре я читала Л.Н. Толстого “В чём моя вера?”. Мне не понравилось с первого раза, и я нашла, что всё построение его мысли неверно. Помню тогда у Натальи Ивановны Кульвиц я спорила с Князевским. Так ясно, как дважды два, я доказала ему, что, с нашей, позитивной, точки зрения, Толстой говорит чепуху, и для нас немыслимо даже задаваться такими вопросами, какими задаётся он.
Из приведённых записей в рабочих тетрадях А.Л. Толстой ясно, что значительное место в сосновском шкафу, набитом книгами, принадлежало русской классике, и прежде всего – сочинениям Н.В. Гоголя и Л.Н. Толстого, хотя, как видно из цитировавшихся выше писем, были здесь и А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.Н. Островский, А.В. Сухово-Кобылин. Позже, уже в самарских период, к ним присоединятся Ф.М. Достоевский и А.П. Чехов, чьи сочинения будут так же внимательно прочитываться и обсуждаться – в письмах, на вечерах в различных обществах и в коротких конспективных записях в рабочих тетрадях.
Однако помимо классики и А.Л. Толстая, и её муж, А.А Бостром активно следили за новинками, посещали книжные магазины и выписывали книги со складов и из издательств в разных городах России. Об этом также свидетельствуют записи в рабочих тетрадях А.Л. Толстой.
Вот одна из них:
«Выписать книги:
“Семейство Бронте” О. Петерсон (В пользу Общества вспоможения окончившим курс наук на Санкт-Петербургских высших курсах), цена 1 рубль2;
“Отверженный”, роман Д. Мережковского в 2-х частях, цена 1 рубль 50 копеек;
“Экономическая система Карла Маркса с научной стороны” Гросса (Издательство Павленкова, 20 копеек)3.
Дешёвая библиотека Суворина:
Данилевский. Исторические рассказы: Царь Алексей с соколом. Вечер в тереме царя Алексея. Екатерина Великая на Днепре. 20 копеек;
Его же. Украинские сказки. 20 копеек;
Кохановская. Старина. Семейная память. 20 копеек4;
Она же. После обеда в гостях. 15 копеек;
Эберс. Дочь египетского царя. Исторический роман для юношества. О. Шапир. 1 рубль 25 копеек5 <…>
Новая общедоступная дешёвая библиотека:
Сельскохозяйственная техника, каждая брошюра по 20 копеек;
“Как делают мыло” П. Смирнова;
“Об овечьей шерсти”;
Киплинг “Рассказы для детей”, две книги, перевод Рождественской»6.
Представляют интерес также обширные выписки, сделанные А.Л. Толстой из книги Алисы В. Стокгэм «Токология. Наука о деторождении»1, свидетельствующие о внимании автора выписок не только к художественной, но и к научной и научно-популярной литературе его времени.
Далее обратим внимание ещё на одно имя, вызывавшее интерес владельцев сосновского книжного шкафа и, в частности, матери будущего писателя, А.Л. Толстой. В приведённых выше записях мы уже упоминали на книгу Г. Гросса «Экономическая система Карла Маркса с научной стороны». Как показывает изучение переписки Толстой с мужем, её интерес к К. Марксу носил не случайный, эпизодический характер, а был достаточно серьёзным и длительным. Пик же этого интереса пришёлся на лето и осень 1897 г., совпав с началом сызранского периода в жизни Толстых.
26 августа 1897 г. А.Л. Толстая писала из Сызрани в Сосновку: «Ещё не успела я купить себе Маркса 2-ую часть. Если хочешь, чтобы я тебя крепко, крепко расцеловала, то купи его мне. Впрочем, тебя этим не соблазнишь, ты знаешь, что, как приедешь, и без Маркса, так всё равно я тебя целовать буду, сколько влезет»2. Несколько дней спустя она вновь вернулась к этой же теме: «Читаю до боли в глазах. Журналы мне все кажутся такими пресными! Наконец, добилась майскую книжку “Нового слова” и ожила: стало интересно, что ни статья, то забирает, положительно проглатываю книжку. Как жаль, что Маркса у меня нет, я бы зачитывалась им в своём одиночестве, а теперь вижу во сне, что ты приезжаешь и привозишь мне Маркса. Когда-то это будет?»3.
Впрочем, с посылкой жене Маркса А.А. Бостром не спешил – ухватившись за игривый тон жены, он решил не брезговать и Марксом тоже, сделав его пешкой в «амурных» делах: «Маркса без себя не пошлю, сам привезу, чтобы расплату получить»4. Не отставала от мужа и Толстая, охотно подхватившая этот тон: «Спасибо за Маркса. Расплата тебя ждёт, жажду расплатиться, терпеть не могу быть кому бы то ни было должной»5.
Однако шутки шутками, но и серьёзных размышлений о предмете они не отменяли. 16 сентября А.Л. Толстая сообщала: «Писать я теперь ничего не могу, в голове хаос какой-то из взбудораженных мыслей, надо, чтобы всё улеглось и вылилось в какие-нибудь формы. Хотя Маркса нам понимать не трудно, т<ак> к<ак> наше мировоззрение не так-то уж далеко от него стоит, но есть некоторые идеи, которые производят ломку. Или я ещё их недостаточно понимаю? Или, может быть, превратно? А в наши годы всякая ломка тяжела»6. А это – ещё месяц спустя: «А теперь ещё к этому присоединилось то, что чтение Маркса возбудило во мне умственную работу, и эта работа впервые происходит и совершается внутри меня без твоего ведома и участия. Я так поглощена ею, что не могу, напр<и-мер>, читать никаких других журналов, кроме “Нового слова”. Лешурочка, выпиши “Новое слово”, год его начинается с октября, ты, по крайней мере, будешь знать, над чем я думаю. Ах, если бы ты мог достать первый том Маркса и прочесть его зимой с заметками. Ты можешь достать его у Львова, у него есть, и тебе он даст. Как бы это было хорошо! Тимофей Ив<анович> и вся компания – это марксисты без критики. Маркс у них фетиш, это узкие сектанты, и мне положительно не с кем обменяться мыслями. Хотела даже Тим<офею> Ив<анови>чу написать, да раздумала. Ничего от него не жду»1.
Заинтересованность жены в новых взглядах хоть и не в такой мере, но передалась и А.А. Бострому, в ответных письмах стремившемуся соответствовать её марксистским увлечениям: «Ах, Сашуня, сегодня я рассказывал о Марксе и его учении, как бы ты думала кому? Познякову. И, знаешь, не совсем зря. Он усвоил мысль, идею Маркса. И вроде как согласился с ней. Но, говорит, <что> только мало кто поймёт это из народа»2.
Таким образом, есть все основания говорить о том, что и в сосновском, и в сызранском3, и в будущем самарском книжном шкафу в доме родителей А.Н. Толстого особое место принадлежало Марксу, чтение которого возбуждало в матери и отчиме будущего писателя «умственную работу», заставляло пересматривать уже сложившиеся взгляды и убеждения, искать диалог и понимание как друг в друге, так и в кругу тех знакомых, которые либо разделяли эти увлечения, либо старались после этого держаться подальше от людей, читающих Маркса «с заметками».
А завершим мы эту статью констатацией печального обстоятельства: ни одного издания из набитого книгами сосновского книжного шкафа до наших дней не сохранилось. Единственная книга из личной библиотеки А.А. Бострома и А.Л. Толстой, находящаяся сегодня в Музее-усадьбе А. Н. Толстого в Самаре, вышла уже в 1904 г. и к сосновскому шкафу не имеет, таким образом, никакого отношения. Это книга Г. Кремера «Вселенная и человечество», переданная в музей дочерью квартиросъёмщика Бострома Я.С. Гуревича Ниной Яковлевной. На внутренней стороне обложки книги имеется автограф А.А. Бострома, свидетельствующий о принадлежности ему данного издания4.
Куда подевались все остальные книги? Скорее всего, они или были проданы Бостромом же в первые послереволюционные годы, когда он голодал и жил, в том числе и за счет продажи имущества, или – А.А. Первяковой, собравшейся в начале 1920-х гг. навсегда покинуть Самару и поэтому избавлявшейся от всего, что было нажито её приёмными родителями, или, наконец, – были разграблены теми, кто поселился в квартире А.А. Бострома после его кончины5.
Хочется надеяться, что какие-то из этих книг пережили революции и войны и, может быть, и сегодня находятся в коллекциях букинистов. А значит – ещё есть шансы, что хоть что-то из шкафа, набитого книгами в доме «Детства Никиты», когда-нибудь вернётся в этот шкаф литературного героя и его автора.
Список литературы "Многоуважаемый книжный шкаф": какие книги читали прототипы героев повести А.Н. Толстого "Детство Никиты"?
- Лимарова М.П. Этапы создания мемориальной экспозиции // А.Н. Толстой. Новые материалы и исследования (Ранний А.Н. Толстой и его литературное окружение). Москва: ИМЛИ РАН, 2002. С. 225-232.
- Алексей Толстой и Самара: из архива писателя. Куйбышев: Кн. изд-во, 1982. 368 с.